Текст книги "Ворожей (сборник)"
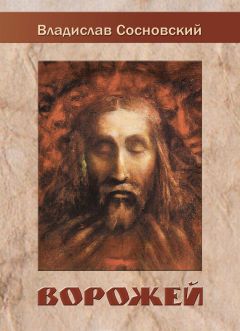
Автор книги: Владислав Сосновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Вечером я должен был забрать вещи из гостиницы и куда-то переселиться. Вот в этом и заключалась вся загвоздка.
И вот для начала я направился в Союз Писателей, где надеялся отыскать помощника капитана дальнего плавания, хотя этот самый, необходимый мне помощник, поэт Ваня Плетнев, очень просто мог находиться в данный момент в далеком плавании, где он одной рукой обеспечивал страну рыбой, а другой – писал маринистские стихи.
Городской Писательский Союз располагался в каком-то административном здании среди массы контор одиночных организаций, на дверях которых красовались замысловатые вывески. Наконец, в одном из коридоров я нашел то, что мне было нужно. Хорошенькая девушка с полными губками и густо накрашенными ресницами, исполнявшая здесь обязанности дежурной или секретарши, оживилась с моим появлением, ибо она явно скучала на своем ничего не производящем производстве.
Она, эта дежурная секретарша, сразу закурила для пущей важности и, разглядывая меня от волос до ботинок, ласково объяснила, что Ваня Плетнев сейчас в плавании и ожидается не раньше октября. Что до остальных, коих не так и много, все, естественно, в отпусках, на материке. Поэтому у писателей мертвый сезон. Она вздохнула, кокетливо поправив локон медно-рыжих волос. Вот и они с мужем, как только он не сегодня-завтра вернется из геологической экспедиции, и дня не задержатся в Желтом. Потому что, во-первых, тоска, а во-вторых, на юге бархатное лето в разгаре, и их уже заждались.
Теперь вздохнул я. Тучи надвигались вновь.
– Стало быть, никого? – безнадежно спросил я.
– Ну почему? – наморщила лобик хорошенькая дежурная. – Поэтесса Нина Шабалина здесь. Но она уехала к маме, в Ягодное. Есть еще Николай Аркадьевич Рыжов. Правда, он заядлый таежник, и как только сходит снег, его из города ветром выдувает аж до нового снега. А вы кто же будете? – полюбопытствовала труженица литературы.
– Мы будем Никитин Олег Геннадиевич, – дружелюбно улыбнулся я. – Проездом из Москвы. Сотрудник издательства Н. Не слыхали?
– Да, да, конечно! – с театральным пафосом соврала секретарша.
– Хотелось повидать кого-нибудь из писателей, – соврал в свою очередь я и поправил галстук, собираясь уходить. – Жаль, не судьба. Рад был познакомиться, – еще раз улыбнулся я, так, впрочем, до конца и не познакомившись. На секунду задержался в двери. Была одна заноза, которая не давала покоя, ныла, как рана, и я обернулся.
– Раз уж у нас с вами случилась такая очаровательная встреча, – выдавил я из себя, что из засохшего тюбика, так как дальше речь должна была пойти об одолжении, а одалживаться я ненавидел, но ничего не оставалось, как продолжить, и я продолжил: – У меня к вам огромная просьба. Мне предстоят поездки по области. Нельзя ли оставить у вас на время кое-какие вещи? Буквально на несколько дней. Пребывание в гостинице закончилось. Я оказался в затруднении.
– Ради Бога! – воскликнула дежурная так, словно всю жизнь ждала этой минуты.
Я облегченно вздохнул, подумав, что ложная скромность часто бывает только во вред и что, к счастью, не перевелись еще на свете такие вот добросердечные Анжелы Ивановны – так звали, как выяснилось, хорошенькую секретаршу.
Я волок к Анжеле Ивановне пудовые чемоданы и с ощущением благодарной радости ловил языком капли пота, катившиеся с висков прямо по щекам.
Сбросив вещи в комнату отзывчивой Анжелы Ивановны, я поцеловал ей ручку, рассыпался в комплиментах, при этом был совершенно искренен и выразил сожаление, что она столь рано вышла замуж, пусть даже за отважного северного геолога.
Я был красноречив, а Анжела Ивановна цвела на глазах, напуская на себя ту самую ложную скромность, от которой, как выяснилось, нет никакой пользы. Расстались мы близкими друзьями, во всяком случае, отношения наши сложились в самой мажорной тональности.
Теперь я неторопливо брел развальной походкой портового грузчика, воображая себя не меньше, чем Куприным, которого в свое время знала и любила вся трудовая публика Черноморского побережья. Тут было другое море, другие, может быть, люди, но плечи и руки нужны были такие же. Руки и плечи я имел крепкие и потому был твердо уверен в своей пригодности к такому делу как разгрузка-погрузка портовых судов. Ну покатаю бочки, потаскаю мешки, ну поворочаю-поношу ящики и коробки. Кроме мышечной пользы и бодрости духа – никакого вреда. Заработаю себе и на Анадырь, и на Певек, и на Бухту Провидения. Самостоятельно. Набью железные мозоли и полечу. Без всякой дармовой лафы и придворных демагогов. Значит, так решено Наблюдателем. И, скорее всего, Он все выстроил и определил верно.
Я вытащил дорожного своего путника, костяного философа и вопросительно посмотрел на него, мол, что скажешь, дружище. Философ, как и всегда прежде, глубокомысленно наблюдал за какой-то основной точкой в пространстве и вдруг изрек: «На всякий случай запомни, что слово «характер» происходит от древних терминов «отметить» и «запечатлеть». Иные же отождествляют слово «характер» со словом «клеймо», которое вавилонские кирпичники ставили на каждый выделанный кирпич. У каждого из них было свое клеймо. Поразмысли над этим знанием. Гори всегда, везде и никогда не угасай». Тут мыслитель замолчал, и я благодарно спрятал его в карман, так как понял, что мой друг все-таки не безучастен к моей судьбе и, сидя в темном полотняном убежище, переживает о ней и подпитывает мою энергию.
В порту меня приняли по-мужски. По-деловому. Без объятий и хлеба-соли товарища Придорожного. Рабочие, конечно, им были нужны.
С меня немедленно стребовали документ, предварительно оглядев физиономию: не имеется ли на ней следов крепких напитков. Этого не наблюдалось, и тогда береговой начальник кадров, человек в морском бушлате, с густыми морщинами на лбу, при красивых серебряных усах, стал листать мой паспорт. Портовые работяги по случаю обеденного перерыва сидели вокруг него. Проштудировав документ от корки до корки, кадровый начальник сдвинул фуражку на затылок и озадаченно хмыкнул. Похоже было, мой мандат чем-то его существенно не устраивал.
– Ты это… – сказал врастяжку распорядитель грузчиков и прочих морских сил. – Откудова, говоришь, прибыл?
– Из Москвы, – ответил я, холодея, так как начал улавливать, что на моем пути возникло какое-то новое препятствие. Какая-то очередная, жуткая преграда.
– Видали! – объявил комиссар по кадрам остальным портовым трудягам, заинтересованно смолившим речморские папиросы «Беломорканал», красноречиво напоминавшие о нашей великой истории. – Он, понимаете, из самой Москвы приперся сюда грузчиком. Всю жизнь мечтал. Там что, в Москве, нечего грузить стало?
– В чем дело? – спросил я, скрипнув зубами. – Берете, нет?
Командующий кадрами протянул мне мой паспорт.
– Езжай, сынок, к себе в Москву и там грузи хоть черта лысого. А тут, паря, погранзона. Особая прописка требуется. Это целое дело. Это тебе необходимо контракт заключать на работу в порту и все такое прочее. А ты, я чувствую, не затем приехал, и тут – залетный комар. Короче, без штампу о прописке в пограничной зоне тебя, мил человек, только в тюрьму примут. Тама любят таких дураков. Ты вообще кто такой?
– Писатель, – сказал я зло, ощущая плавный полет по волнам общего идиотизма.
– Ну вот, – огорчился земной моряк. – Писатель, а дурень. Никак не поймешь: без штампу ты тут г на палочке. Иди, сядь на сопке и пиши, хоть запишись. Но чтоб тебя никто не видел. Ясный компот?
«Компот», конечно, был предельно ясным. Правда, идти писать на сопку я, понятное дело, не стал, а стрельнул у одного трудящегося грузчика «Беломорканальскую» папиросу и присел на валявшийся пустой ящик, чтобы на нем, на этом ящике, придумать какую-нибудь новую мысль, которая явилась бы реальным воплощением того, о чем поведал мне в последнюю встречу монах. Но шансов, честно говоря, для рождения такой нематериальной продукции имелось крайне мало. Оставалась последняя соломинка – уголовный Гена, до встречи с которым было еще часов пять.
Как-то все на беду не складывалось с самого начала. Не прозвенел будильник перед отлетом в Москве, и я вскочил с постели чисто по биологическому ощущению времени. Затем (с чего бы это?) неожиданные проводы бывшей жены. Что это было, я никак не мог взять в толк. Демонстрация неостывших чувств? Или просто прощальная встреча. Да еще с вручением моей старой, дурацкой фотографии. Все это выглядело более чем странно. Действительно, зачем она ехала божьей ранью в такую даль, в аэропорт? Затем – потеря денег, документов. Наконец, отсутствие кого-либо в местном отделении Союза Писателей. Невозможность устроиться на работу Какой-то во всем этом чуялся непростой заговор, какая-то, прямо скажем, чертовщина. Все, конечно, было известно Наблюдателю. Но разве Он скажет, в чем тут суть, и какую очередную игру затеял. Что-то Он, понятно, как конструктор наших судеб, в отношении моей доли выхитрил, а вернее, вымудрил. Это было ясно. Однако в данный момент не утешало. Желудок снова ныл от голода.
Я докурил папиросу. Желудок снова прилипал к позвоночнику, а финансы, как говорится, пели арии. Бесцельно побрел по территории порта. На судах, стоявших у причала, шумела трудовая жизнь. Россыпью белых искр сверкали огни газосварки. Вовсю пульсировала погрузка-разгрузка. Молодые ребята ловко таскали по трапам кислородные баллоны. Мотали умными головами подъемные краны. Словом, шла та буднично веселая жизнь, на которую у меня до зуда чесались руки, и от которой тошнило, потому что я был бессилен что-либо сделать. Мало того, что мною, как последним идиотом, были потеряны деньги и документы – теперь я стал как бы опальным бродягой и шатуном. Интересно, чем мог порадовать меня мой новый знакомый Гена. Я уже ни во что не верил. Надежды таяли, как медузы на песке. Что сулил мне дальше Наблюдатель, предположить было просто невозможно. Со мной случилось то, что называется: влип. Конечно, бывает и хуже, значительно хуже, но сознание этого бодрости не приносило. Даже понимание того, что безвыходных ситуаций не бывает, сейчас никак не грело, ибо впереди была черная ночь среди белого дня.
Куда я шел, не знал. Шел, чтобы производить в жизни хоть какое-то движение. Но брел в совершенную пустоту.
На трагической моей дороге лежали различные предметы бытия, производства и флотских принадлежностей: галька, камни, железные останки неизвестно чего, куски корабельных трапов, ржавые тросы, переломленный пополам якорь, дохлая ворона и другие поразительные вещи, которые текли сквозь мое сознание, как мутная вода. Вдруг я остановился и услышал сердце: передо мной лежал целый даже никем не надкушенный бублик с черными крапинками мака по всей окружности. Его, этот бублик, кто-то, скорее всего, потерял. Или просто бросил от сытости, чтобы не засорять карман. Прямо скажу, во мне смешалось множество ощущений. Неловкость, стыд, печаль, брезгливость, злость, ненависть к року и щенячья благодарность к брошенному куску. Во всяком случае, слюнные железы, независимо от моих ощущений, заработали мгновенно, сразу.
Я воровато оглянулся. Сзади, шагах в двадцати, за мной следовал походкой здорового, сытого человека беспечный морской рабочий.
«Вот морда, – подумал я о портовом трудящемся. – У него-то, небось, все в порядке. И деньги в кармане и паспорт с пресловутой пропиской за пазухой». Подумал и стал ждать, пока этот добротный парень не пройдет себе мимо своей благополучной походкой. Мне нужно было, чтобы он прошел, потому что при нем поднять бублик, который валялся у меня под ногами, я не мог.
Я засунул руки в карманы и стал насвистывать какую-то мелодию, словно в жизни было все расчудесно. Словно я просто любовался окружающей портовой суетой. Рабочий, скорее всего, из грузчиков, прошел мимо, внимательно поглядев на меня, как на явление художественного свиста.
Как только морской грузчик потерял ко мне любопытство, я схватил бублик и быстро сунул в карман. Теперь нужно было, чтобы работяга устранился подальше. Когда же он отдалился на нужное расстояние, я вытащил находку и впился в нее зубами, предварительно стряхнув пыль и возможную грязь.
Бублик оказался не первой свежести. Правду сказать, старый, совершенно окаменелый. Может быть, его потеряли еще в прошлом году. Может быть, потеряли именно в тот момент, когда я сидел с Николаем Родионовым в ресторане и ел бутерброд с красной икрой, запивая его «Шампанским». Я пил «Шампанское», а кто-то уже бросил мне сухой бублик. Да. «Чудны дела твои, Господи, – подумал я. – Кому-то не хватает еще одного бриллианта на груди, а кому-то – черствой корки на земле».
Бублик я растянул до вечера, так как других перспектив получить случайное пропитание не предвиделось.
В означенное время я снова вошел под теплые своды кафе «Ласточка». Гена, будучи верен своему слову, уже поджидал меня за дальним столиком.
Все было как вчера, словно оно и не перерождалось в сегодня. Та же полная продавщица за стойкой. То же пиво. Те же на столах банки с икрой.
– Подкрепись, – предложил Гена, считая, видимо, приветствие лишним атрибутом общения. Однако предложение подкрепиться было как нельзя кстати.
Я выпил кружку пива, поел рыбы, икры и на душе повеселело.
– Расклад такой, – доложил Гена, пока я уплетал закуску. – Сейчас двинемся к Сергею Ивановичу, моему знакомому. Бывший моряк. Можно сказать, морской волк. Но волк в отставке. Проще говоря, на пенсии. Полгода назад схоронил жену. Ну и, сам понимаешь, горюет человек. Ясное дело: прожил с женой всю жизнь, а тут – один. Я говорил с ним о тебе. Он согласен. Более того. Тащи писателя, кричит, не раздумывая. Буду только рад. А то, говорит, хоть вой от тоски. Комната у него, правда, в коммунальном коридоре. Барак. Деревяшка. Зато – на самом берегу, что тоже в смысле впечатлений вполне романтично. Да тебе, впрочем, выбирать не приходится. Поживешь. Оглядишься. Прикинешь, что к чему. Так, на волне общей регенерации и выплывешь из ямки. Скажу тебе честно, твоя ситуация – комариный укус по сравнению с тем, что пережил я. Так что не горюй. Господь опустил – наверное, было за что – Господь и поднимет. Он милостив. А сейчас, видимо, простая проверка: кто ты есть на самом деле. Вот и все. Вся, можно сказать, философия. Ладно. Допивай и пошли.
Действительно: залив, берег, барак. По темным вечерним хребтам сопок – золотые ожерелья огней. Синее морское плато в черной бугристой раме.
Сергей Иванович был в спортивном костюме и тапках на босу ногу. Он вышел нам навстречу довольно твердо, несмотря на затяжное горе. Отрекомендовался капитаном второго ранга. Широко, но искусственно улыбнулся. Видно, беда зацепила его не на шутку. Хозяин был худ, бледен, со впалыми щеками, на голове имел жидкий, взлохмаченный волос.
В захламленной комнате стоял затхлый дух. На столе торчала бутылка водки, несколько пустых сиротливо ютились в дальнем углу.
– Рад. Очень рад! – засуетился прежний моряк. – Прошу вас прямо к столу. У меня пельмени на подходе. Гена сказал, что… Вот я и… Конечно, когда так… Когда случается… Не знаешь вообще, как… Одним словом, живите. На здоровье. И мне хорошо. Хоть кто-то рядом. Потому меня, знаете, мысли одолевают. Грешен я перед Анечкой моей, Царство Небесное. Ох, грешен! Мамочки мои! Походы, заграницы, карнавалы, женщины… Тогда ведь мы не знали, что есть грех. Откуда в человеке… Да вы присаживайтесь. Вот сюда, пожалуйста. Прямо к столу. Сейчас выпьем, закусим. Я так рад. Ей-богу. Именно что… Ведь как бывало… Она все терпела, Анечка моя. Святая была. Почему человек не чувствует, что нельзя этого делать. А вернее, чувствует, но делает. А? Как вы считаете? Я сейчас много понимаю. Да. Анна Федоровна святая была. Истинно святая. Все прощала. Да и как не прощать. Ведь не мы судьи. Как можем?.. Но вы располагайтесь. Чувствуйте себя… Доставайте рюмочки в шкафу, а я уже несу пельмени. Замечательные. Из кижуча. Сам готовил.
Сергей Иванович удалился.
– А что сделаешь, – сказал Гена. – Горе. Посочувствуешь. Потерпишь. Куда деваться. Потом что-нибудь придумаем.
Деваться и впрямь было некуда. Мы дружно горевали с пострадавшим моряком ровно неделю. Неделю я аккуратно по просьбе капитана утром и вечером посещал продовольственный магазин, чтобы запастись провиантом для закуски и спиртным на помин души рабы Божьей Анны Федоровны. Днем отправлялся к океану и бродил по берегу часами, так как ничего другого горюющей, тяжелой головой придумать было нельзя. Отказ же от спиртного Сергей Иванович воспринимал как личное оскорбление и более того – оскорбление светлой памяти святой Аннушки. Тут выбора не было.
Я садился у подножья сопки и рассматривал причудливые города, возникавшие на гладкой поверхности моря. В эти далекие города черными щепками заплывали корабли. Окрестную тишину надрывали чайки. Весь мир пах йодом и канатами.
После завтрака Сергей Иванович, нагоревавшись с утра, ложился отдыхать. В изголовье его стоял портрет незабвенной Анны Федоровны, красивой, моложавой женщины с пышными льняными волосами. Моряк некоторое время туманно смотрел на портрет, чтобы, видимо, напитать свою память дорогим образом, а затем закрывал глаза до вечера. Мне ничего не оставалось, как исчезать восвояси.
К концу дня мы затевали, как правило, общий ужин, и я в который раз выслушивал долгую повесть капитана о его удивительной, трудной и страстной любви. Иногда Сергей Иванович заговаривался, нес околесицу, каялся и плакал, уткнувшись мне в грудь. Я, вздыхая, утешал его ладонью по редким волосам.
Из комнаты своей моряк теперь выходить почти перестал, и ноги его начали отвыкать от земли. Он-то опрокидывался на диван, глядя подолгу на портрет нежной супруги, то что-то невнятно бормотал в постоянном покаянии, то просто засыпал, оглашая комнату нездоровым, каким-то истерическим храпом. Количество пустых бутылок увеличивалось, а надежды мои на благополучный исход нашего знакомства пропорционально таяли, как апрельский снег.
Я таскал с берега всякие диковинные предметы: коряги, камни, крабьи панцири и клешни, деревянно-высохших рыб.
Сергей Иванович одобрял мои находки.
– Значит, ты любишь море, – патриотично радовался он. – А я, видишь ли, в первую очередь люблю, если морем интересуются. Знаешь, океан – это целый мир. Космос! Это – ум земли. Мыслеформа! Вот. Я тебе, если хочешь, могу столько про океан доложить, во всю свою бурную жизнь не опишешь. Но зато, во-первых, можешь стать как Новиков-Прибой. Это не как-либо. А потом, помнишь, был такой художник Айвазовский? Анечка моя очень обожала Айвазовского. Мы с ней, когда в Феодосии жили, в санатории, чуть не каждый день в его галерею хаживали. Ну и, в-четвертых, конечно, то, что я тебе расскажу, это жизнь. Понимаешь? Людям всегда любопытно за жизнь читать. Не какую-нибудь чепуху-фантазию, а за жизнь. Это – в-третьих. А в-пятых – выпьем. Помянем мою Анечку. Спаси ее, Господи!
Мы снова в несчетный раз поминали пресвятую Анну Федоровну и я, пропуская мимо слуха уже известные слова капитана, думал, что надо каким-то образом выбираться из этой поминальной литургии и что добром она не кончится.
Так и вышло. Добром не кончилось.
Как-то поутру бывший моряк проснулся особенно хмурый. Он, конечно, выпил накануне немало горькой и поэтому, пробудившись, сильно хворал.
Я тоже пошевелил наждачным языком и с тоской пронаблюдал, как Сергей Иванович чуть не разбил себе зубы о стакан с водой, пытаясь затушить пожар внутри организма. Капитан, кряхтя, пошаркал по нужде во двор, а вскоре влетел в комнату, словно за ним гналась шайка бандитов, и порывисто затворил замок на все повороты. Глаза его метались по сторонам, отражая ужас мозга. Носки на пенсионере флота как всегда отсутствовали.
– Там это… – в страхе сообщил бывший моряк.
– Что? – не понял я.
– Воробьи на бельевых веревках.
Я удивленно поднял брови.
– Ну и?..
– В милицейских фуражках.
– Кто?
– Воробьи. Ты что, не понимаешь? А в коридоре – паук. Вот такой вот. – Сергей Иванович развел руками во всю ширь. – Да при нем две крысы. Как две собаки. Надо отбиваться. У тебя граната есть?
Стало ясно, что дело плохо.
– Есть «лимонка». Сейчас принесу, – сказал я. – Сиди здесь, Иванович. Никуда не двигайся. Не то съедят.
– Хорошо, – согласился капитан, нервно озираясь. – Только быстрее. Вон, смотри, мохнатая лапа под дверь уже лезет.
Я выскочил на улицу и бросился к ближайшему телефону.
Через полчаса прикатила машина. Из нее вышли два не очень интеллигентных санитара в белых, но отвратительно грязных халатах. Они привычно грубо взяли заслуженного моряка под локти и потащили через двор.
– Вон они! – закричал Сергей Иванович, радуясь своему тайному зрению. – Воробьи в ментовских фуражках! А ну, кыш, мусора!
Работники больницы сонно переглянулись и кинули боевого капитана в зеленые воронки с красным крестом. Вскоре вся спасательная команда скрылась за поворотом. Теперь заинтересовались соседи, с любопытством наблюдавшие проводы горемычного моряка, и полюбопытствовали, кто я есть такой.
Я отрекомендовался.
– Собутыльник, – определила меня тощая, как велосипед, дама неопределенных лет с каракулевой шерстью вместо волос. – Собутыльник, – подтвердила она, повернув каракулевую голову, видимо, к своему мужу, тучному малому с неподвижным лицом. – Мы комнату закроем, – обратилась дама ко мне. – Сергей Иванович оставил нам на всякий случай ключи.
– Сделайте одолжение, – расшаркался я. – Потом можете даже лечь на пороге.
Взяв заплечную сумку, я вышел из дома несчастного мореплавателя. Куда, однако, я вышел, снова было неведомо. Погодные условия в этот день, надо сказать, значительно отличались от тех, какие были, к примеру, на Гаити или хотя бы в нашем Крыму. Поверху шел резкий холодный воздух, таща по небу рваные лохмотья серых туч. Внизу, на земле, усердный ветер дотошно рылся в кучах мусора, аккуратно сгребал дорожную пыль и заботливо швырял все это мне прямо в лицо.
Привыкшее к каверзам природы население быстро облачилось в плащи и куртки. Только я, одетый в добротный костюм, напоминал выскочившего за сигаретами служащего. Демисезонная одежда пока что хранилась у Анжелы Ивановны.
Неожиданно из верхнего воздуха просыпался колючий дождь. Улица стала неуютной.
Я нырнул в ближайший магазин. Тут пахло хлебом, рыбой и колбасой. Можно было, конечно, постоять у мутного широкого стекла витрины, полюбоваться в тоске на черные зонтики летучих прохожих, можно было, сглотнув слюну, вспомнить лучшие времена, хорошие рестораны, но голодный, грузный кабан завозился во мне, и я, цокая копытами, прошел к директору магазина. Мне никогда не доставляли удовольствие подобные аферы. Однако что было делать?
Дальше все происходило по спонтанной схеме авантюрной импровизации. Писательский билет, максимум благожелательности, обаяния, улыбок, обещаний объективно осветить в прессе работу торговой сети Города и особенно магазина №…, возглавляемого прекрасным директором (Ф.И.О.). Несколько деловых вопросов, записей в блокноте, легкий, скользящий намек на нечаянный голод, случившийся вследствие обилия работы, и вот мы уже сидим с директором, милейшим человеком – Аршаком Васгеновичем Симоняном. Пьем коньяк, закусываем крабами и копченой курицей. Забегая вперед, скажу, что Аршака Васгеновича я не обманул. Но в тот день встреча с человеком из далекой Армении была последним приятным событием.
Спасаясь от непогоды, остаток дня я провел в читальном зале, где, забившись в дальний угол, просто уснул, сморенный коньяком, дождем и печалью.
Учтивая служительница осторожно потрогала меня за плечо, когда в читалке уже никого не осталось.
Я вышел в темноту и сырость чужого и, как мне представлялось, враждебного города.
Моросил дождь. По мокрой дороге шуршали машины. Нахохлившиеся, сутулые прохожие торопились в свои жилища. Из-за висевшей в воздухе влаги из окон шел тусклый свет и тут же, на выходе, поглощался моросью, не дававшей электричеству разгульно разлиться по всей округе.
Внезапно я вспомнил об Анжеле Ивановне, но искать ее участия было уже поздно.
Голод снова подгрызал меня изнутри. Костюм мой напитался сыростью. Знобило.
Я заглянул, конечно, в кафе «Ласточка», но единственного друга-Гены там не было. Тогда я решил добраться до окраины города и перебыть до утра в какой-нибудь пустой постройке или брошенном сарае.
Я сел в автобус и покатился все равно куда. До конечной остановки.
Конечная остановка была голым пустырем на берегу залива, на другой стороне которого слабо мерцали, как далекие звезды, огни чуждого города. Вокруг пустыря смутно вырисовывались береговые хибары с неясным, словно от керосинок, светом в окнах. Сигареты у меня кончались, но я закурил и пошел к тем угрюмым хатам. Наверное, с десяток из них мрачно проводили меня в темноту, глядя в ночь подслеповатыми, желтыми глазами.
Во тьме я разглядел на берегу несколько перевернутых лодок и подумал, что, в крайнем случае, придется переночевать под одной из них. Проситься на ночлег я себе запретил. Пить беду решил до конца. Тут у меня что-то заклинило.
На краю улицы стоял пустой дом. Я это почувствовал как-то сразу. Почувствовал, что в нем никто не живет.
Эта хибара стояла особняком. На отшибе. Как чей-то большой забытый сарай. В окнах было темно, и забор отсутствовал.
Я осторожно пробрался к заброшенной хате. Толстая деревянная дверь была чуть приоткрыта, и стоило едва коснуться ее, как она легко поехала на меня с мягким сырым скрипом.
Я шагнул в темное нутро жилища, и в лицо мне ударил тяжелый мокрый запах провалившегося погреба, видно, древесные полы были изъяты отсюда хозяйственными соседями.
Я зажег спичку. Действительно, полов в хате не было. В дальнем углу темнела какая-то куча, как мне показалось, из наваленных мешков и старых фуфаек.
Спичка погасла. Я зажег новую спичку, подошел ближе. И обмер. Поверх той кучи лежал труп. Усопший был мужчиной средних лет. Одежда его сливалась с тряпьем, и я понял, что умерший был из бродяг.
Спичка обожгла пальцы. Я не без дрожи в руках воспламенил еще одну.
Не мигая, труп сосредоточенно смотрел в пустоту ночи, словно видел сквозь темный потолок нечто никому неведомое. Подпухшее лицо его оттеняли бугры щек, резко очерченные во мраке белым пламенем спички.
Меня пробил озноб, захотел поскорее покинуть это зловещее место. Но труп неожиданно спросил влажным загробным голосом, не поворачивая мертвой головы: «Хочешь здесь жить?»
В одну секунду меня вынесло наружу Дверь, по-моему, я снял с петель, но сейчас установить точно это невозможно. Сколько я бежал и куда – на плечах истории.
Я остановился, потому что ноги уже подкашивались. Предо мной возникла серая пятиэтажка, и я нырнул от холодной мороси в вонючий подъезд, так как деваться больше было некуда. К тому же, пока я бежал, мне все время казалось, будто кто-то прилипчиво гаденько хихикает у меня за спиной.
Я взлетел на пятый этаж, и устало сел в угол, прислоняясь сразу к двум стенам. И тут же провалился в тягучий, муторный сон, набитый мертвецами, погонями, кровью, затонувшими деньгами и прочей дрянью. Очнулся от скрежета железной двери где-то на нижнем этаже.
К полудню я снова бродил по территории порта, поскольку испытывал острую необходимость быть среди трудящихся людей. Голод все сильнее терзал меня, и я глушил его последними сигаретами.
На унылом пути моем мне повстречался морской грузчик, который был в числе наблюдавших мое критическое положение в отделе кадров под открытым небом. Я сразу узнал его. Да и он, вероятно, тоже признал меня. Во всяком случае, проходя мимо, он как-то особо пытливо взглянул на мою особу. Я остановился. С тайной надеждой посмотрел ему вслед.
Вдруг морской грузчик обернулся и позвал меня. Я пошел навстречу портовому рабочему, так как он стоял и ждал меня на пути к причалу.
– Пойдем со мной, – скомандовал работяга. – У меня на тебя вся информация в голове есть. После беседы с кадровиком ты теперь личность известная. Так что топай следом, писатель. Я тебя селедкой снабжу. Суп, правда, вчерашний, однако на баранине. Вполне толковый суп. С томатом, с рисом. Навроде харчо. Смекаешь? – улыбнулся рабочий флота. – И всякий другой раз, если в пузе пища кончится, дуй прямо ко мне без разнообразного стеснения. Спросят – скажешь: до Гаврилыча. И весь хрен до копейки. А каюту я тебе сейчас покажу. Насчет где ночевать, тоже научу. Понял меня? Так что не дрейфь. На корабле переспать нельзя: погранцы посторонних ловят, как тараканов. Зато есть надежное место на причале. Обратно скажешь: от Гаврилыча с судоремонтного парохода «Сиваш». А трудности… что ж… Жизнь прожить – не море переплыть. Чего-нибудь в результате существования образуется. Понял меня? Это тебе, как я кумекаю, испытание послано. Как, мол, крепкий ты мужик или нет? Чего уж там с тобой приключилось – меня, в принципе, не касается. Но чую, какой-то вышел у тебя вывих. Не бочки же ты сюда катать летел? А, Москва? Наши мужики так и говорили: чего-то, говорят, на него свалилося. Так – нет?
– Ясно, не бочки, – сказал я, поняв, что меня тут уже все раскусили, как сухой круглый бублик, который я еще недавно держал рукой в кармане, словно драгоценный камень.
Мы взошли по трапу на железную палубу судоремонтного парохода «Сиваш», по бортам которого люди в фуфайках с треугольниками тельняшек бодро таскали на плечах кислородные баллоны. Тут шла веселая трудовая жизнь. Трещали электроды, гремели молотки, из нижних трюмов, приспособленных под мастерские, пел неустанный электрический хор. Словом, кругом царило счастье труда.
Мы с моим рабочим приятелем прошли по чему-то шаткому, под чем-то пролезли, через что-то перепрыгнули, спустились, нырнули, проследовали и очутились в темном металлическом коридоре, где и находилась каюта моего спасителя.
Дверь открылась с радостным визгом тюремной камеры, и мы оказались в небольшой железной комнате с двумя круглыми окнами-иллюминаторами, сдвоенной, – одна над другой, – кроватью, железным столом, железным стулом и вешалкой. Вся эта роскошная мебель была для прочности навечно привинчена к полу.
Мой проницательный друг снял фуфайку, бросил ее на нижнюю койку и, наконец, представился. Звали его Семеном, а рука силой сжатия напоминала разводной гаечный ключ.
– Падай куда-нибудь, – радушно предложил Семен. – Отдыхай. Открой только форточку. Душно, как в кастрюле. А я порулю за харчом. Ну и селедки, конечно, тебе запасу, Москва. Ты сроду такой не пробовал, – улыбнулся он и исчез за дверью с тюремным сопрано.
Я открыл иллюминатор. В лицо мне ударил свежий, йодистый запах моря. За бортом кричали чайки про свою птичью жизнь и усатый, строгий морской котик все нырял в пучину недалеко от парохода, совершенно не пугаясь индустриальных звуков. Вдали маячили такие же сопки, с которых я совсем недавно собирал урожай брусники и, возможно, где-то там тихо покоился мой бумажник, от упоминаний коего у предводителя впередсмотрящих товарища Придорожного делались на лице нервные судороги, а у меня нехорошо ныло под левым ребром. Не потому что я жлобствовал или скорбел по поводу утраченных денег, а потому, что помнил Валины слова о розовой чайке. Я действительно бредил ее найти. В самом прямом и, возможно, переносном смысле. Ибо она, розовая чайка, почти такая же редкость, как бивни мастодонта. Но… Бумажник мой был там, а я – здесь. Точек соприкосновения между нами не предвиделось. Без этих же точек ни о каких розовых не только чайках, а даже бабочках и стрекозах не могло и речи идти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































