Текст книги "Ворожей (сборник)"
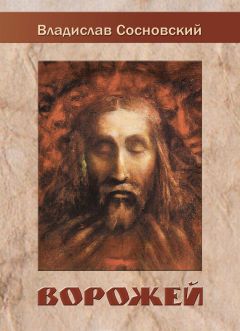
Автор книги: Владислав Сосновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 37 страниц)
Потом начался какой-то словесный винегрет, и Борис понял: дело плохо. Он вскочил и набрал номер «скорой».
Машина приехала довольно быстро. Врач и с ним двое подручных медиков осмотрели Тамару. Но и проснувшись, она никого не видела, продолжая говорить с кем-то другим.
– Она верующая? – спросил врач?
– Да, – сказал Борис. – Но не очень.
– Я где-то читал, что глубокая вера приводит к фанатизму, – сказал один из медиков.
– У нее другое, – объяснил Борис. – Она не может родить ребенка. Поэтому..
– Ясно, – сказал врач. – Мы заберем ее. Психоз – это не шутки. Это, может быть, звонок с того света. Правда, – замялся доктор, – потребуются лекарства и все такое.
Борис понял его и достал из пиджака сто долларов.
– Хватит? – спросил он.
– Для начала – вполне, – ответил врач. – С нами ехать необязательно. Вот адрес. – Он быстро набросал на листочке координаты больницы. – Дня через три-четыре можете ее навестить. К этому времени, думаю, она уже очнется. Но учтите, лечение долгое. Минимум – месяц, полтора.
Подручные медики осторожно подняли Тамару. Она все еще не понимала, что происходит и водила по сторонам безумными глазами.
Борис с тяжелым сердцем провожал эту печальную процессию до улицы.
У подъезда негромко урчал медицинский «Рафик», от которого, казалось, пахло больницей.
Перед машиной санитары положили Тамару на носилки, и на колесиках, точно погибшего преподавателя, закатили внутрь.
«Рафик» укатил, дымя синим хвостом.
Борис вернулся домой. Снова ступил в чугунную, давящую тишину, от которой могли лопнуть барабанные перепонки.
– Ну и денек, – сказал он. – Два-три таких, и можно съехать с ума.
Потом он лег спать и мгновенно заснул, будто в бездонную яму провалился.
На следующее утро Борис взял Джульку и совершал пробежку к святому ручью. Весна дохнула на него свежим, оздоровительным воздухом. Джульетта нырнула в глубокую зелень желтым, сверкающим шаром. Борис посмотрел в ясное, чистое небо и вдруг снова услышал звуки. Что есть силы он бросился назад, не заметив даже, что за ними с Джульеттой галопом увязался Боцман.
Переступить чужой порог Боцман, однако, не решился. Так и остался стоять перед дверью. Тут только Борис обратил на него внимание.
– Ну входи, Боцман, – сказал он дружелюбно. – Чего тебе болтаться без приюта? – И сразу бросился к инструменту.
Теперь он работал, сжигая себя. Иногда вспоминал Анну, тосковал о ней, хотел показать уже написанные клавиры, но она была так далеко, словно на другой планете. Борис боялся отрываться.
Тамара медленно поправлялась. Мешки под глазами исчезли. Но вид у нее был жалкий. Она выходила к Борису в нелепом халате с покорно печальной улыбкой, будто потеряла дорогого и близкого человека. По сути, так оно и было.
– Здравствуй, Лапа. – И земля со скрипом поворачивалась на своей оси, возвращая Бориса в их прошлую жизнь. Как в калейдоскопе, за одну минуту проносились былые концерты, овации, цветы, города, люди. Что говорить: все было. Олимп. Высота. А теперь?
– Здравствуй, Лапуля. Как поживаешь?
– Ты совсем зарос. Одичал без меня. Что это с тобой?
– Пишу «Сад». Третью часть. Ничего не замечаю. Не до себя сейчас, – улыбался Борис. – Ни одной свободной минутки.
Дальше разговор не складывался и был похож на скомканную бумагу.
Тамара почувствовала отчуждение мужа.
– Ты, наверное, сильно устаешь, Лапа?
– Не знаю, Лапуля. Может быть. Когда работаешь, будто перелетаешь в другое измерение. Ты же знаешь, там все иначе.
– Это верно, – соглашалась Тамара. – Ну работай. Помогай тебе Господь.
– Вас тут хоть как-то кормят? – обрывал тему Борис. – Ты похудела.
– Именно, что как-то. Перестроились полностью.
– Я принес тебе еды. Целый пакет. Потом разберешь.
На этом разговор и кончался. После вынужденного, недолгого молчания Борис наспех обнимал Тамару и снова превращался в призрачный, но живой, пульсирующий слух.
Так проносились дни, недели. Борис не замечал времени. Не знал, какое число. Даже час. Будильник стоял незаведенный, а наручные часы валялись где-то под умывальником.
Борис вскакивал с рассветом и, наскоро умывшись, начинал слушать.
«Господи, помоги мне. Пошли голоса и звуки. Помоги»! – шептал он и снова прислушивался, как волк, ловивший дальний запах. И Наблюдавший за ним помогал. Тогда Борис хватал инструмент, воспроизводил услышанное и лихорадочно записывал, бросая по привычке листы как попало на пол. Он полностью переселился в другой мир, в пустыне которого были только Борис, Наблюдавший и звуки, осыпавшиеся с вершин барханов и дюн, как сдуваемый ветром песок. Здесь не было места мыслям: что станется с третьей частью «Сада»? как она будет называться, и что с нею приключится позже? примут ли ее? зазвучит ли она когда-нибудь в исполнении оркестра? – все это было неважно. Важно было то, что Наблюдавший одаривал Бориса нездешним содержанием и смыслом. Он вел его в том, другом мире по неведомым тропам, обжигал восторгом, замиранием сердца и болью печали по всем ушедшим жителям Земли, простой и сложной, как свирель.
И вдруг ворота захлопнулись. Канал связи оборвался. Борис больше ничего не слышал.
Он заметался, как зверь, попавший в капкан. Но даже теней звуков больше не существовало. Мелодии и темы умерли. В ушах стояла зудящая, подземная тишина.
Борис сжал руками голову и упал на диван. Тупо заныло сердце. Какое-то время он лежал неподвижно. Тело будто омертвело. Все окружающее было заполнено тонким, отвратительным гудением, похожим на неумолчный писк металлических комаров.
Борис поднялся и прошел на кухню. Достал из холодильника дежурную бутылку и налил рюмку водки. Через некоторое время после выпитого противный писк пропал. Борис немного успокоился. Он знал, что канал связи не может работать беспрерывно. Значит, нужно немного переждать.
Борис посмотрел в окно. Темнело. Густая зелень весны тихо стояла за окном плотной стеной уже народившейся жизни. А над пушистыми деревьями и лиловыми кустами сирени висели яркие, теплые звезды.
Он вспомнил: нужно забрать собак.
Боцман дисциплинированно, как всегда, сидел у парадного. При виде Бориса Борисовича залился звонким радостным лаем. Тут же из темного провала кустарника вылетела желтым фонарем взлохмаченная красавица-Джулька.
По дороге назад машинально заглянул в почтовый ящик. Газеты, журналы, рекламные листки, письмо. Борис не стал разглядывать конверт. «Наверное – Тамаре», – подумал он. Ему уже сто лет никто не писал. К тому же Боцман надсадно лаял, звал домой. Хотел каши.
Покормив собак, Борис Борисович нечаянно взглянул на конверт. Письмо пришло от друга из Германии, куда в числе прочих стран были отправлены в свое время клавиры «Сада». Музыкант почувствовал сильное волнение, руки слегка дрожали, когда отрывал кромку конверта.
В письме было два листа. Один, с гербовой шапкой, официально извещал о том, что симфония «Сад» принята к работе Берлинским симфоническим оркестром. Тут же было, – на русском языке, – приглашение на репетиции. Второй лист содержал дружеское, личное поздравление Курта и пожелание дальнейших творческих удач.
«Пожелаю тебе, Борис, дальнейшая творческая удача на всей высокой и трудной музыкальной пути. Я очень рад, что мне доверили играть партию скрипки в твоем концерте. Обнимаю. До встречи. Надеюсь на это», – писал Курт на ломаном русском. Впрочем, как и говорил все пять лет учебы в Московской консерватории. Однако было тут еще одно поздравление. Его прислал главный дирижер оркестра Ганс Крюгер. Он писал, писал от руки неплохим слогом, что хорошо знает и ценит русскую культуру. Повествовал Крюгер и о том, что, дескать, неоднократно бывал в Москве, начиная с 1945 года, когда ему пришлось в качестве военного заключенного строить в Измайлово жилые дома. Говорил о том, какие сложные чувства ему пришлось испытать к России на протяжении долгих лет холодного непонимания друг друга и как он был по-человечески счастлив, когда гранитная стена наконец рухнула. Писал о том, что, несмотря на страшные годы фашизма, войны, мирного отчуждения, у него в России много хороших друзей – музыкантов, поэтов, писателей, художников. Поэтому он чрезвычайно рад, что этот круг людей пополнится еще одним одаренным и, более того, необыкновенно талантливым человеком. Что он, Ганс, будет просто счастлив работать с Борисом Борисовичем и желает скорее обнять его в стенах Берлинского концертного зала, а еще больше – у себя дома, где и жена, и дети тоже будут очень рады встрече.
Некоторое время Борис сидел оглушенный. После всего пережитого ему трудно было поверить случившемуся. В висках туго и наряжено толкалась горячая кровь. Он вспомнил отца. Борис не знал его. Вернее, знал только по фотографиям. Память Бориса-сына не сохранила в сердце человеческих признаков Бориса-отца. Он, отец, был тяжело ранен в Сталинграде, а вернувшись с войны, продолжил боевую деятельность. Но уже на мирном фронте, в милиции. Погиб в пятьдесят пятом в схватке с бандитами. Борис тогда еще был в бессознательном годовалом возрасте.
От отца остался певучий баян да старенькая мандолина. Эти два музыкальных предмета и определили жизненный путь Бориса Борисовича. Его босоногое, полуголодное детство: мать часто болела, терпеливую аскетическую юность. Баян и мандолина стали его вторыми родителями. Борис был похож на молодого кентавра, твердо знающего цель и упорно натягивающего тетиву лука. В означенное время стрела нашла свою мишень. Но тут умерла мать. Борису только что исполнилось восемнадцать. Однако юный музыкант уже хорошо видел свою дорогу. Она была вымощена напряженными часами взыскующих упражнений. Была и работой, и досугом, и радостью, и горем – всем, что мог Борис в то время бросить в копилку чувств. Он перестал, как другие, просто воспринимать окружающий мир и ощущал его, будто исходящую от каждого предмета музыку. Впрочем, уже тогда Борис тайно знал или предвидел, кто именно наполняет все окружающее пространство звуками. Ветер, дождь, вьюга, щебет птиц, свет солнца, плач женщины, смех ребенка, говор пьяных мужиков и многое другое – все это было замкнутым, обширным и гордым царством его человеческого «я». Все это было царством его отца, царством, за которое он отдал жизнь. Все это стало его музыкой. Его Россией, каковую Борис теперь ни на что променять не мог.
И вот сейчас он получил признание и приглашение от человека, который, вполне возможно, мог оказаться в те далекие времена в одном тяжелом бою с его отцом. Только по разные стороны. А что? Очень даже просто.
Вдруг нервный смех и рыдания пробили Бориса, словно электрическим током.
– Ах, Россия моя, Россия! – шептал музыкант, размазывая по щекам слезы. – Красавица. Мадонна. Богиня. И дура! – рыдал и смеялся Борис. – Эх, Россия!.. Для кого я писал свой «Сад»? Для кого?!
Утро заплыло к Борису негромким птичьим пением. Форточки были открыты, и душистая весна окропляла в комнате все предметы запахом сирени, одуванчиков и мокрой травы.
По подоконнику топталась костяными лапками пара голубей.
Борис открыл глаза и увидел на потолке контурный танец заоконной зелени: маленький карнавал теней, который, как правило, освежает поутру душу и отбрасывает в детство. Особенно если рядом с прыгающими тенями пляшут блики солнца. Но радости у музыканта ни от вида весны, ни от долгожданного признания почему-то не было.
«Почему? – спросил себя Борис. – Ведь все уже поросло пыльной травою памяти. Пройдет время и Великая Отечественная останется лишь на желтых страницах истории. Кто сегодня, скажем, с болью вспоминает о войне 1812 года? Уже давно нет ненависти к французам, не говоря о поляках, турках, монголах и прочих, прочих, прочих. Так что же тебя мучает? Или время еще не покрылось сивою мглою? Торчат то тут, то там снаряды и кости погибших. Еще сверкают в праздник Победы ветераны своими сединами и орденами. И летит над Красной Площадью лихая «Катюша». Еще стоят у вечного огня с обнаженными головами обездоленные потомки. В этом-то, наверное, все дело».
– Черт! – сказал Борис и вскочил с постели. – Черт бы их всех побрал, Гитлеров, Сталиных, Черчиллей?! По чьей воле и кто их всех рожает?
Злой и растрепанный, он выскочил с собаками на улицу.
От негодования и боли, возникших неизвестно отчего, как раскаленный утюг, Борис пронесся мимо церкви, пролетел сквозь сиреневый сад, рощу кустарника и оказался на берегу Гребного канала. Тут только очнулся. Отдышался. Успокоился.
Боцман решил освежиться и прыгнул с разбегу в холодную воду. Последовать его примеру Джулька не решилась. Лишь зашла, помочив для приличия лапы, понюхала реку, лизнула ее и вышла наружу.
Мокрый Боцман был похож на ощипанного гуся. Он задрал к солнцу острую морду и, улыбнувшись всей окружающей природе, отряхнулся, создав вокруг себя радужное облако разноцветных брызг.
От канала веяло холодком. В небольшом отдалении по воде мягко скользили серебристо-золотые байдарки, управляемые маленькими механическими фигурами гребцов: шла очередная тренировка.
Борис поглядел на Боцмана, сбросил с себя одежду и голышом весело плюхнулся в реку. Вокруг никого не было, может быть, по причине раннего воскресного утра, а механические спортсмены в расчет не принимались.
Боцман с Джулькой залились радостным, торжественным лаем.
Борис медленно выбрался из воды, шагая по мелким острым камням. На асфальтовом берегу попрыгал, поприседал, разогнал кровь и почувствовал себя молодым, здоровым, сильным. Наскоро оделся и крикнул собакам, затеявшим игру в «догонялки»:
– Эй, ребята! За мной!
Дома он собрал для Тамары пакет с продуктами, а сверху, прочитав еще раз, положил письмо из Германии. На музыканте снова повисла какая-то необъяснимая тяжесть. Словно на плечах сидело нечто неосязаемое, но имевшее ощутимый вес и цепкие, давившие в затылок, руки.
Тамара вышла к нему с покорно покаянным лицом, на котором едва теплилась тень тихой монашеской улыбки.
Борис вдруг содрогнулся оттого, что кроме жалости, какую испытываешь, провожая в дальнюю дорогу близкого, тем более родного человека, ничего к Тамаре не чувствовал.
– Ну как ты, Лапуля? – спросил он чуждым, холодным языком, ощущая, что никогда уже не прольется в его голос ни любовь к Тамаре, ни счастье, ни радость.
И все же он поцеловал ее в морщинки у глаз. Отвел в дальний угол к кожаному дивану свиданий.
Тамара еще заметно хромала, и это лишь добавляло к их встрече печали и чувства какой-то общей вины друг перед другом.
Борис старался быть естественным, раскованным, веселым, пытался шутить, но по глазам Тамары видел, что это плохо получается, если не сказать – не получается вовсе. Тогда он вздохнул, опустил голову, помолчал и вынул заветный конверт. Борис, конечно, заведомо знал, какой соломинкой он будет для Тамары.
Она пространно долго вглядывалась в адрес, словно была близорука и без очков ничего не видела. Однако вдруг какая-то далекая молния прокатилась по ней. Тамара стремительно достала содержимое конверта и лихорадочно, жадно прочитала страницы. Затем испуганно, словно это была похоронка, взглянула на мужа и снова пролетела по убористым строчкам. Наконец, медленно подняла на Бориса глаза, которые только и остались неизменными – два маленьких, прекрасных серых агата. И упала в тяжелых рыданиях ему на грудь. Борис вдруг вспомнил, что точно так же Тамара рыдала везде: на улице, в кинотеатрах, концертных залах, везде, где соприкасалась с убийством, большим горем или, напротив, торжеством добра над злом.
Она вздрагивала у Бориса на груди. Вздрагивала всем телом, всем своим существом, всей, в общем-то, не особенно броской жизнью. Вздрагивала вся ее любовь, все ее горе и счастье. Борис молча гладил жену по голове и чувствовал, что и по его щеке медленно ползет горькая, горячая, влажная змейка. Он снова, в который раз утвердился в мысли, что никогда не бросит Тамару, что она, как бы там ни было – его беда, его счастье, его судьба. Борис не мог сказать Тамаре, что решил никуда не отлучаться из России. До полного признания здесь, на родной земле. Любому это решение могло показаться диким, абсурдным, несовременным и бог его знает еще каким. Но он, Борис, автор «Сада», так решил. И только Тамара могла разрушить это решение. Потому Борис молчал, ощущая лишь одинокую слезу на щеке.
– Когда ехать? – спросила Тамара.
Он пожал плечами. Сказал:
– Я не могу оставить собак и мчаться, сломя голову, бог знает куда. К черту на рога.
Тамара с тревогой посмотрела на мужа. Слишком хорошо знала его.
– Я сейчас приду, – решительно сказала она, стремительно поднялась и быстро захромала в конец коридора.
Сколько просидел Борис на кожаном диване свиданий в паутине отчуждения он не знал. Провалился в какую-то глухую пустоту. Без мыслей. Без чувств. Без ощущений. И зрения. Он в тот момент словно умер, не понимая, где находится. Слышал лишь мягкий шепот тапочек, чей-то негромкий, с нотами тревоги, разговор, тихий визг проезжавшей каталки. Она заехала в отдаленное сознание и там затихла.
Борис очнулся от голоса Тамары.
– Пошли! – сказала она весело. – Жизнь продолжается!
Он поднял голову.
Тамара стояла перед ним, одетая в пальто. Глаза ее сияли. Борис вдруг увидел ее прежнюю. Такую, какой знал сто лет назад. Юную, прекрасную. Знал и любил.
– Я выписалась! – счастливо выкрикнула Тамара. – Под личную и твою, надеюсь, ответственность. Ты рад?!
И бросилась к нему на шею.
– Мы дожили до победы, родной мой! Я всегда знала, что это будет! Знала! Знала! Ура!
Сборы были недолгими, но тщательными. И все же Борис попытался представить Тамаре свои аргументы против поездки. В ответ она лишь громко рассмеялась.
– Ты мальчишка, – сказала Тамара. – Глупый мальчишка. За что только я люблю тебя? Музыка космогонична. Она вечна, как любовь. Это одна из эманаций Бога. Вспомни нашего философа. Что он говорил. Музыка принадлежит всем. Неважно, где она прозвучит впервые. Эх, ты… неужели ты этого не понимаешь? А война – это дрянь черных политиков, которые могут потянуть за собой в пропасть целые народы. Ее нужно скорее забыть, эту чертову войну. И чем скорее, тем лучше.
Борис опустил голову. Что тут можно было возразить?
– Давай присядем на дорогу, – сказала Тамара. – Жаль, я не могу поехать сейчас с тобой.
Конечно, Борис знал, что поедет в Германию, что музыка космогонична и вечна, как любовь. Тут Тамара была права. С этим спорить было даже глупо. И все же какая-то заноза сидела у него в душе.
Вокзал, как улей, полнился ровным гулом народа. Борис недолго постоял в очереди к билетной кассе. У самого окошка замешкался, словно что-то забыл. Продавщица подняла на него удивленные глаза. Борис покашлял в кулак. Пауза затягивалась.
– Один до Тулы, – хрипло сказал музыкант и решительно протянул деньги.
Он ехал коридором весны на родину своей музыки. Нужно было поклониться ей, родине, как заветному Храму. За окном плотно стояла стена молодой зелени, озаряемая время от времени подвенечной фатою проснувшейся черемухи. Уже вышло на дальние поля шоколадное стадо коров, и клевер сиреневой волной подплывал прямо к колесам поезда. На горизонте, вдруг увидел Борис, щурясь от солнца, стоит вечная старушка – баба Наташа, а рядом, вы не поверите, сидят, тесно прижавшись друг к другу, милые Борису Боцман и Джульетта.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































