Текст книги "Ворожей (сборник)"
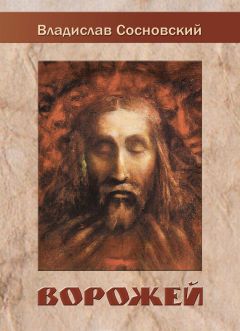
Автор книги: Владислав Сосновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
Перед моими глазами мир поплыл и превратился в жидкий кисель. Я крепко прижал Чайку к себе.
– Ёжику не говори, – сказал я. – Я все давно знаю. Но не отрекусь от тебя. Никогда.
Чайка благодарно уткнулась носом в мое плечо.
– Я верю, – сказала она тихо. – И верю в предопределение. Я знаю много людей, идущих своим путем, потому что они имеют силу мысли Учителя. Лишь те, кто бросаются из стороны в сторону, ни к чему не приходят. Их влечет на Север, на Юг, на Запад, на Восток, но по дороге из-за новых соблазнов они меняют решения и потому остаются ни с чем. Человека же развитого, умеющего оценить и впитать весь мир, можно сравнить с путешественником, который твердо знает, куда идет. Ничто не силах отклонить его от намеченной цели. Смерть может уничтожить его тело, но его духовная энергия, его энергетический слепок останется сосредоточенным и живущим в этом мире. Я – женщина и хочу любить, родить ребенка, но в то же время меня зовет вода, небо и свобода, которая похожа на спокойный огонь. Я не могу изменить им. Без этого мой мир погаснет и потеряет идею красоты. Сама красота еще ничего по себе не значит, и только человек может оплодотворить ее стремлением к рождению овеществленной идеи красоты. Прости, – засмеялась Чайка. – Начиталась я в своей библиотеке. Мелю, что на язык попадет. Но если люди, – начала говорить она взахлеб, – сознательно лишают себя страстей, любви, желаний, тревог, разочарований и выходят за пределы страданий – то больше не рождаются в этом мире. А если я хочу возвращаться! Хочу рождаться еще сотни, тысячи раз – ведь мир так прекрасен. Другого нет и не будет. Впрочем… – Чайка опустила голову. – Я знаю, что ничего не знаю. Хочу только любить тебя. Любить всегда и везде. Во всякое время. На земле, под землей, в космосе. Где угодно. Пусть это будет эгоизм, сон наяву, чувственные желания. В конце концов, все вокруг – только состояния сознания. Кроме этого существуют морфемы космического сознания, они не имеют форм, конкретного местонахождения в пространстве, но пронизывают всю вселенную. Раз так, значит, и во мне все это есть. Есть все эти формы, которые сейчас направлены только на одно – любить тебя, а стало быть, и весь мир. Каждый человек – божество. Плохой он или хороший. Добро и Зло едины. «Нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым», – так сказал Шекспир. Я же, будет тебе известно, женское божество – Дакини, покоряющее пространства, открывающее тайны мироздания и вдохновения. А это и есть любовь. Вот и все, мой милый. Тебе же Господь подарил «крылышкующее золотоперо», как говорил Хлебников. Пиши свою книгу без первой и последней страницы. Пусть она будет шумом ветра и рождается на других планетах, растет и обрушивается, как могучее дерево под ураганом, пробирается в заповедные долины и вдруг в самый ошеломительный момент заговаривает с миром всеми своими корнями.
Я стоял, открыв рот, не зная, что сказать.
Чьи-то громкие и твердые шаги оторвали нас друг от друга. Вскоре из густых сумерек выросла перед нами фигура Семена.
– Ага, – обнаружил нас Сеня. – Вот вы где! – И сунул мне новый пакет с селедкой. – Айда, заберем вещи, а то у меня времени в обрез: сегодня ж футбол, – объяснил он свой праздник. – «Динамо» – Киев, «Спартак» – Москва. У меня и посмотрим. Телек не ахти какой, но показывает.
– Спасибо, – поблагодарил я. – Вещи отнесем. А футбол – извини, я к нему равнодушен.
– Понятно, Москва, – сказал Семен и улыбнулся, глядя на Чайку. – Понятно. Что ж, дело молодое. Футбол тут ни причем. – И вдруг взорвался: – Что значит – равнодушен?! Такого не бывает!
Мы вошли в избу, где в клубах дыма восседала вся теплая, лечебная компания. Предводитель прихожан с жаром пытал вахтенного сторожа Михайловича.
– Вот ты мне скажи, – требовал он от старого воина. – Отчего вымерли мамонты?
Михайлович, не имея точных сведений, молчал, лишь удивленно взирал на вопрошателя голубыми туманными глазками. Молчали и остальные, за отсутствием необходимых фактов.
– Нет, вы мне все-таки скажите, – наседал знаток древней истории, так как, похоже, обладал собственной теорией.
– От пыли, – подсказал наклонной головой очарованный Коля.
Голова его, надо сказать, в отличие всего прочего населения росла не вертикально, как у обычных людей, а параллельно плечам. Поэтому лицо он постоянно держал чуть набок и вверх, чтобы видеть окружающих, и чтобы те тоже могли любоваться Колиным восторгом от жизни. Конечно, тут Чайка была права, падать такой головой вниз было крайне опасно. Но Коля, видимо любил бытие во всех его проявлениях и потому отчаянно рисковал, берясь за стакан с вином.
– Вот! – обрадовался историк. – Примерно правильно. Только не от пыли, дорогой ты мой Коля. А от грязи. Ледники тогда течку дали, ну и воображаете, какая кругом грязища пошла! Мамонты и увязли. Как им при своих тушах передвигаться в такой почве?
Под этот нескучный умственный разговор мы с Семеном нагрузились моими вещами и двинулись к выходу. На пороге я поставил чемодан и вернулся к Михайловичу, предупредил его, что, возможно, сегодня не вернусь, а останусь ночевать у Семена, чтобы дежурный знал это и не волновался.
– Валяй, – согласился Михайлович. – Мне-то что… Пограничников провожу и в койку. Если вдруг вернешься, стучи громче: я сплю прочно, как в могиле.
Семен для перевозки моего имущества прикатил личный «Москвич» с оторвавшимся на какой-то зловредной кочке глушителем. Поэтому, стоило нам стронуться с места, как машина начала тарахтеть на весь город не хуже боевого вертолета.
– Это что, – успокоил нас с Чайкой Сеня. – Я однажды двести километров на траве ехал.
– Как так – на траве? – не понял я.
– Обыкновенно, – просто объяснил Семен. – Пробил, представляешь себе, шину, а запаски не было. Что делать? Тогда вместо шины травы в скат напихал. Так и доехал потихоньку. Смекалка. Без нее на транспорте ты – голый пень.
Худо-бедно, грохоча, фыркая и чихая, минут через двадцать мы все-таки добрались до Семенова дома.
Жил Сеня обстоятельно. Квартиру имел персональную, состоявшую из двух комнат и при них все полагающееся: жену – Веру и трех ребятишек, двух девочек – Катю с Наташкой и сына Вовчика, который, не имея никакого стеснения, в отличие от благовоспитанных дочерей, сразу вышел вперед и смело представился: Вовчик. Протянул мне, а затем и Чайке маленькую ладошку.
Мы с Чайкой умиленно застыли в прихожей, но Вовчик, человек лет шести, строго оборвал приступ нашего умиления.
– Что, так и будете стоять тут? – взыскующе спросил он. – А ну, проходите в зал! – И потащил Чайку за руку в комнату.
– Генерал, – сказал Семен. – Чистый вояка. Ты его спроси, кем он хочет быть, и он тебе сразу продиктует – генералом. Одним словом, Вовчик в доме главнокомандующий. Он знаешь, как моих девок воспитывает, хоть они и старше. Что ты! По струночке ходят. Я сам у него в сержантах числюсь. А ты говоришь!
Я не говорил ничего. Только стоял и радовался такой семейной идиллии.
Мы с Семеном стали рассовывать мои вещи по разным углам и антресолям, сооруженным хозяином лично, а в это время главнокомандующий Вовчик уже рьяно наезжал на Чайку всей своей военной техникой: танками, самолетами, кораблями, сопровождая движение машин голосовой имитацией соответствующих моторов.
Потом жена Семена – Вера позвала пить чай, и мы дружно уселись на кухне за стол.
Розовощекие, чернявенькие Катя с Наташкой, похожие на Семена, все хихикали, перешептываясь о чем-то своем, но Вовчик немедленно унял их и вынес последнее предупреждение. Дочери тут же угомонились хихикать и приняли вид благочинный, воспитанный, сделавшись похожими на картинных Венециановских девчушек.
– Сахару берите по три кусочка, – наставительно предупредил командующий. – А то на всех не напасешься. Пирогов – по два, чтоб хватило.
Вдруг Вовчик повел носом и, выпучив глаза, строго выпалил, глядя на сестер.
– Спрашиваю в последний раз: кто пукнул?
Бедные сестры загорелись краской и с ужасом посмотрели друг на друга.
Мы от души посмеялись над маленьким диктатором, а Вовчик невозмутимо продолжал:
– Значит, вы писатель из Москвы? – испытующе спросил меня маленький сын Семена. Видно, отец уже оповестил его, кто я такой.
– Я не то, чтобы просто писатель, – сказал я, решив поиграть с Вовчиком. – Я сочинитель. Понимаешь такое дело?
Генерал озадачился.
– Вот ты же, когда выставляешь свои войска: танки, корабли, самолеты, – представляешь себе действия противника, как они могут напасть на твой флот или артиллерию. Так или нет?
– Ну да, – поморщив лоб, ответил главнокомандующий Вовчик.
– Значит, ты тоже выдумываешь или сочиняешь ход боевых действий. Правильно?
– Правильно, – согласился генерал.
– Стало быть, ты тоже сочинитель вроде меня. Только я все записываю на бумаге, а ты держишь внутри головы.
– Понятно, – определил Вовчик. – Значит, у тебя память дырявая. Потому ты все и записываешь.
– Но-но, – погрозил раскрасневшийся от чая Семен. – Говори да не заговаривайся. Писатель пишет не для себя, а для нас с тобой. Чтобы мы могли прочитать и научиться кое-чему. Или узнать, чего не знаем. А ты сразу – «память дырявая». Соображать надо, с кем говоришь. Это тебе – не Сережка из соседней квартиры. Вот у кого память дырявая, так это, в первую очередь, у тебя. Ты мамке мусор почему не вынес до сих пор?
Вовчик почесал затылок и стал виновато вылезать из-за стола.
– Ладно, уж, сиди, – остановила командующего мать. – Попьешь чаю, тогда…
– Я сам, – сказал Семен. – Темно уже. Пусть ему стыдно будет, вояке. Допивай чай и марш в свою комнату, азбуку учить. Сочинитель.
– Так ему и надо, – в один голос обрадовались картинные сестры. – Командир кислых щей! – Видимо, они тоже натерпелись от Вовчика.
Мы с Чайкой благодарно и тепло распрощались с дружным семейством, и вышли на лестничную клетку.
Внутренние стены Хрущевской пятиэтажки были старательно размалеваны самодеятельными художниками, оставившими для радости созерцания шедевры графики в виде скелетов, черепов, мужских-женских органов и трехглавых змеев с обязательными надписями под ними. Под скелетом: «Ромка, ублюдок, умри»! Под черепом: «Витька, не лезь к Инке»! Под мужским органом: «Видишь, Светка, это твой конец»! И так далее.
В подъезде пахло мочой, въевшимся в стены дымом и гнилью. Все это не могло ускользнуть от зрения Чайки. Она вдруг остановилась и закрыла лицо руками.
– Что с тобой! – испугался я.
Как электрическим током ее ударило бурными рыданиями.
Я не знал, что делать, и стал встряхивать Чайку за худенькие плечи. Но она ничего не могла ответить, лишь конвульсивно вздрагивала всем телом.
– Чайка, Чаечка, – бормотал я. – Что случилось?
Я прижал ее к себе, противно ощущая свое бессилие и, пытаясь успокоить, гладил по голове, как маленькую девочку. Но все было тщетно. Какие-то безысходно горькие слезы горячим потоком лились из Чайкиных глаз, тело билось в мышечной дрожи, а я взбудоражено думал, что, может быть, нужно сбегать к Семену и спросить воды. Однако устраивать там переполох тоже не хотелось. Поэтому я, как мог, все успокаивал Чайку, надеясь, что приступ скоро пройдет. А главное, мне неведома была причина столь бурной реакции на что-то. Но вот на что? Хоть я и догадывался, все же не находил ответа. Мало ли мерзостей пишут в парадных и туалетах.
Наконец, рыдания стали стихать, и Чайка, всхлипывая, тихо попросила:
– Не смотри на меня. Я некрасивая.
Через некоторое время Чайка затихла, отвернулась от меня и начала вытирать лицо платком.
Я молча стоял позади, тяжело переваривая в себе тревогу, боль и сострадание, словно побывал на чьих-то похоронах.
Но вот Чайка повернула печальное лицо и взяла меня под руку: «Пойдем».
Мы спустились по лестнице мимо похабной картинной галереи и вышли наружу, в свежую прохладу вечера. Я боялся о чем-либо спрашивать Чайку, чтобы не обжечь случайно ее неостывшую душу, но мысль о том, в чем же все-таки крылась причина столь неожиданного горя, не давала мне покоя.
– Как ты? – спросил я осторожно.
Она не ответила.
– Прости меня, – не выдержал я. – Что же стряслось? Было так славно: чай, пироги, вышитая скатерть, милые ребятишки…
– Зачем они вырастают? – грустно спросила Чайка, и в этом был ответ на мой посторонний, близорукий вопрос. Я понял, какая трагедия сотрясла ее душу. Я понял в прозрении, что там, где обычные люди плещутся, как рыбы, в привычной воде, Чайка видит глубинный смысл бытия.
«Зачем они вырастают? Дети».
Вот отчего все вспыхнуло в ней буйным, опаляющим пожаром. Она перелетала зрением через время, и могла в капле почуять весь океан. И содрогнуться от его могучей, неотвратимой силы.
– Что поделаешь, – бескровно произнес я. – Так устроена жизнь. Хотим мы того или нет. Все имеет начало и конец. А между ними – свое развитие. Прекрасно детство и, видимо, нет ничего прекраснее его. Но прекрасна и юность со всем ее идиотским максимализмом, ушибами, ранами и новым рождением. Прекрасна зрелость, так как это пора неудержимого творчества. И даже старость, несмотря на хвори и увядание, прекрасна своей мудростью и полным согласием с природой. Я, конечно, говорю прописные истины, но…
– Ты прав, Олег, – вздохнула Чайка. – Мне тепло с тобой. Ты похож на доброго учителя, который говорит: «Смотрите, дети, вот это буква А. А вот совсем другая буква – буква Б». Не подозревая, что в Б уже есть А. Частичка А. Когда же мы произносим Я, то больше, чем в другой букве, слышим А. Потому что круг замыкается. Ребятишки Семена с Верой – это А. Широкое, теплое, напевное, самостоятельное. Это нежные, зеленые побеги. Но я вдруг увидела в них взрослые, сучковатые растения, совсем не похожие на первые ростки. И мне стало больно. Зеркало не может сказать: это хорошо, а это дурно. Оно просто наблюдает и отражает, никого не осуждая, не виня и не хваля. А я не могу стать зеркалом. Мне мешает ум. Он возбуждает чувства. Чувства зажигают эмоции. Я плачу или смеюсь, рыдаю или кричу от счастья. Я не могу подавить их. Мои эмоции слишком бурные. Иногда – неистово бурные. С того момента, когда я нажала на курок, и отец упал замертво. Порой какие-то события жизни, самые, казалось бы, незначительные подбрасывают меня и швыряют о скалы. И я ломаю крылья. Это очень больно. Честное слово. Не сердись на меня. Я сама впадаю в панический ужас оттого, что кто-то плачет. Просто не знаю, как быть. Но если, случается, плачу я, то не могу остановиться: у меня очень нервная система.
Город уже погрузился в ночь по самую макушку Сопки и океан пропали в сумраке. Лишь дух океана был ощутим и цепко держался за что-то в окружающем воздухе. Этим духом насыщались деревья, спящие птицы, а открытые форточки окон вдыхали его в людские жилища.
Мы шли не спеша и надолго замолчали. Я с горечью подумал, что ничего у нас сегодня с Чайкой не выйдет. Не получится ни жаркой любви, ни счастья, ни обожания. Ее крылья были надломлены, и Бог знает, сколько надлежало Чайке терпеть свою боль.
Под светом тусклых фонарей мы остановились на перекрестке. Вся радостная плоть жизни, предощущение чего-то большого, значительного, запредельно жаркого неожиданно треснуло, надорвалось и с этим, казалось, ничего нельзя было поделать.
– Что ж, – сказал я, – давай прощаться. – И тоска ядовито ужалила меня. – Эту ночь Наблюдатель, как видно, приберег для следующего раза.
– Нет, – порывисто возразила Чайка. – Ты нужен мне сегодня. Вон, посмотри, на дереве сидят толстые вороны, но мы не можем всю жизнь стоять возле них. Рано или поздно пройдем мимо. Мы плывем по течению. Иногда цепляемся за что-то, за какие-то скользкие коряги, но это не значит, что нужно тут же выскакивать на берег и сидеть, цепенея от ужаса, пока не пройдет шок. Если бы я была одна, возможно, мне захотелось бы так и сделать. К счастью, ты рядом. Я в твоем теплом поле. Поэтому мои крылья заживают гораздо быстрее. Так лечил Гиппократ. Поверь, я уже не чувствую боли. Остался лишь горьковатый осадок. Как пепел. Пока мы дойдем, надеюсь, рассеется и горечь. Все проходит. Ты прав. И возвращается. И снова проходит. Сейчас ты мне нужен. Так распорядился Учитель. Я хочу лежать рядом, гладить твое тело, прикасаться к нему губами. Тогда я забуду все боли сразу.
Я обнял Чайку и чуть приподнял ее легкое птичье тело.
– Я люблю тебя, – сказал я с молитвенным ощущением того, что сейчас говорю эти слова искренне и чисто. – Просто обмираю от любви. Так, наверное, цветочный луг обмирает в предчувствии грозы.
– Напиши об этом, – попросила Чайка. – Знаешь, почему? Потому что я чувствую то же самое. Как перед полетом или прогулкой по воде. Представь, за две-три минуты ты пересекаешь огромное пространство. Под тобой бушует океан, поют горы, урчат реки. Ты слышишь все звуки мира. Это нельзя передать словами: они бледнеют в сравнении с тем, что происходит на самом деле. Но ты все равно напиши. Ты обязан найти нужную речь и нужную мелодию.
– Попробую, – сказал я и опустил Чайку на землю. – Скажи, почему ты иногда называешь меня Ветром?
– Потому что, когда женщина находит своего мужчину, он становится для нее ветром, а она обретает крылья. Он становится для нее рассветом и росою, которая питает ее листья.
Я улыбнулся.
– Еще немного и мы начнем говорить стихами.
Между нами провисла какая-то чуткая, нежная тишина.
– Пойдем, – позвала Чайка и взяла меня под руку. – Знаешь, я часто ловлю себя на том, что гораздо больше понимаю птиц, собак, кошек, медведей, с которыми встречалась в тайге. Я понимаю деревья, цветы, траву. Иногда мне кажется, я слышу, чего они хотят, о чем думают. Я вижу как рыбы, медузы, крабы смотрят на меня, беседую с ними и нахожу общий язык. С людьми сложнее. В лучшем случае, мы делаем вид, что понимаем друг друга. Ты, Ветер, исключение. Поэтому я люблю тебя. Но мне пока неизвестно, чем ты живешь, о чем мечтаешь, о чем сейчас пишешь. Мне хочется все о тебе знать.
– Ты охотишься по ночам? – неожиданно спросил я.
Чайка оторопело остановилась.
– Что?..
– Вот видишь, – сказал я, – а говоришь, что понимаешь меня.
Чайка растерялась.
– Да, но при чем тут? Какая охота?
– При том, что ты вовсе не Чайка. Ты мудрая-премудрая сова. Иногда, правда, ты бываешь растрепанным воробушком. Или воробушкой. Как сегодня. Полчаса назад.
– Господи, – облегченно вздохнула Чайка. – Как ты меня напугал. Я такая дуреха: все воспринимаю впрямую. Мне подумалось, не принял ли ты меня за колдунью или шишимору.
– Конечно, принял, – рассмеялся я. – Ты самая лучшая шишимора на свете.
– Ладно, – согласилась Чайка. – Пойдем скорее. Как бы моя мама не натворила чего-нибудь без меня. Она непредсказуема. С ней может случиться, что угодно.
Мы ускорили шаг. По улицам Города стал носиться злобный, пронзительный ветер, завывавший в подворотнях, словно в трубах. Я обнял Чайку для ее тепла, и вскоре мы добрались до нужного дома.
Это была облезлая трехэтажка с отвалившимися от стен кусками белой штукатурки, на месте которых зияли черные дыры. Дом навевал тоску и думы о первых поселенцах столицы горя и страданий. Следы разрухи и неприютности бросались в глаза даже ночью, слабо озаренные тусклым светом подслеповатых фонарей.
– Вот здесь мое гнездо, – с горечью сказала Чайка, когда мы поднимались на второй этаж. – Только прошу тебя: ничему не удивляйся и не придавай значения. Делай вид, что все нормально. Что все так и должно быть, как есть.
Мы прошли длинным и душным, источающим тошнотворные запахи, коридором с общей, семей на пять, кухней и уперлись в деревянную, цвета жухлой травы, дверь.
Чайка, чуть помедлив, словно на что-то собиралась, негромко постучала. С внутренней стороны раздались шаркающие шаги. На пороге появилась косматая, неряшливая женщина в тапках на босу ногу, в неправильно застегнутом, запачканном пищей, халате, отчего одна пола его была выше, другая ниже. От нее исходил запах аммиака, смешанный с запахом всех бродячих псов Желтого Города. Она смотрела на меня, не мигая, розовыми подслеповатыми глазами. В руках у нее была свечка, хотя в комнате горел свет.
– Это мой друг, – объяснила меня Чайка. – Он прилетел из Москвы, и некоторое время поживет у нас.
Мать придирчиво, как мне показалось, оглядела мою личность с ног до головы острыми, нервными глазами, потом взяла пуговицу на моей куртке, давно державшуюся, откровенно говоря, на честном слове, и без труда оторвала ее прочь, выговорив дочери хриплым гортанным голосом:
– На вот, пришей. Совсем не смотришь за мужем. В кого ты такая уродилась, черт тебя знает. – И пошаркала в свою дальнюю комнату. Но перед дверью обернулась: – А ты проходи, Витя. Чего стоишь. Я селедки нажарила. Поешь, Витя. Ольга, она не соображает ничего. Одним чаем живет. А ты, Витя, мужчина. Тебе питаться нужно. Устал, небось, землю ковырять?
– Идите спать, мама. Мы сами разберемся, – терпеливо и мягко сказала Чайка.
– Ну-ну, – посомневалась косматая мама и вдруг улыбнулась, обнаружив редкие остатки зубов: – Только разве ты разберешься?
Наконец, дверь за матерью закрылась. Чайка вздохнула, и я понял, как тяжела и безрадостна была ее жизнь. Как, должно, неприютно, тоскливо и безысходно чувствует она себя дома, будучи совсем одинокой.
Ощутимая тяжесть легла мне на плечи. Я снова обнял Чайку, подумав, что, возможно, случившаяся с ней трагедия, гнетущее противоречие с семьёй взамен подарило ей крылья и особо чуткую ко всему окружающему душу.
– Люби меня, – сказала Чайка. – Так хочется, чтобы кто-то тебя любил. Одно время, я была еще девочкой, во мне жила по-женски теплая, но больная зависть к Деве Марии. Я мечтала зачать от святого Духа. Теперь понимаю, это шевелилось ожидание тебя. Если ты будешь любить меня, я рожу тебе дочку, Веточку.
– Почему Веточку? Какую Веточку? – испугался я.
Чайка засмеялась.
– Это имя такое – Вета. Веточка. Разве ты не знал?
Я облегченно вздохнул.
– Веточка. А что? Красиво. С маленькими почками на груди. Как у тебя.
– Да, – улыбнулась Чайка. – Ты хочешь?
– Конечно. Я буду любить ее как тебя. А может, и больше. Что бы ни случилось.
– Что может случиться? – в никуда спросила Чайка. – Разве разлюбишь? Или понравится другая. Ты же ветер. Ты гуляешь на просторе и волнуешь сине море.
«Ёжик» снова пробрался в меня и толкался внутри горячим носом.
Чайка зажгла свечи и погасила свет. И вдруг на одной из стен туманно и тонко, словно в дымке, появился ее автопортрет. Тело было полуобнажено, в волосах запутались цветы одуванчиков. Тут она была той нежной семнадцатилетней Афродитой, которую я видел на берегу океана. Легкий розовый цвет красил ее плечи и грудь. На портрете Чайка была прекрасной юницей. Здесь она казалась вечной.
«Вышла из мрака с перстами пурпурными, Эос», – это Гомер сказал о ней, подумалось мне. Вот почему я не заметил портрета при свете дурацкой казенной лампы. Конечно, Дакини должна была выйти из мрака. И вышла. Чтобы ослепить меня. Я не мог оторваться от портрета. Но сама Чайка почему-то обиделась.
– Раздевайся и ложись. Ты даже не взглянул на меня, когда я сбрасывала одежду.
Чайка уже лежала под одеялом, разметав по подушке облитые ярким янтарем свечей шелковистые волосы.
Подобострастно и неловко я присел на край кровати, только и сумев вымолвить: «Ах, Чайка моя, Чайка»!
– В кармане твоего пиджака есть фотография, – вдруг сказала она. – Дай мне ее.
Нет нужды говорить, я вздрогнул в очередной раз, потому что действительно – рядом с костяным путником в кармане забыто лежала моя армейская фотография, врученная напоследок бывшей женой в аэропорту перед отлетом в Желтый Город.
Я достал снимок и протянул Чайке, не спрашивая ни о чем, так как начинал понемногу привыкать к ее причудам и тайному зрению.
Чайка слегка приподнялась, оголив худенькие плечи, вертикально перехваченные тонкими кружевными полосками ночной рубахи, внимательно всмотрелась в карточку. Затем встала в рост, бросив на стену большую, громоздкую тень, и сшагнула на пол. Быстрым движением взяла спички, которыми зажигала свечи, и воспламенила край снимка.
Фотография сначала медленно, а затем мгновенно и целиком вспыхнула в алых пальцах Чайки. Она подбежала к форточке и выбросила листочек пламени в воздух.
Я безмолвно наблюдал за происходящим, понимая, что за всеми действиями Чайки кроется особый смысл.
– Она заговоренная, – объяснила свой поступок Чайка и, видя, что до меня не совсем доходят ее слова, добавила: – Твоя бывшая жена при помощи кого-то закляла фотографию. С этим заклятием она верила, что рано или поздно ты к ней вернешься. А я не хочу тебя отдавать, Ветер. Ты – единственный, кем и для кого я могу жить. Считай меня эгоисткой, колдуньей, вздорной сумасбродкой, но я не хочу тебя отдавать. Не хочу!
Чайка подошла и обвила мою шею руками.
– Разве только ты сам скажешь мне, что уходишь. Я не стану тебя осуждать: ты – ветер и сам не знаешь, где будешь завтра. Куда пошлет тебя Наблюдатель. Просто тогда я тоже улечу куда-нибудь. Навсегда.
– Эта фотография несла бы тебе только беды и неудачи, с которых, кстати, и началось твое путешествие. Вспомни! Пир с пограничниками, а потом потеря всего. Карточка была заговорена на полный провал, крах и крушение устремлений. Твоя слепая жена не учла только, что на пути может появиться кто-то зрячий. В остальном, ею все было задумано верно. Вместо белого коня ты вернулся бы в Москву на старой кляче. Разбитый, нищий и больной. И вот тут бы она тебя обогрела и снова, бедненького, поставила на ноги. Тогда бы ты уже от нее никуда не делся. А может, просто потешилась бы над твоей горемычной судьбой. Так что запомни, на свете есть силы, способные управлять даже явлениями природы, в частности, такими, как ветер. Теперь, надеюсь, тебе понятно, что твоя супруга не зря приезжала на аэродром, чтобы проводить в дальнюю дорогу. Сейчас ты в безопасности, и дальше все у тебя будет хорошо, милый. Поверь мне. Чайка знает, о чем кричит.
– Честно говоря, – сказал я, пораженный, – мне иногда становится с тобой страшновато. Тебе все известно: что было, что есть и будет.
– Я не могу знать все. Особенно то, что касается нас с тобой. Иначе жизнь потеряла бы смысл. В этом и заключается мудрость Смотрителя. Но теперь, мне кажется, будет все хорошо. Просто Учитель открывает иной раз для меня тайную дверь в совсем другой мир, в котором обзор гораздо больше. Тогда я замечаю то, чего не видят другие. Мне думается, это связано с моим страшным детством, унылой, одинокой юностью, с огромным железобетонным крестом, который я тащила на себе всю жизнь. Поэтому, я думаю, Наблюдатель и взялся опекать меня. Я постоянно слышу Его присутствие. Учитель движет моими мыслями, шагами, крыльями. Вот почему, ступая по воде, я не проваливаюсь, а летая, не разбиваюсь о скалы. Знаешь, я даже чувствую – Он благословляет нашу близость. И уже готовит чистую Душу для будущей дочки. Или сына.
Мы помолчали, обнявшись, ощущая приближение чего-то таинственного и прекрасного.
Свечи тихо и призрачно освещали снизу живой портрет Чайки, и мне показалось, что она вот-вот сойдет с него.
– Если Он подарит нам, – сказала задумчиво Чайка (она теперь сидела в ночной рубахе среди застывших волн одеяла, как лилия в белом пруду). – Если Смотритель…
– Он обязательно… – сказал я. – Он не может не подар…
– Иди ко мне, – сказала она.
Я подошел и положил руки на плечи Чайки, на худенькие костяшки, на которых она всю жизнь несла жуткую, тяжеленую ношу.
…И настала ночь. Долгожданная, крылатая ночь. Она тепло и нежно приняла в свои объятия, радушно впустила к себе, в ласковую темень, зыбко освещаемую желтым заоконным фонарем.
Я успел услышать лишь дробный бег будильника по столу. Дальше все звуки исчезли, затонули в шуме нашего полета.
Широкая радость покаяния тронула меня своею веткой. Словно легкий бриз дальних дрожащих струн прокатился по мне.
Мы с Чайкой играли друг на друге, будто на невидимых чутких инструментах, вздрагивая от неожиданных созвучий, и вслушивались в них, как в новоприобретения. Прогибаясь и постанывая от восторга.
Нас плавно несло по долине, и мы трогали все растения и цветы, попадавшиеся на пути.
Я нашел губами набухшие почки грудей Чайки, не переставая при этом плыть пальцами по шелковой коже, угадывая округлый живот и упругие бедра.
Я проваливался в мягкую траву ее душистых волос и, выныривая, нырял снова, исступленно повторяя одни единственные, заполнявшие всю мою суть слова: «Я люблю тебя»!
И снова припадал к груди Чайки.
А рука уже нашла чуть жестковатую, курчавую травку ее лобка, ее маленького вселенского треугольничка, и Чайка содрогнулась с кошачьим извивом и счастливыми судорогами:
– Боже! Как хорошо! Неужели так будет всегда?
Я поцеловал кончик ее уха.
– Теперь так будет всегда. До самых березок.
– Растяни эту прелюдию, чтобы я в ней растворилась без остатка, – попросила Чайка.
Растянуть прелюдию, сознаюсь, было нелегко: я слышал, как уже кипит и вздрагивает во мне кровь, ощущал, как дрожат руки, и что-то натужно рвется во внешний мир. Но пообещал.
И тогда Чайка, не спрашивая, влекомая лишь порывом желаний, сама начала целовать меня: лицо, шею, грудь и ниже… пока ее маленькие, сухие ладони крепко не обняли мой орган, мой изнывающий, жесткий ствол.
Я почувствовал осторожные, обжигающие прикосновения Чайкиных губ, ласковое движение языка и острый, но тоже осторожный обхват зубов.
Мне показалось, я умираю. Или уже умер. Во всяком случае, все, что происходило, осуществлялось в некоем другом мире, другом измерении, под властью иных сил, не связанных с сознанием. И только подсознание тихонько хихикало где-то внутри. Но всему этому не было названия. Да и существует ли оно вообще?
Всепроникающее божество – Дакини, которое изобрели и о котором знали лишь древние индусы – властвовало над нами во всю свою силу.
Наигравшись, и достигнув какого-то своего предела, Чайка, наконец, горячо выдохнула:
– Иди ко мне!
Я вошел в нее со всей страстью истомленной плоти. Неистово, жадно, безумно, то взлетая, то проваливаясь в бездну. Это был шторм, в котором меня бросало из жизни в смерть, и в новое рождение. Я перешагивал в другой мир и проваливался в вечный полет. И снова возвращался.
Когда же моя раскаленная лава низверглась в Чайку, она горько и отчаянно заплакала.
– Что ты? Что с тобой? – испугался я.
– Я не могу! – исступленно рыдала Чайка и горячие слезы падали мне на плечо. – У меня не получается. Я не кончаю. Как только подступает то, что испытал сейчас ты, и что, естественно, должна испытывать каждая женщина (так я думаю), перед моими глазами вырастает отец с ружьем в руке. Такой, каким он был, когда стрелял по чайкам. Понимаешь?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































