Текст книги "Афанасий Никитин"
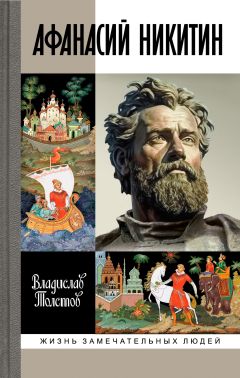
Автор книги: Владислав Толстов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Трубецкой, кстати, первым обратил внимание на то, что Никитин часто использует неизвестные, экзотические слова – иногда буквально нагромождая их в тексте, включает фразы на татарском и персидском языках. Здесь исследователь видел своего рода оригинальный прием: вплетая в повествование странно звучащие и непонятные для русского читателя иностранные слова, Никитин таким образом привлекал внимание, повышал интерес к своему произведению. Трубецкой считал, что это такой известный у писателей-формалистов прием «установка на выражение», когда автор начинает использовать заумные непонятные фразы, чтобы подчеркнуть чуждость и экзотичность описываемых событий – а уж что может быть экзотичнее для читателя XV века, чем путешествие в Индию! Иными словами, тверской купец использовал примерно те же приемы, которые спустя 500 лет будет использовать, скажем, Джеймс Джойс при написании «Улисса», когда через текст пытался передать настроение автора, его ощущения, переживания. Получается, что Афанасий Никитин задолго до европейцев изобрел модернизм как литературное течение и психологическую прозу как жанр – так, что ли? Еще один исследователь, Н. Шамбинаго, так и писал, что Никитин «старался придать экзотичность своему повествованию».
Что мы скажем на это? Что такой подход не выглядит убедительным. Слова, выражения, непонятные и неожиданные переходы на другие языки – ну и что? Афанасий описывал страну, в которой до него никто из русских не был. Его там, безусловно, многое поражало. Слово Е. А. Торпаковой, написавшей статью об оппозиции «свой – чужой» в «Хождении за три моря»: «Афанасия многое поражало: цвет кожи, одежда, а особенно вид “простоволосых” замужних женщин: “А жонки ходят голова не покрыта… а власы в одну косу не заплетены”. Ведь для русской женщины распустить свои волосы было величайшим позором. К тому же бросается в глаза и социальное неравенство и религиозная рознь». Потому и старался описывать, как мог. Представьте, каково это – описать для своих земляков страну, которой правит «обезьяний царь» или рассказать, что такое слон. Хотя слонов русские купцы скорее всего видели в Астрахани, в Дербенте, невелика диковина. Поэтому Афанасий ничего о них специально не пишет – слон себе и слон.
Еще один важный вопрос, на который пытались ответить исследователи (в частности, А. Осипов, В. Александров, Н. Гольдберг): когда именно Афанасий создавал описание своего путешествия? Это тоже важный момент. Если во время скитаний по Индии, запечатлевая разрозненные впечатления – это одно. А если уже после возвращения на родину, по пути из Кафы в Смоленск, записывая мемуары как цельный текст – совсем другое. Во втором случае Афанасию приходилось полагаться на собственную память, записывать наиболее сильные, «ударные» эпизоды. Исследователи, кстати, склонялись к мнению, что свои записи Никитин делал разрозненно на протяжении всех шести лет, а в последние месяцы перед возвращением, уже собираясь на родину, «причесал», отредактировал окончательный текст. О том, что эти записи не были единым сочинением, писавшимся «задним числом», говорит хотя бы то, что Афанасий часто рассказывает о своих переживаниях в настоящем времени, или выражает недоумение, чем закончится то или иное его приключение.
Исследователей интересовал, как всегда, и главный вопрос – а сам ли Афанасий написал «Хождение»? Нет ли в этом тексте какого-то подвоха, скрытого авторства? Что, если вовсе не Никитин автор «Хождения»?
Пожалуй, самые убедительные доказательства авторства тверского купца предоставила В. П. Адрианова-Перетц, опубликовавшая в 1948 году статью, где «Хождение» сравнивалось с произведениями близкого жанра – паломническими «хожениями», изучению которых Адрианова-Перетц посвятила много лет. Она занималась «хожениями» игумена Даниила (в различных версиях и переработках), Арсения Солунского, Даниила Корсунского, Василия Гагары, Ипполита Вишенского. И сопоставляя их с «Хождением за три моря», пришла к выводу, что Афанасий Никитин – реально существовавший автор. Отдав – сознательно или невольно – дань принятой в его время литературной традиции, он, писала Адрианова-Перетц, «создал для передачи своих впечатлений лично ему принадлежащую манеру изложения, свой стиль». Она, как и Трубецкой, обратила внимание на так называемые «варваризмы» в тексте «Хождения за три моря» – отдельные слова и фразы, написанные на своеобразном тюрко-персидском жаргоне, – но нашла этому другое объяснение: предположила, что на этом оригинальном арго изъяснялись русские купцы, торговавшие в Средней Азии. И сам Афанасий, используя эти слова и фразы в своем тексте, вовсе не старался придать тексту занимательности, остросюжетности, «экзотичности» – он писал на том языке, к которому привык, на котором общался с деловыми партнерами. С кем поведешься, от того и наберешься.
Уже в первой редакции своей статьи В. П. Адрианова-Перетц охарактеризовала Никитина совсем иначе, чем это делали авторы, склонные видеть в авторе «Хождения» купца-дипломата, сознательно стремившегося в Индию и удачно осуществившего там свою миссию: Она справедливо заметила, что из текста «Хождения» не видно, что торговые дела в Индии «складывались для Никитина особенно благоприятно. Он вообще проходит перед читателем больше как любознательный путешественник, чем как деловитый купец, совершающий выгодные сделки». С полным основанием Адрианова-Перетц возражала и против версии, будто Афанасий записал свое произведение только после благополучного возвращения домой: «Не говоря уже о том, как трудно, а порою невозможно удержать в памяти такое обилие фактических подробностей (например, точное указание расстояний между городами в днях пути и в ковах), обстановка тяжелого обратного путешествия была совсем не подходящей для литературного труда…» В тексте «Хождения», отмечала она, есть несомненные следы того, как иногда свои размышления Никитин записывал сразу. Так, перед описанием похода Мелика на Виджаянагар Никитин задумывается, каким путем ему возвращаться на родину, и записывает эти тревожные мысли явно сразу, еще перед путешествием, поэтому и рассказывает о них в настоящем времени» («Господи боже, на тя уповаю, спаси меня, господи! Пути не знаю» – это явно пишет человек, попавший в заваруху и не знающий, как из нее выбраться).
Но главный вывод, к которому пришла Адрианова-Перетц – что перед нами подлинные путевые записки, созданные тверским купцом во время его путешествия в Индию. Текст записок, несомненно, состоит из нескольких разновременных пластов. Описание начала путешествия (путь до Дербента, ограбление в пути, путь через Каспийское море) Никитин, очевидно, составил, уже проделав значительную часть пути – в Ормузе или даже в Индии; рассказ об обратном пути до Крыма также написан после его окончания – вероятнее всего, в Кафе. Остальной текст, построенный по типу дневника (хотя и без разбивки на отдельные дни), был написан до возвращения из Индии, но также не единовременно.
В общем, делаем вывод. Для того чтобы понять место «Хождения за три моря» в русской литературе и общественной мысли, нет необходимости делать из этого сочинения «экзотическое» повествование, в котором выражения горя и радости сочинены задним числом для большей драматизации. Не надо делать дипломата и «торгового разведчика» и из самого «грешного Афанасия». Его записки, рассматриваемые без каких-либо домыслов об их «государственном» назначении или скрытом смысле, достаточно драматичны и сами по себе.
* * *
О драматичности надо сказать особо. Нельзя не заметить, что «Хождение за три моря» – очень ЭТИКЕТНЫЙ текст. Поясним, что имеется в виду. Древнерусские авторы чаще всего, описывая свои путешествия, писали не то, что с ними происходило, а то что ДОЛЖНО БЫЛО произойти согласно определенным литературным канонам. Это же можно отнести к древнерусскому биографическому жанру: образы святых в древнерусских житиях – это, по известному выражению Василия Ключевского, «не портреты, а иконы». Вовсе не является гарантией достоверности и повествование от первого лица в литературных памятниках: в таких повествованиях, например в «Сказании об Индийском царстве» – в легендарном письме индийского «царя-попа» Иоанна византийскому императору, в сказочной «Повести о Вавилоне» XV века, в рассказе новгородцев, видевших «земной рай», включенном в летописное Послание Василия Федору, – от первого лица сообщаются явно фантастические и сказочные эпизоды.
Эта фантастичность практически отсутствует в «Хождении за три моря». Никитин пишет как слышит (иногда буквально – названия чужеземных городов он записывал на слух, и это впоследствии потребовало отдельной расшифровки исследователей). Он пишет, но не сочиняет: не домысливает, не воображает, не фантазирует. Во всем «Хождении» есть только два явно легендарных рассказа – о птице «гукук» и «князе обезьянском», и то записано это с чужих слов («сказывают…»). Тверской купец вовсе не выдавал себя за очевидца походов «обезьянского царя» или что видел зловещую птицу, изрыгающую огонь. Он описывал свои впечатления четко, деловито, выразительно – и максимально точно. Эта подчеркнутая безыскусность, простота повествования стиля и языка, по мнению еще одного исследователя, Н. И. Прокофьева, требовала не меньшего литературного умения, выучки и мастерства, чем риторически приукрашенное «плетение словес». Одаренный рассказчик, даже не имеющий специальной литературной выучки, опишет свои впечатления так, что мы увидим их его глазами.
А Афанасий Никитин был рассказчиком одаренным. Да что там – талантливым! Если он и использовал сильную деталь, то всегда к месту. Вот русская торговая ладья пробирается по ночной Волге мимо Астрахани – «а месяц светит, и царь астраханский нас видит». И мы прямо представляем, видим перед мысленным взором эту бесшумно скользящую по водной глади ладью, и яркий лунный свет, и зябкое ощущение у всех, кто в эту минуту находится на борту и напряженно вглядывается в темный берег, что кто-то оттуда за ними следит, наблюдает – может, и сам «астраханский царь»…
Именно благодаря этим художественным деталям мы получаем представление о настроениях героя на чужбине, и для нас, читающих его сочинение пять веков спустя, «безыскусственные записки» Никитина оказываются более живыми, чем изощренное этикетное повествование мастеров «плетения словес» XV века – таких, как Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. Никитин, несомненно, знал и читал «паломники» и «хожения в святые земли», существовавшие в то время, – он заимствовал из них, например, систему кратких указаний расстояния между пройденными городами, – но в остальном он опирался на свой природный литературный талант. К запискам Никитин (как и многие авторы дневников) обращался прежде всего для самого себя, чтобы преодолеть чувство одиночества, а также, возможно, для того, чтобы не забыть в чужой среде русский язык. Именно такое отсутствие расчета на определенного и скорого читателя сделало «Хождение» одним из наиболее личных текстов – а может, и первым личным текстом в русской литературе.
И еще один важный момент. В «Хождении за три моря» нет поучений, нет дидактики – тогда как вся средневековая литература пронизана токами дидактичности, читателя не просто учат – его поучают. Евгения Ванина в книге «Средневековое мышление» пишет: «Дидактика являлась для средневекового автора важнейшим мировоззренческим принципом и творческим приемом, часто откровенно декларируемым в зачине или конце произведения. Герои всегда олицетворяли те или иные добродетели или пороки, причем в меньшей степени “общечеловеческие”, а в большей – сословные, кастовые, реже – конфессиональные. Погружая своих персонажей в мир различных приключений, часто фантастических, автор обычно ставил их перед выбором между добром и злом, пороком и добродетелью; сама фантастичность ситуации диктовалась характером героев. Человек-идея, человек-образец (особенно если речь шла о воинской доблести, справедливости, мудрости, великодушии, как правило соотносившихся со знатным происхождением) просто не мог действовать в обычной среде: сверхъестественные обстоятельства требовали от него сверхъестественных добродетелей и тем самым задавали читателям/слушателям некую планку, которую обычный человек преодолеть не мог, но к которой он должен был стремиться».
Ничего этого в «Хождении за три моря» нет. Поэтому когда мы читаем этот текст, мы вполне можем представить индивидуальность автора – характер, слог, темперамент, мысли. Иногда кажется, что еще одно усилие – и мы увидим самого Афанасия, услышим его голос. Люди, приехавшие в Тверь из других мест, как автор этих строк, отмечают, что старые тверичи говорят в мягкой негромкой манере – как знать, может и наш герой говорил так же, «на тверской лад».
* * *
«В Индийской земле княжат все хорасанцы, и бояре все хорасанцы», – пишет Никитин (хорасанцами, как уже говорилось, в то время называли мусульман неиндийского происхождения, выходцев из разных областей Азии). И тут мы приближаемся к самому, пожалуй, горячему, как испеченный в тандыре лаваш, вопросу: можно ли на основе внимательного изучения текста «Хождения за три моря» сделать вывод, что в Индии Афанасий Никитин стал отступником, принял ислам?
Это, возможно, наиболее интересное (по крайней мере, для ряда исследователей) обстоятельство, потому что «испытание верой» выглядит наиболее серьезным, как сказали бы сейчас, челленджем для тверского купца. К тому же во всем «Хождении» тема сосуществования повествователя с чужой верой (вернее, чужими верами) является наиболее болезненным метасюжетом всего памятника. Афанасий Никитин оказался на территории султаната, основанного династией Бахманидов – они были мусульманами. Господствующим «бесерменам» противопоставляются в его изложении «гундустанцы», «индеяне», «сельские люди» – завоеванное коренное население Индии, индуисты по религии. В «Индийской стране» Афанасий Никитин ощущал себя прежде всего «гарипом» – иноземцем, «белым человеком», противостоящим всем «черным мужам и женам», смуглым жителям Индии (независимо от вероисповедания), но особенно «бесерменам», которых он воспринимал как хозяев страны.
Как же он мог вести себя в этой сложной обстановке? Лучше всех этот парадокс сформулировал Дмитрий Челышев: «Многие места дневников Никитина свидетельствуют о том, что русскому купцу нередко приходилось отстаивать свои религиозные убеждения в нелегкой борьбе, из которой он в конечном итоге вышел победителем. Но при этом он потерял в другом – христианская вера, которую так ревностно оберегал тверичанин, на всем протяжении его странствий по индийской земле выступала в качестве главной преграды, препятствовавшей его психологической адаптации к окружающей действительности. Но он не пожертвовал ей, что характеризует его как человека цельного и сильного, сумевшего избежать растворения в принципиально иной социально-культурной и религиозной среде».
Проблема в том, что сам Никитин однозначного ответа не оставил. В веселые минуты он писал о гостеприимстве «черных людей», в минуты уныния и отчаяния настроение его менялось, и он осуждал «псов бесерменских», которые «залгали» Никитину о выгодности индийской торговли. И они же, по его словам, постоянно принуждали Афанасия к перемене веры. После того, как у него силой отобрали его единственный актив – жеребца – и пригрозили не вернуть, если он не примет ислам, Афанасий горестно восклицает: «Братья русские христиане, захочет кто идти в Индийскую землю – оставь веру свою на Руси, да, призвав Мухаммеда, иди в Гундустанскую землю». Звучит это как предостережение (мол, не лезьте вы в эту Индию, подметки на ходу режут), но при желании можно увидеть в этом и некое скрытое признание – не находите?
Есть интересное исследование О. В. Родионовой о том, насколько хорошо Афанасий Никитин знал мусульман, которых он называет «бесерменами» до того, как попал в Индию. Знал, конечно, знал! Ислам и православие в той или иной форме сосуществовали вместе задолго до времен Афанасия. В Твери сохранились упоминания о Татарской слободе, рядом, в Москве к тому времени уже существовали Большая и Малая Ордынки, среди старинных тверских фамилий часто встречаются Толмачевы, то есть потомки переводчиков-толмачей. Иными словами, во времена Афанасия Никитина в Твери, безусловно, жили мусульмане.
Другое дело, что именно в Индии Афанасий столкнулся с угрозой насильственного обращения в мусульманство. С индуистами отношения складывались легче и проще – у «индеян», по сведениям тверского купца, было «80 и 4 веры», причем «вера с верою не пьет, ни ест, ни женится». Как свойственно политеистам, индуисты позволяли иноземцам верить во все, что тем заблагорассудится. Мусульмане же были не такими. Как и православные, они были монотеистами, считали себя «правоверными», полагали, что их вера – единственно истинная. Именно поэтому постоянно требовали от Афанасия, чтобы он обратился в ислам, понуждали его «веру бесерменскую стати». Понятно, что одни исследователи полагают, что он в конце концов поддался, другие – что нет.
Среди тех, кто за «поддался» – американская исследовательница Габриэлла Ленхофф, автор специального исследования «За тремя морями: путь Афанасия Никитина от православия к отступничеству», которое уже самим заголовком высказывает ее идею: Афанасий Никитин не сохранил в Индии православной веры, а обратился в ислам. Ленхофф считает Афанасия купцом, имевшим «какое-то представление о том, что ждало его за Каспийским морем», разведывавшим «легендарные рынки Индии», участником «поисков новых рынков». Верность Афанасия вере была несовместима с его «интересами купца и успехами путешественника», а торговые интересы в Индии требовали его обращения в мусульманство. Свидетельством его отступничества и, в сущности, единственным доказательством тезиса об обращении Никитина в ислам служат для исследовательницы полумусульманские-полухристианские и «креолизированные арабские» молитвы, содержащиеся в «Хождении», а также замечание Афанасия в одном месте его записок о могуществе «Мамет (Махмет) дени» (Магометовой веры). Путешествие Никитина, пишет Г. Ленхофф, «начиналось со стандартной православной молитвы», но заключительная мусульманская молитва «не оставляла сомнений относительно сущности его веры». Вывод этот находится в явном противоречии с многократными утверждениями Никитина о его верности христианству.
Предполагаемый «путь Никитина от православия к отступничеству» противоречит также поведению и судьбе автора «Хождения». Как и обращение в христианство, обращение в ислам совершается путем определенного обряда – но в мусульманстве, в отличие от христианства, обряд этот имеет ясную и очевидную форму обрезания. Если Никитин в Индии обрезался, то ехать после этого на Русь (а ведь он не остался в татарском Крыму, а направился дальше к Смоленску) было самоубийственным актом. За отступничество бывший православный христианин вполне мог подвергнуться у себя на родине смертной казни. Если же Никитин этого решающего обряда не совершил – то чего стоило его обращение в «правую веру» в глазах мусульман? Скрыть свою принадлежность или непринадлежность к исламу было одинаково невозможно и в Индии и на Руси – и одинаково опасно в обеих землях.
В скобках заметим, что П. В. Алексеев, исследователь из Горно-Алтайска, написавший интересную статью «Мусульманский код “Хождения за три моря” Афанасия Никитина», утверждает, что, строго говоря, можно было обойтись и без обрезания. Инициация в исламе осуществляется не формой обрезания, а исключительно вербальным путем – публичным произнесением «шахады» (свидетельства): «La ilaha illa-llah Muhammadur-rasulu l-lah» (по-арабски «Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха»). Обрезание является «сунной», желательной, но не обязательной гигиенической практикой в трех из четырех основных правовых школах ислама (мазхабах), исключая только мазхаб шафиитов.
Тем не менее история Афанасия Никитина до сих пор привлекает исламских исследователей прежде всего потому, что это была первая на тот момент попытка преодоления культурной замкнутости Руси в направлении ислама. Именно это и породило научный спор о религиозной принадлежности тверского купца. Тот же П. Алексеев подчеркивает, что мы имеем дело с картиной мира человека, о которой мы знаем только с его собственных слов, и поэтому невозможно описать религиозные движения Никитина одной из «застывших» характеристик – «мусульманин» или «немусульманин». Отношение Никитина к исламу, а если шире – к вере, к религии – вообще оказывается намного сложнее.
Если мы рассматриваем сугубо практические последствия путешествия (сделал Никитин обрезание или нет), то, безусловно, правы те, кто считает, что Никитин ислам не принял. Но если возьмемся рассматривать «Хождение за три моря» в семиотическом поле, в поле символов и знаков, нельзя не признать, что в нем присутствует серьезная «мусульманская доминанта». Афанасий Никитин – европеец, человек русской культуры, оказывается в мире, где преобладают мусульманские ценности. Он шесть лет живет среди людей, воспитанных на этих ценностях. Он пытается их понять – и через них понять «магометанскую веру», а через это понять и собственное православие. Именно поэтому, утверждал Алексеев, невозможно интерпретировать христианское сознание Никитина и пытаться представить его как произведение отчасти мусульманское, поскольку они основываются на разных типах художественного мышления.
В качестве примера исследователь приводит цитату из письма французского философа эпохи Просвещения Шарля де Монтескье, который в «Персидских письмах» писал: «Дервиш – это монах магометанской церкви». У Афанасия Никитина тоже встречаются дервиши (он называл их «дербиши»): «Пегу тоже пристань немалая. Живут там индийские дербиши, а родятся там драгоценные камни: маник, да яхонт, да кирпук, и продают те камни дербиши». Представителю немусульманской культуры невозможно объяснить себе, почему дервиши, будучи «монахами» отнюдь не удаляются от мира, а занимаются торговлей, порой весьма состоятельны и имеют по несколько жен, а «магометанская церковь» – мечеть – не имеет алтаря, главного атрибута православного храма. Что самое удивительное, ислам не имеет института священничества «на освобожденной основе»: функции имама могут попеременно выполнять прихожане, утверждающие, что не нуждаются ни в каких посредниках для общения с Богом.
Для исследователя проблемы «Афанасий Никитин и ислам» здесь спрятана методологическая ловушка: по своим внешним признакам мусульманская традиция напоминает западноевропейскую, но общие для обоих концептуальные понятия (Бог, Священное Писание, молитва, судьба и др.) при более глубоком их рассмотрении вызывают ощущение «фундаментальной непонятости» этой семиотической системы. Это происходит от недостатка тех средств, которые предоставляет исследователям российская и западноевропейская традиция для «вполне корректной и ненасильственной интерпретации чужой традиции».
Скорее всего, «Хождение за три моря» зафиксировало сложную ситуацию духовного поиска русского православного купца. Является ли Афанасий Никитин православным по вере своей? Является, спору нет. А что для него важнее? И оказывается, что важнее всего для него оставаться дисциплинированным адептом церкви, сохранять внешнее благочестие и тщательно выполнять все обряды (вспомним, что впоследствии именно разногласия в обрядовости привели православную церковь к расколу). Афанасий переживает, что «забыл веры крестьянские» не потому, что называет своего Бога Аллахом, что немыслимо для православного, а потому что из-за потери книг не может совершать обрядовые действия, отмечать религиозные праздники. «Показательно, что Афанасий Никитин молится на языках, выученных во время странствия, переплетая турецкие, арабские и персидские диалекты. Мусульманские молитвы не носят характера отхода от христианства. Выросший в вере русский беженец не может жить без повседневных религиозных обрядов. Его смятение говорит не о внутреннем кризисе, а о духовном состоянии, свойственном той цивилизации, сыном которой он все равно остается», – пишет А. Ф. Галимуллина в «Вестнике ТГПУ». Тем не менее когда «бесермен Малик» пытается принудить его принять ислам, а Никитин отказывается, ссылаясь на разницу в молитвах и свою внеположенность этим землям («гарипство»), Мелик резонно комментирует это: «Истинну ты не бесерменин кажешися, а и кристьяньства не знаешь».
И здесь возникает один из самых могучих скрытых смыслов «Хождения»: Афанасий Никитин, прожив несколько лет в мусульманской стране, становится из «благочестивого прихожанина» настоящей «христианской личностью» – причем становится благодаря более глубокому познанию ислама. По мнению П. Алексеева, конфликт «внутреннего» и «внешнего» («веры» и «религии») решается введением в текст «Хождения» скрытой структуры, выражающей идею таухида – центрального философского понятия ислама.
Поговорим об этом немного подробнее. Подобное противоречие было свойственно не только Никитину. За полгода до падения Константинополя, «второго Рима», в ноябре 1452 года командующий византийским флотом Лука Нотарас произнес знаменитую фразу: «Лучше чалма, чем тиара» – тем самым, выражая общий характер религиозности XV века. Смещение духовного центра, потеря четких внутренних ориентиров открывали широкий простор религиозному вольнодумству. Как раз во времена Афанасия Никитина возникла новгородско-московская ересь «жидовствующих», отрицающая институты священничества, монашества, иконопочитания, нацеленная на поиски смысла жизни вне христианской церкви – и, конечно, Никитин, живя в Твери, одном из центров русского православия, не мог не знать об этих спорах, общественной и религиозной полемике. В конце концов, напомним, что сам он принадлежал к обществу, которое жило в лихорадочном ожидании, в преддверии ожидаемого в 7000 году (1492) «конца времен», конца света.
Не может быть, чтобы он не задавался вопросами, является ли вера, к которой он духовно принадлежал, истинно верной, единственной, истинной? Поэтому концепция таухида, которую обнаружили исламские исследователи в тексте «Хождения» – весьма интересный, как сказали бы нынешние ученые, завиток этой темы.
Таухид, с позиций мусульманской мистической философии, это не просто основа религиозной системы, это – основа мироздания, интерпретация которой не умещается в рамки какой-то одной догматики и обрядности. Будучи концепцией абсолютного единства Бога, который не имеет «помощников» ни в создании мира, ни в управлении им, таухид отрицает деление пространства на «свое» и «чужое», на то, где есть Бог и то, где его нет. Сознание, воспринимающее реальность под таким углом зрения, видит за множеством феноменов и знаковых систем божественное единство. Отсюда иные религии в суфизме воспринимаются не как ложные, а как необходимые, исторически обоснованные грани бытия. В этом смысле страстную молитву самого Афанасия («Господи! Призри меня и помилуй меня, ибо я создание твое; не дай, Господи, свернуть мне с пути истинного, наставь меня, Господи, на путь правый, ибо в нужде не был я добродетелен перед тобой, Господи Боже мой, все дни свои во зле прожил. Господь мой, Бог покровитель, ты, Боже, Господи милостивый, Господь милосердный, милостивый и милосердный. Хвала Богу. Уже прошло четыре Пасхи, как я в бесерменской земле, а христианства я не оставил. Далее Бог ведает, что будет. Господи Боже мой, на тебя уповал, спаси меня, Господи Боже мой») можно рассматривать как факт преодоления дробного восприятия действительности, объединяющую не столько два языка, сколько устойчивые формулы двух ментальных систем.
В этом отношении необходимо вспомнить гипотезу Б. А. Успенского о том, что для Никитина Индия была «нечистым местом», а написанный в ней текст являлся своего рода сознательным выражением «антиповедения». По мнению ученого, находясь в «чужом» пространстве, Никитин «сознательно» совершал запретные вещи, что в мифологическом отношении может выступать охранительным знаком. В этом смысле (при наличии идеи таухида в картине мира Афанасия) в прорыве к надконфессиональному пониманию Бога видится несомненное влияние мусульманской мистической философии – суфизма, в форме которого, главным образом, ислам и распространялся в Индии XV века.
Этот факт имеет большое значение, так как раскрывается в корреляции «вера – религия»: на индусов произвела огромное впечатление практика суфийских орденов и их учения о наличии разных дорог к единому Богу, а не догматика и обрядность. Несмотря на льготную для неофитов-мусульман экономическую политику Бахманидского султаната, кастовое деление общества оказалось сильным препятствием широкому распространению ислама среди местного населения, продолжавшего исповедовать, по выражению Афанасия Никитина, «80 и 4 веры». Тем не менее в правящих и торгово-ремесленных кругах Индии возникли движения типа бхакти и сикхов как попытка синтеза ислама и индийского язычества. В умах народа происходило слияние Рамы (одной из аватар Вишну) и Рахима (одного из Имен Аллаха), и преданность единому (в знак протеста – немусульманскому и неиндуистскому) Богу оформлялась в «религию любви». Падишах Акбар (1544–1605) был увлечен созданием синкретической религии «дин-и-илахи», которая соединила бы в себе элементы ислама и индуизма; торговец зерном в Лахоре индус Нанак (1469–1539) перенял организационную форму суфизма и тоже основал новую религию став первым из десяти гуру сикхов.
Близость философских позиций Никитина суфизму, как это ни странно, прослеживается по линии мотива «свой среди чужих, чужой среди своих». Известный суфийский пир и великий поэт XIII века Джалаладдин Руми, творчество которого во время путешествия Никитина уже имело огромное влияние на Индостан, в одном из своих стихотворений заявляет:
О правоверные, себя утратил я среди людей.
Я чужд Христу, исламу чужд, не варвар и не иудей.
Я четырех начал лишен, не подчинен движенью сфер,
Мне чужды запад и восток, моря и горы – я ничей.
Сравнение лирического субъекта этого стихотворения с образом автора в «Хождении», дает, кроме удивительного мировоззренческого сходства, возможность уточнить психологическое состояние Никитина: тяжелые раздумья о потере им «русскости» в среде «чужих» расширяются до пределов философского обобщения, конструирующего иную модель мира: мы имеем ту же сетку координат (ислам – христианство – иудаизм – язычество), только уже обобщенную идеей вселенского универсализма. Акцентированная «непринадлежность» лирического героя ни к одному из элементов всемирной духовной системы координат означает принадлежность ко всем. В еще более раннего суфия Омара ибн аль-Фарида (XIII век), в котором Аллах (по некоторой аналогии с кораническим текстом, где, согласно мусульманской концепции, каждое слово – это прямая речь Бога) говорит:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































