Текст книги "Дон Иван"
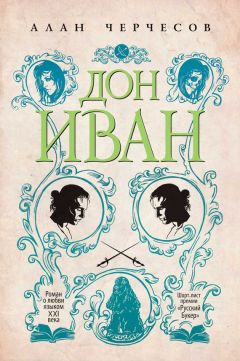
Автор книги: Алан Черчесов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
– Подход настоящего профи.
– Напрасно язвишь. Бунюэль, например, старался кино не смотреть, чтобы делать кино Бунюэля.
– Но сначала он стал Бунюэлем, посмотрев кучу тех, кто был до него.
– Ему было легче: киношная куча росла для него лишь с конца предыдущего века. А на нашей горе давно места свободного нет.
Умение Жанны меня убеждать было столь же искусно, как и талант не давить на мое самолюбие, притворяясь, что я волен сам делать выбор.
Я выбрал английский с французским, а спустя ровно год занялся и испанским – случайный, но (как любая случайность, подстроенная прозорливым неведением неизлечимой тоски) предусмотрительный шаг, к тому же давно предусмотренный свыше. Для меня, уточню, это был первый шаг к обретению родины, которую позже найду я отнюдь не в границах чужой и прекрасной страны, а в сердце и лоне единственной, окончательной женщины, уже окликавшей меня из туманной и солнечной дали. Кто сказал, что случайность – рычаг провидения? Я бы пожал ему руку…»
* * *
– Пушкин сказал. Только у него не рычаг, а орудие.
– А у Дона – рычаг. Фаллический символ. Что еще?
– Это уже не кино.
– Это уже похвала?
– Не совсем. Где любовь?
– До нее ему кочевать пятилетку.
– Пролистни.
– Не могу.
– Почему? Ты же сам говорил, что ему должны помогать чудеса.
– Чудо – не фокус, в кармане не спрячешь. Чудо – это когда на краю, когда ни на что нет надежды, кроме надежды на чудо. Тут оно – раз! – и чудесит. Заслужить его надо. И потом, я уже написал там: пять лет. Не вырубишь топором.
– Вырублю. Помнишь свидание Дона с Инессой после войны?
– Ну?
– И когда оно было, если с фронта он сразу поехал в Москву, а из Москвы – никуда, потому что живет там без паспорта? Или тут чудо ему начудесило?
– Ах ты, ехидна! И что теперь делать?
– Пролистни эти чертовы годы – и квиты.
– Не могу!
– Что ж, позовешь, когда Дон твой созреет до чуда. Через пять лет увидимся. Извини, дорогой, но мне тоже надо работать.
– Переводишь эту муру?
– Не муру, а чудесную книгу.
– «Как управлять с того света»? Вот уж чудо – не выбор!
– Во-первых, не выбор, а платят хорошие деньги. Во-вторых, мне и впрямь интересно. Не веришь? Послушай: «Завещание есть освященный традицией трюк, которым усопшие навязывают живым свою волю. Посредством него мертвецы нами верховодят. Иных доказательств посмертного вознесения душ (да еще столь бесспорных и массовых) предъявить нам история не удосужилась».
– Не удосужилась, потому что и это не доказательство. Завещания составляют живые, чтобы мстить нам за то, что они раньше умерли.
– Только мстят они нам с того света.
– Детали.
– А посылка от Анны?
– Реальность.
– И что в ней?
– Еще не придумал.
– А если уже не придумаешь?
– Как-нибудь выкручусь. Но без посылки от Анны нельзя: когда чудо пришло, экономить на чуде негоже.
– В Испании плохо работает почта?
– В Испании плохо работает время: его там так много, что сквозь него продираешься, как через джунгли теней. Там каждый камень из мостовой держит в памяти больше, чем любой русский памятник. Там время для всех замирает, даже если бежит, потому что столетия время бежало там пущенной кровью.
– А зачем нам застывшее время?
– Чтобы успеть рассказать о любви.
– Тогда пусть застывает, а я потружусь, не то мое время утечет моим гонораром.
– Ты ничего не сказала о тексте.
– Нормальный кусок с полунормальным Жуаном и его ненормальными бабами. Интригует. Порой веселит.
– Ты меня даже не ревновала?
– К чему? К твоим серым извилинам? Я тебя слишком знаю. Ты грешишь исключительно в воображении – со своим же воображением, чтоб распалить еще больше воображение.
– Слова ваши очень обидные, Тетя!
– Не строй из себя сладострастника. Ты не Герка. А если вдруг в чем не соврал, так то Герман с тобой поделился. И потом, зачем человеку с опытом личных измен качать из Сети разный бред про совокупления зверушек?
– Ты подглядела?
– Конечно. Теперь мне известно, что мужское достоинство трутня взрывается в теле у самки, что плоские черви – гермафродиты, а обезьянки бонобо используют секс как приветствие, практикуют оральные ласки и не чураются однополой любви. И давно тебя это заводит?
– Мне нужны типажи.
– Я так и подумала.
– Хорошо, – сказал я. – Ладно. Посмотрим.
– Дядя дуться надумал?
– Дядя надумал тебе отомстить.
– Это как? Подашься к бонобо или отдашься гиене с фальшьпенисом?
Когда вас не ревнуют, вы сами ужасно ревнуете. Я вспоминаю про анонимку и думаю: чем черт не шутит. Раньше Светка мне говорила, что скандалов не будет, но если я ей изменю, она мне изменит всю жизнь. Драться не станет, а просто наденет пальто и уйдет. Если я изменю, значит, мне ее недостаточно. Если мне ее недостаточно, значит, ее для меня сделалось слишком уж много. Если я изменю, то лучше бы ей не узнать, потому что иначе я не оставлю ей выхода, кроме как выхода вон. Раньше она говорила, неверность – это неверие в то, что можно любить одного человека, чтобы смириться с существованием всех остальных. Раньше я думал, что это бравада, но допускал и возможность ошибки. Изменять не очень тянуло, да я и боялся А когда сквозь боязнь изменял, казнил себя тем, что вымарывал это из памяти, как неудачный абзац из романа.
Подобных абзацев за годы набралось не больше страницы. Вопрос: так зачем же я изменял?
Затем, что дурак, затем, что тщеславие, затем, что за тридцать, затем, что боялся бояться, затем, что писака, затем, что писал по себе черновик. Затем, что пытался нагадить писавшему набело черным меня. Затем, что завидовал Герке, который любил, как дышал, и дышал, с кем хотел, а дышать с ним хотели не так, как со мной, в полдуши, а до потери дыхания. Затем изменял я своей идеальной жене, что изменил ей уже нерождением сына, и порой лез на стенку, чтоб ей изменить и она бы об этом узнала: обрекать ее на бездетство было невмоготу, а завести чужеродного сына – невыносимо. Все одно что присвоить чей-то готовый роман и подписать своим именем.
О раскладе таком Тетя даже не заикалась, но оттого становилось лишь горше: предложи Светлана усыновить нам ребенка, я бы впал в ярость, но ярость проходит, а мысль остается. Хватит сил – и к ней можно вернуться, потому что забыть ее больше нельзя. Только это не самое страшное.
Самое страшное то, что я был готов и простить. Измени Светка мне с тем же Германом, я бы, клянусь, не заметил, что у нас будет наш немой сын. Я бы вскрыл себе вены, как Эра-Долорес, но если б не вытек в дыру, был бы счастливым папашей и преданным другом, преданным собственным другом, чтоб не предать нам семью.
Штука в том, что когда ты готов наплевать на измену, а измены как будто и нет, подозреваешь измену во всем.
– Я напишу завещание. Завещаю тебе всю жизнь умирать от любви и при этом жить вечно.
– Жестоко. Я против.
– Детали.
– Реальность. Нельзя завещать то, чего ты лишен.
– Завещание – это последняя воля. Я завещаю тебе свою волю – в придачу к своей же любви.
– Есть вероятность, что ты не успеешь.
– Жестоко.
– Лучше забудь про мартышек и вспомни об Анне.
– У меня в запасе пять лет.
– А у меня – пять недель, после чего я обязана сдать перевод.
– Переводчик Харон.
– Оценила иронию.
– Приветы Плутону.
Дверь закрылась. Цербер дышит воинственно в щелку над полом. Доступ к телу, похоже, закрыт.
Сложно не ссориться с той, кому изменил и кого бесконечно ревнуешь.
Сложно быть хуже в себе, чем в глазах у другого.
Сложно знать, что ты пишешь роман, который уже не мечтаешь читать – слишком много в нем развелось компромиссов с припрятанным в тайнички бытием…
* * *
С Геркой проще: тот ничего не мечтает читать, ничего особо не прячет, живет напоказ, делая заступы в небытие, и обожает послушать про баб.
– Короче, я понял: нужна экспертиза. Что ж, милейший, к вашим услугам. Только давай без страничек! Воспринимаю я лучше на слух – если нельзя уж на ощупь. Огонь!
Я палю:
– Пять лет Дон успешно черствеет и брюзгнет душой. Что называется, матереет – на ленивый покой, снисходительную пытливость и хладнокровное благоразумие, присущее трусам и мудрецам. И уже не бежит от Альфонса в приступы сомнамбулизма, излечившись от всяких истерик. На амурные приключения, санкционированные Клопрот-Мирон, отправляется, как на работу: максимальная сдержанность и абсолютный контроль над эмоциями, слишком редко переходящими в чувства, чтоб доставлять серьезные хлопоты.
– Прямо лабораторный ученый!
– В самую точку. Наш приятель как раз вознамерился изучать симулякры любви. Наряду с остальным в сферу его изысканий входит эротолингвистика – проверка на практике устоявшихся выражений: «любви все возрасты покорны», «любовь как служение», «сука-любовь», «любовь не ведает преград», «продажная любовь», «любовь зла, полюбишь и козла», «любовь слепа», «нет ничего сильнее любви», ну и т. д. Чистота поставленных экспериментов и частота проводимых опытов если чему и способствуют, так крепнущей убежденности, что это расхожие штампы. Тут и там любовь продажная выдает себя за служение, а слепая любовь кусает, как сука, зараженная бешенством ревности, для которого не существует преград. Возраст покорен любви до тех пор, пока в чреслах его обитает упругая сила, а в кошельке скачет звон. Своих лабораторных партнерш Дон, как правило, презирает, но сочувствует их ламентациям. «Иногда мне кажется, что ты не утратил невинности, – ропщет Жанна. – Удивительно, как может в одном человеке цинизм сутенера уживаться с монашеским целомудрием. Определись, наконец, кто ты – целка или Жуан!»
– Видит Бог, старушка права!
– Видит Бог, Дон старается. И навещает порой проституток (на Жаннины деньги). Ты спросишь меня, с какой целью?
– Видит Бог, не спрошу.
– Да с той же, с какой мы берем микроскоп, чтоб подглядеть копошение микробов в капельке нашей слюны.
– Тьфу ты, Господи, гадость какая!
– В его падших подругах есть что-то от фокусников: тем и другим платят лишь за иллюзию, те и другие умеют являть собой власть и молчать о секретах.
– Насчет молчать о секретах – это ты убери. Шлюшки молчат о секретах лишь для того, чтоб набить себе цену.
– Так же, как фокусники!
– Про этих не знаю. А про путан уточню: болтать они любят не меньше, чем трахаться. Трахаться, кстати, почти и не любят. Одна меня тут навестила намедни и рассказала историю.
– Где навестила?
– На службе, конечно! Пришла попрощаться со старым клиентом, а заодно и разведать, отчего он презрел этот свет. Подозревала свою конкурентку: «Сонька, зараза, могла доконать. У нее ведь мошна вместо сердца. Перестаралась – и деду капут. Лучше б дождался, когда я с курорта вернусь. Так нет же, приспичило! А песок так и сыпался. Махонький, жалкий, как суслик. Чуть сильнее его распалишь – фьють! – отлетела душа. И хрыч про то знал. Смотришь в глаза, а там страх звериный. Считай, сам провоцирует. Подмывает прижать, словно суслика, и подождать, пока суслик свое отсвистит… А я, сердобольная, часик над ним поколдую, понянчу на самой черте, смерть его подразню, потаскаю, словно котенка, за хвостик, потом – шлеп! – пощечиной старичка воскрешу, подтяжки поправлю и отпущу восвояси. Он мне ручки целует и зовет своим ангелом. Если подумать, я ангел и есть: дарю ему рай на земле, а сама терплю ад. Кто еще будет трахаться с трупом и вдыхать в его трубочку жизнь, ну, скажи? Только мы. Какие уж тут женщины легкого поведения!» А ты говоришь, ангел – я! Вот где святые трудяги. Но, как и всюду, водятся здесь и свои дьяволицы…
Я его прерываю рукописной цитатой:
«Их отличали коварная алчность и ослепительная красота. Устоять перед ними удавалось немногим. Сойдя с панели и выйдя, весьма убедительно, замуж, вампирши преуспевали в карьере, пожирали своих конкурентов, стервенели от собственных ран, наживали уйму врагов, постепенно дурнели собой, превращались в алкоголичек, годами лечились, грызли слуг и лупили детей. Кое-кого из мегер находили затем со следами насильственной смерти на дешевых курортах Востока и не могли опознать месяцами, принимая за посетивших с рабочим визитом страну жриц любви. Так посмертно они возвращались в профессию, без которой заметно страдали. Власть денег не всякой способна была возместить власть распутства: одно дело – бороться со старостью, и другое – ее презирать.
Кто был посильнее характером, внедрялся особым агентом порока в самое высшее общество. Привыкши к торговле телом, вчерашние шлюхи легко торговали душой и делались вскоре незаменимы – что в коммерческих махинациях, что в политическом плутовстве.
Находились среди потаскух и такие, кто не делал, не делался, а мечтал. Казалось, мечтал о несбыточном. Грезил о нем столь страстно и преданно, что загонял его в угол и не отступал. Как итог – наступало оно.
Вот сущая быль.
Наивная и неказистая, но работящая и безотказная передовичка бюро сексуальных услуг долго и глупо мечтает, завершив с ремеслом, женить на себе московского девственника и в обмен на прописку подарить ему деньги и верность. Скопив капитал, дает объявление и учиняет смотр кандидатам. Трое проходят в финал. Им она открывает всю правду. Двоих та не очень смущает. Оба барышне нравятся. Решают пожить дружной шведской семьей. Получается вроде неплохо. Через год с небольшим трио рождает потомство. Когда я встретил девицу в сквере на Чистых прудах, она толкала коляску для близнецов. Завидев меня, со смехом призналась, что хранить верность двоим, пожалуй что, легче, чем одному, но, с другой стороны, не ее же вина, что вышла такая поблажка! Счастье свое она заслужила. Да еще и с добавкой. Вот что значит лелеять мечту не на вырост, а в рост. Я – не умел».
– Про девицу – брехня!
– Не брехня. Я в газете читал.
– Значит, подавно брехня. Если верить газетам, нас с тобой просто поносит от счастья. Проститутки – как воры: верность они не хранят, а крадут у других, чтоб продать.
– Откуда ты знаешь?
– Неважно. Я не плачу за любовь.
– А за что ты платил?
– Сейчас дам тебе в морду. Читай!
Я веселюсь и читаю:
«Бывало, я забавлялся с любовью в рулетку и забрасывал сети в Сети. Улов оттуда выуживался разношерстный и разновеликий. Интернетовский эпистолярий – это душевный стриптиз в непроницаемых масках, под которыми может скрываться сестра, крокодил, мама лучшей подруги или классный руководитель.
Мне из этого списка попадались разве что пресмыкающиеся. Хуже всех были те, перед кем пресмыкались другие. Я и представить не мог, сколько богатых бездельниц пасется на сайтах. У дам, свыкшихся покупать, словно тряпки, мужчин, атрофируется чувство реальности. Чего ж удивляться, что вместо мужчин таким достаются лишь тряпки! Смириться с отказом бывает им так же трудно, как с разорением. Одна попыталась меня переехать, но промахнулась и врезалась в столб. Окаменев за рулем, не откликалась на просьбы открыть дверь машины. Подоспевший гаишник, подумав, что перебит позвоночник, вызвал по рации скорую. В каком-то смысле с диагнозом он не ошибся…
Попадались в Сети и безвредные рыбки: актрисы без первых ролей, художницы без подходящей натуры, умные жены неумных мужей, неумные жены умных мужей, ранние вдовы, внезапные разведенки, робкие девственницы, нагловатые полудевственницы, заторможенные бобылки и безбашенные блудницы. Не со всеми я спал. Кое с кем лишь ходил в ресторан, катался на катере или шалил, глотая зевок, в темноте кинозала. Затем менял ник и растворялся в “три-дабл-ю”. Спустя год или два я и вовсе себя “удалил”: надоело. Роман в Интернете – жанр тех, кто не хочет живать своей жизнью все отведенные суткам часы, кому позарез нужно выкроить в них хоть какую отдушину. Я своей жизнью не жил, оттого не нуждался в подделке подделки своей неживаемой жизни.
Что еще?..»
* * *
– Ну и что там еще?
– Если честно, не знаю.
– Тогда – Фортунатов. У него есть жена. А у жены есть любовник.
– И кто он?
– Твой Дон.
– Ага.
– Не ага, а вполне себе хоп!
* * *
– Помнишь Марию? Ненормальную дылду на вечеринке у Мизандарова? Ну, что не Моцарт и даже не д’Арк?
– Которая Магдалена и должна за всех пострадать?
– Ознакомься.
Передав Тете стопку страниц – десятидневную хронику своего торопливого одиночества, – я тороплюсь выйти вон, чтобы его наконец не читать:
«МАРИЯ
С женой Фортунатова я сошелся, во-первых, из-за того, что он мне не нравился, во-вторых, потому что нравились мне его книги, в-третьих, Клопрот-Мирон уезжала на месяц в Берлин, и мне это совершенно не нравилось, в-четвертых – только в-четвертых! – из-за того, что мне нравилась фортунатовская жена.
Была ли Мария красива? Кое-кто называл ее истеричкой с глазами на мокром месте. Все так, только в этих глазах уживались разом луна и солнце, синь с золотом, молния и тоска.
Остальное им было под стать. Высокая, тонкая, хрупкая, гордая, в чем-то дикая и необузданная, в чем-то застенчивая, даже затравленная, несуразная и отчаянная, невероятно ранимая – возьмите все эти ингредиенты, произведите замес, разогрейте девичьей страстью, залейте сиропом томления, остудите температурой темницы, подержите на нёбе воображения и запейте отваром неверности.
О том, что Мария в меня влюблена, я услышал от Жанны. Перед отъездом Клопрот-Мирон намекнула, что не против нашей интрижки.
– Матвей всю неделю будет работать на даче. Пантера останется в клетке грызть прутья. Почему бы не проявить сострадание? Бедняжка заждалась своего укротителя. Куй железо, пока горячо!
Советом Жанна не ограничилась – в полдень мне позвонила Мария, чтобы поблагодарить за цветы:
– Роскошный букет! Не хотите на кофе?
Я бодро ответил:
– Хочу.
Выпить кофе мы не успели. Едва клетка за гостем захлопнулась, как пантера набросилась на укротителя и стала терзать мой парадный костюм. Настрелявшись швами и пуговицами, Мария вдруг оробела и закрыла глаза:
– Пожалуйста, уходи. А когда ты уйдешь, я смогу умереть со стыда.
– Когда я уйду, ты будешь бесстыдно бессмертна.
Любовницей Мария оказалась старательной. Не раз и не два мне приходилось охлаждать ее пыл, как случается бить по рукам ребенка. Этот ребенок был в ней еще жив, не желал становиться большим и капризничал, изобличая тем самым мятежную душу. У особо несчастных людей есть такая повадка – надувать в бутон губки, шепелявить пискляво и кидаться в любимых любимыми побрякушками. Подобное поведение раздражает, но на первых порах лишь добавляет прелести тем, кто еще не стал нам докукой.
Мы подружились.
Беседа во время соития – статистически редкая форма близости, что меня всегда удивляло: большинство моих женщин не чуждалось поговорить в минуты, обрамлявшие как сам путь к вершине, так и последующее с нее нисхождение. В отличие от них Мария не тянула за горло гласные, не зарывалась в шипящие, не спотыкалась на “п” и не заедала на “р”. Напротив, чем выше, тем больше частила словами и украдкой стонала, перемежая подводными звуками пугливый речитатив, на подступах к цели дрожала и хныкала, а достигнув ее, горько, обильно рыдала. Потом… доставала альбом с фотографиями.
Каждый по-своему ищет себя, но редко надолго находит. Листая альбом, Мария блуждала между раскаянием и отвращением, идолопоклонством и местью, помогая тем самым понять мне, что клетка ее не разрушена. Мужа она обожала, боялась, боготворила и… страстно желала низвергнуть – так опрокидывает с пьедестала священного истукана возроптавшее племя, чтоб растоптать его в щепы и, прося о пощаде, сразу пасть ниц.
– Хочешь знать, как мы с ним познакомились? Дело было семь лет назад. Я тогда мечтала стать живописцем и посещала уроки Иосифа Рапидера в его мастерской на Кузнецком Мосту. У маэстро был особый подход к обучению, – она усмехнулась. – Нет, не то: спал он большей частью с мужчинами, хоть и это сомнительно. Секс для него был скорее обузой. Главным его увлечением было осмеивать все и вся, включая себя и собственные полотна. Учитель внушал нам, что искусство – это совсем не всерьез, что лучше его презирать, а не им восторгаться, что если из осмеяния прежних богов создаются религии, то шедевры – тем более. Рапидер утверждал, что цинизм – единственный шанс не прошляпить талант, растранжирив его на сентиментальную ересь. Друзья его были под стать. Как-то раз в мастерскую зашел человек, довольно невзрачный, да что там невзрачный! – урод. Обнявшись с хозяином, он засновал по рядам, глядел на работы и хмыкал, затем направился прямо ко мне, посмотрел на мольберт и спросил: “Еще девственница?” От такой наглости я залилась краской. Буквально залилась, уронив с подставки на юбку пузырек с киноварью. Гость стоял как ни в чем не бывало и ждал. Вместе с ним ждало время. Я слышала, как оно капает мне под ноги, точно это моя же громкая кровь, капает и собирается в лужу. Матвей не спускал с меня глаз, потом кивнул мне на юбку и приказал: “Двигай за мной. Где тут у вас магазин? Куплю новую. А если не дура – женюсь”.
– Ты пошла?
– Я не помню, как шла. Это был какой-то гипноз. Мы сидели в кафе, он лопал мороженое и непрерывно о чем-то болтал, а я лишь пыталась дышать, мало что слышала и не могла молвить ни слова. Только разглаживала ладонями новую юбку на бедрах и знала уже, что сама ее не сниму. Интересней всего, что мне он совсем не понравился. В тот же вечер он взял меня – как-то бесстрастно, лениво, но аккуратно, сосредоточенно даже, разложив меня, словно рукопись, на письменном столе. Лишь потом мы разделись и пошли оба в ванную. Он мылся отдельно, над раковиной, что-то мычал, напевая под нос, и был он настолько чужой, что мне сделалось страшно. Я спросила: “А как ты узнал?” Он пожал небрежно плечами: “Ты рисуешь бездарно, но чисто. Сестра милосердия в накрахмаленном колпаке. Но на фронт тебя не отправят. В искусстве тебе делать нечего”. Я спросила: “И что же мне делать?” Он сказал: “Сейчас дуй домой, а там видно будет. Поймешь, что влюбилась, звони”. Я позвонила ему уже утром. Через неделю мы обручились.
Я не знал, что сказать. А потому сказал только:
– Круто.
– Но не круче, чем изменить ему через семь лет с тобой. Вот что круто так круто!..
Фортунатов весь месяц был невидимо с нами – пока Мария не принималась листать свой альбом. Тогда супруг ее делался видим и корчил усмешки с каждой второй фотографии.
Свой дебютный бестселлер, сборник рецензий на прославленные шедевры, муж Марии издал лет пятнадцать назад. В оглавлении значились “Мертвые души”, “Анна Каренина”, “Идиот”, “Мастер и Маргарита”, “Моби Дик”, “Лолита”, “Процесс” и “Сто лет одиночества”. Трюк был в том, что рецензентами выступали сами авторы, бичевавшие собственные творения с беспощадностью флагеллантов и такой меткой язвительностью, что Фортунатову оставалось лишь сопроводить их мазохистские “исповеди” комментариями “составителя”. Успех книги он предвкушал заранее, объясняя свою уверенность тем, что угодил первичному инстинкту читателя – потаенному желанию бездарей надрать уши таланту.
– Вот увидишь, твердил он мне, критики будут в восторге: у нас что ни критик, то каннибал, – рассказывала Мария. – Стоило мне упрекнуть его за цинизм, как он выходил из себя и загонял меня в спальню щипками. А ночью вставал и, похныкав на кухне, шел писать свой роман о любви.
– “Тов. Фортуна”? Его я читал. Чудесная книга!
– И такая пронзительно чистая, что прямо ком к горлу. Особенно если ты знаешь, что он никогда никого не любил, разве что на бумаге. Зато на бумаге умел любить так, что я прощала ему самые гнусные выходки. Однажды Матвей привел в дом блядей и приказал мне с порога: “Расстели нам постель и разденься сама. А не то – пошла вон”.
– И ты согласилась?
– Конечно. Рядом с ним я способна на всякую мерзость. Потому что нет такой мерзости, которая с ним сравнится даже в банальном паскудстве. А ведь есть еще изобретательность, Дон! Тут уж равных ему не найти. Он во всем демиург: одним лишь хлопком создает то, чего минуту назад и в помине-то не было и чего не должно было быть никогда, даже если бы вместо хлопка взорвалась утроба Вселенной. Попадешься ему в такие мгновенья под руку, он создаст и тебя – такой, о которой ты ничего ровным счетом не знаешь, а потом обратит сотворенный им хаос в порядок двусмысленных смыслов. “Чтобы очиститься, надо помыться. Чтобы помыться, надо запачкаться. Чтобы запачкаться, надо запачкаться хуже свиньи. По-другому из тела душонку не выманить. А мне эта дура в работе нужна. Душа для меня инструмент, все равно что для вас ваши щели, – растолковывал он, построив в шеренгу наши зады и проверяя их на выносливость скатанной в трубку пачкой банкнот. – Признайтесь, заводит, когда вас трахают деньги? Вот уж, воистину, игра в очко! Оглашаю правила: кто первая кончит, та и получит всю сумму. Ты, женушка, тоже старайся. Не позволишь же ты грабануть нас профурам?” И я, Дон, старалась! Не из-за денег, а из глупейшей какой-то и извращенческой ревности. Мне казалось, уж коли пришлось мне делить его с кем-то еще, я как минимум буду не хуже соперниц. Казалось, он меня вытурит из дому, если я в чем-то его подведу. Казалось, я этого не переживу. На самом же деле я очень боялась, что переживу, и тогда моя жизнь не вынесет разоблачения совести. Это как плыть долго-долго в сумбурном отчаянном сне, где все можно и все поощряется, и запретно лишь то, что чревато твоим пробуждением. Где что б ты ни совершил, вознаградится прощением. Где ты всегда больше, чем ты, потому что ты персонаж, примеряемый ростом к сюжету, а значит, с тебя взятки гладки. Какой спрос может быть с персонажа? Не нравится – требуйте автора! Когда быть человеком уже не по силам, быть персонажем легко. Непросто жить с гением, Дон. Но наступает момент, и ты понимаешь, что без него тебе невмоготу.
– Ты пыталась уйти?
– Лишь однажды. После той самой ночи. Я ведь, знаешь, тогда деньги выиграла! Примчалась к финишу первой. То был самый громкий, самый полный, самый крикливый и безобразный оргазм за всю мою жизнь. Когда я пришла в себя, проститутки пялились на меня, словно не могли решить, перед ними блаженная или больная на голову. “Будем считать, что любовь победила разврат, – подвела итог бригадирша. – А утешительный приз предусмотрен?” Я заперлась в ванной, где топила свой хохот в воздушной, чуть ли не девственной пене. Меня должен бы стыд обуять, а я ликовала.
Безнаказанность – страшная сила! А когда ее поощряют, это доблесть, почти что геройство. Не в смысле какого-то подвига, а будто тебя возвели из статистов в герои. Я услышала, как Матвей зашлепал босыми ногами на кухню. По звукам я угадала, как он отворил холодильник, настрогал бутерброд, заварил себе чаю, после чего, смачно прихлебывая, вернулся в зал, снял с полки пластинку и удалился к себе в кабинет – поработать. А когда я вышла из ванной, из-под двери доносились стрекот машинки и бодрая музыка Моцарта – то общались накоротке демиург с божеством. Для меня в их свойской беседе реплик предусмотрено не было. Чтобы его не убить, я достала из бара коньяк и напивалась, методично и тщательно, торопя в себе то наслаждение бесчувственности, ради которого только и стоит в одиночку сосать эту дрянь. Помню, какой-то мерцающей, радостной клеткой в опухшем мозгу я догадалась вдогонку угоститься еще и снотворным. Но на это меня уже не хватило: подкосил последний бокал. Я отключилась, словно кто-то огрел меня топором по затылку. Очнулась ближе к рассвету от приступа тошноты. Меня тошнило все утро. Матвей тихо спал. Как ребенок – подложив под щеку кулачок. Такой весь невинный и чистенький, точно новорожденный младенец. Самое интересное, он им и был – новорожденным младенцем, прошедшим через чистилище. Следы его пребывания там обнаружились на столе в кабинете. В ту ночь Матвей отстучал семь страниц. Начинались они такой фразой: “До свадьбы я полагал, что главным достоинством жен является их готовность служить причудам супругов. Нынче я понимаю, что главное в браке – служить жене самому. Стоит утратить вам это желание, как брак превращается в лицемерную форму сожительства, ваш брак забракован”. Дальше – рассказ персонажа про то, как, проснувшись в холодном поту от кошмара (снилось, что от него сбежала жена), он обнаруживает ее рядом в постели и принимается плакать от счастья. Идет последний день их медового месяца. Проводят они его в съемной комнатке на побережье, откуда слышен прибой. В узком окне видны звезды – словно на стенку кто-то повесил кулек с угольками костра. Пахнет морем и ветром и почти пахнет осенью. Не сводя с жены взгляда, герой задается вопросом: что может случиться такого, после чего он уже не захочет проснуться с ней рядом и заплакать от счастья из-за того, что она от него не ушла.
– Я помню. В уме он пробует разные испытания, включая убийство, старость и адюльтер.
– …Включая болезни, потерю еще не рожденных детей, инвалидность после аварии и сумасшествие. И делает вывод, что они не страшнее того, что он уже пережил в своем сне. Он понимает, что страшит его только ее внезапное бегство. Все другое он будет готов ей простить на целую вечность вперед. И когда она открывает глаза, он говорит: “У меня для тебя приятные новости”. – “Какие?” – спрашивает жена. Обняв ее теплые плечи, он отвечает: “Ты будешь терзать меня всю мою жизнь, но я вытерплю. Ты будешь делать мне больно, я же буду смеяться и делать тебе хорошо. Ты будешь меня презирать, а я буду тобой восхищаться. Ты будешь мне изменять, но я никого не убью. А когда ты станешь убийцей сама, я возьму вину на себя и буду жалеть тебя больше, чем ты пожалеешь меня, пока я гнию за решеткой. Ты будешь мне лгать, но я никогда не признаюсь, что не поверил тебе. Ты будешь стареть, и болеть, и дурнеть, но я не увижу морщин у тебя на лице. Ты будешь меня ненавидеть, но я не замечу. Будешь меня хоронить, но я не умру до тех пор, пока ты меня не полюбишь хотя бы одной настоящей слезою. Ты будешь жить столько, что позабудешь меня, а я постараюсь тебе о себе не напомнить. Ты будешь со мной какой хочешь, я же буду с тобой лишь таким, каким хочешь ты. Только прошу тебя: не уходи от меня никогда!..” Я дочитала, и со мной приключилась истерика. Ну разве можно, скажи мне, чтобы в написанном было столько пронзительных чувств и при этом ни капельки правды? Разве можно, чтобы те самые руки, которые только что оскверняли и пачкали женскую плоть, наколдовали гимн женскому непостоянству? Разве можно, чтобы из отвращения и тошноты получались вдруг свет и восторг на бумаге? Почему все должно быть навыворот, Дон? Почему непременно к душе нужно взывать через анус?
– Должен признать, у вас специфический путь. Альтернативных маршрутов не пробовали?
– Альтернативных? – Она на секунду задумалась. – Это он сам, без меня. В основном книжки, картины и музыка. Тут меня уже попросту нет. Мне разрешается лишь наблюдать за исканиями со стороны. Когда что-то ему особенно нравится, он отвратительно хмыкает – так, будто хочет выдуть мошку из носа. Хм-хм! Хм-хм! Обязательно с восклицательным знаком. Если же с вопросительным – хм? или хм?! – значит, говно. Чтобы проверить, довольно на губы взглянуть: растянулись в ехидной улыбке – говно. Собраны в стрелку – отлично. Порой гляжу: в окно уставился, а на улице – ничего. То есть все как всегда. А он вдруг: “Хм-хм!” Проверяешь – ну та же бодяга. А он все “хм-хм!” да “хм-хм!” Нервов не напасешься, пока впустую гадаешь, чего он там заприметил. Спросишь – пожмет раздраженно плечами. А однажды мне объясняет: “Творчество, Маня, есть особый вид клептомании. Заразишься, а средств излечения нету. Разве что универсальное – смерть. Воруешь всегда, отовсюду и то, на что никто, кроме тебя, не позарится. Крадешь безостановочно и про запас, как щипач, одержимый патологической жадностью. Вот, например, только что я украл у той вон старухи на тротуаре лицо, чтоб прилепить к мужику в своем новом рассказе. Впрочем, мужик это или пес, я еще не решил. Зато теперь он с лицом”. Такая вот жопа!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































