Текст книги "Дон Иван"
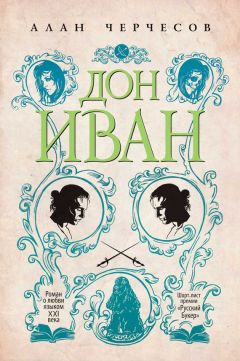
Автор книги: Алан Черчесов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– Будь добр, съезди на дачу к Липатовым. У старика юбилей и проблемы с готовкой: кухарка в запое, а Галка такая дурында!
– Хорошо, – сказал я, похвалив про себя деликатность подруги, но перед уходом подложил ей кнопку в постель.
Самое гадкое, что я даже не ревновал – просто, как пес, охранял конуру. Вспоминал с удивлением, что когда-то мне было здесь тесно, смахивал с глаза соринку и принимался драить посуду. Ну и что, спрашивал я сам себя. И отвечал: вот хрен тебе! А ничего! И старался припомнить, какое сегодня число.
Казненным вампирам, чтоб не кусали покойников, в рот забивали кирпич. Недурственный способ заткнуть глотку прошлому, думал я, затыкая свою стейком под перечным соусом. Жить, чтобы есть, и есть, чтобы жить, – древнейшая, в сущности, формула счастья для несчастливых людей.
Бывало, Жанна срывалась на крик:
– Да сколько же можно! Еще немного, и станешь похож ты на борова, у которого сердце в желудке, а желудок – так тот вообще вместо сердца. Тебя все труднее любить. Ты такой правильный, что подмывает тебя придушить.
– Квартиранту пора уходить? – спросил я, когда надоело не слушать.
– Пора возвращаться. Черт бы побрал тебя, Дон! Что с тобой?
– Госпоже мало секса?
– Мало тебя. И в то же время тебя слишком много. Смешно: Дон Жуан – домосед!
– И что предлагаешь мне делать?
– Очнуться. Завыть. Зарычать. Выблевать сало из сердца. Кого-нибудь охмурить. Быть собой, а не тем равнодушным паршивцем, кому все равно, каким быть.
– Хорошо, – сказал я. – Координаты и цель?
– Не юродствуй.
– Гони меня в шею. На твоем месте я бы, наверно, прогнал.
Она разрыдалась. Все б ничего, кабы не было это впервые. Я собрал чемодан.
– Ты куда?
– К Фортунатовым. Мария оставила ключ. Поменяю на время обложку.
– Чтоб доказать, что ты сволочь?
– Ты это и так поняла – когда вынимала из хахаля кнопку.
– Бедная Клара, – вздохнула она.
– Неужели?
Она сокрушенно кивнула:
– Я подумала, если вернуться назад, может, все повторится.
– Не ожидал от тебя такой глупости.
– Если честно, то это отчаяние, Дон.
Мы помолчали. Мы были настолько чужими друг другу, насколько бывают лишь близкие люди, когда попадают в капканы тоски. Той ползучей и сучьей тоски, чьи корни насквозь отравлены правдой. Я попытался засунуть ей в глотку кирпич:
– Самое время завести нам собаку. Или, может, ребенка?
– Будь ты проклят!
Она запустила в меня телефон. Я еле успел уклониться. Потом положил чемодан на ковер и направился к бару.
– За победу!
– Кого и над кем? – насторожилась Клопрот-Мирон, однако бокал свой взяла.
– Дон Жуана над Доном Иваном.
Мы выпили. Жанна – до дна.
– Ты-то сам как считаешь, почему у него не бывает детей? – спросила она.
– Потому что ему триста лет. Потому что Жуан сукин сын. Потому что писатели суки.
– Он никого на свете не любит. Вот почему Дон Жуан – сукин сын. И вот почему его любят все. Даже писатели. Особенно суки.
– Мне остаться?
– Как хочешь. Только сегодня не уходи.
Я кивнул.
– Если уйдешь, я поползу за тобой на коленях.
– Не уйду.
– Признайся, ты терпишь меня или все-таки чуточку любишь?
– Я твой терпеливый любовник.
– Когда ты уйдешь, я тебе отомщу. Сотворю такую подлючую подлость, что ты пожалеешь. А сочинять я умею.
– Заметано. – Я подобрал телефон. – У тебя на мобильнике чей-то звонок. Алло? Да. Здравствуйте. Передаю.
Свирепо вращая глазами, Жанна съездила мне по плечу.
– Ай! – айкнул я.
– Слушаю, – голос Клопрот-Мирон источал мед и яд. Кулинар во мне поднял брови: оба ингредиента были замешены в идеальной пропорции. – Случайно нажала на клавишу… Чем? Репетирую роль… Моя новая пьеса… Как всегда – про страсть и про власть… Дежурная вычитка с режиссером… Фамилия? Чемоданов. Я ему тоже твержу, что пора надевать псевдоним… Ну что ты! Ваня совсем не ревнует… Приглашу непременно. Не пропадай. Целую, милуся. Пока.
Отключившись, она закатила глаза.
– Кто это был?
– Дашка Московское Радио. Сейчас разнесет. Напрасно я про колени. – Вдруг ее осенило: – Я мигом!
Подхватив телефон, она скрылась в спальне. Я вылил в фужер остатки вина и потащился к окну. Октябрь вовсю транслировал осень – близоруким и мокрым экраном стекла. По нему царапал иголками дождь. Что тебе-то с того, спросил я себя. И ответил: а ничего!
Жанна вышла из спальни другим человеком. Теперь она излучала энергию и задор – такими себя проявляют в миру лишь грандиозные замыслы да мелкотравчатые паскудства.
– Координаты – Остоженка. Цель – дрянь. Отымей ее так, чтоб ресницы посыпались. Чтобы пломбы попадали и чтобы язык отвалился. Язык – это главное. Сделай ей очень стыдно, Дон, а то я умру со стыда! Как говорится, клин клином…
– Плюнь. Что она может? Растрезвонить про нашу размолвку? В этом городе половина супругов каждый день упражняется в спарринге, развлекаясь боями без правил.
– Ты не понял. Дарья – жена Мизандарова.
– Что ж, сочувствую ей. Но как-то не вижу причины…
– Мизандаров – мой бывший муж. Гражданский, конечно. И бывший. А у нее – настоящий. Проштампованный и награжденный потомством. Разницу чувствуешь?
Я промолчал. Возможно, это не лучший способ выражать свое отношение, зато один из самых красноречивых.
Жанна уселась в кресло, закинула ногу на ногу и стала болтать туфлей, позабыв, что туфли сняла.
– Спрашиваешь, как я могла? – Я не спрашивал, но объяснению это не помешало. – Советую вспомнить про Клопову. Девчонку из города Сальск, у которой к моменту приезда в Москву было триста рублей, спертых у пьяного отчима, два платья, украденных у подружки, и два нелегальных аборта (занесем их в графу уворованных жизней). Из своего в багаже набиралось всего ничего: жажда быстрой, отчаянной славы и призвание врать. То и другое вело прямиком к Мизандарову. Как бы кролик ни рыпался, он всегда попадает удаву в разверстую пасть… Мне продолжать или возьмешь чемодан?
– Продолжай, если не можешь на этом закончить.
По мере того, как вскрывались подробности грехопадения, я ее все больше, все гаже жалел: история Жанны была квинтэссенцией пошлости, спасшей от гибели Клопову, но угнетавшей до колик Клопрот-Мирон. Если писателя делают стыд и презрение к себе, Жанна могла бы пополнить ряд гениев. Каскад афоризмов, в котором топила она свой позор, изобличал скорее упрямство гордыни, чем смирение раскаяния:
– Надо пойти по рукам, чтобы попасть в хорошие руки (…) Нет ничего аморальней морали. Та еще шлюха! За снимок в журнале отдастся любому козлу (…) Грехов у меня – что марок в альбоме. Их я сменяла на состояние и достояние вроде тебя (…) Когда торгуешь собою, главное – не продешевить, продавая всех остальных (…) Каждый из нас смертельно болен жизнью, не желает лечиться и грезит о том, чтобы приступы нашей болезни были острей и почаще (…) Если радостный сон – это кража чего-то чужого, то счастливая явь – это кража себя у других (…) Есть лишь одна репутация, которую невозможно исправить, – репутация дуры. Все остальное легко отстирает удача (…) Мои книги лучше меня, потому что в них я умею быть хуже себя, хоть в это и трудно поверить (…) В каждый данный момент каждое данное “я” лишь временный квартиросъемщик в том “я”, которым мы были и будем, так что в каждом “сейчас” с нас взятки гладки (…) Мне стыдно. Стыдно признать, что не стыдно. По-настоящему стыдно не мне, а тебе: мерзости хуже на слух, чем на вкус (…) Бросают тех, кого любить дальше зазорно, а убивать еще западло (…) Пуля быстрее, чем слово: он взлетел, как на лифте, а я поднималась, ползя по ступенькам на брюхе (…) Мести достоин не тот, кто тебя презирает, а тот, кому презирать тебя лень. Мизандарову – лень (…) Бывших жен не бывает так же, как бывших чекистов. Мы всегда на посту и держим свой яд наготове (…) Нет никого чистоплотней заклятых убийц. У них даже уши собак накрахмалены. Замарать им постель – высшая доблесть и слава (…) Жена у Марклена красива, словно открытка из Ниццы: ни облачка, ни морщинки на небе, лишь белизна да лазурь. Без паспорта самое то. Считай, что смотался во Францию (…) Он подарил ей рабов и богатство. Ты подаришь ей рабство мгновеньем любви. Дальше все довершит уже время (…) Ты, конечно, не трус. Только этого мало, чтобы поставить смерть раком. Тут беспримерная храбрость нужна. Иначе нам Дашку не трахнуть (…) Если ты не готов, я пойму. Если нет, ты от меня не уйдешь, а сбежишь. Выходит, напрасно я про колени…
Когда она смолкла, мы оба пьяны были в стельку.
Утром я обнаружил, что свисаю с постели вниз головой, а мои затекшие ступни безуспешно ищут опоры в осипшем от храпа, затравленном воздухе. Жанна лежала, раскинувши руки и ноги, по центру кровати.
Сползши на коврик, я собрал себя в кучку, посопел ноздрей в апельсин и с отвращением вспомнил, что вот уже скоро неделя, как делю кров с брюнеткой. К утру завелось в ней три глаза. Два из них спали, а третий, свернувшись кудряшкой под носом, буравил меня из провала полураскрытого рта.
Я сварил кофе, долил коньяком и вернулся обратно с подносом. Жанна сплюнула “глаз” и отхлебнула из чашки.
– Ну как, ты готов?
Мне было плевать.
– Давай адрес.
– Что делать с охраной, решил? Тогда слушай сюда. – Она залпом допила свой кофе, подцепила ногтем гущу со дна и намалевала квадрат вкруг пупка, пририсовав мизинцем в углу крестообразный прямоугольник. – Ты полезешь в окно. Попадешь на крышу с соседнего дома. – Обвела в каштан свой сосок. – Я прикрою тебя изнутри. – Указательный палец уткнулся в пупок. – Заявлюсь к Мизандаровым в гости и пошлю одного из охранников за сигаретами. Затем вызову снизу второго и засыплю вопросами о системе слежения в особняке, мол, хочу той же хренью нашпиговать и нашу квартиру. Пока я отвлекаю качка, ты проникнешь через окно к ним в уборную и бросишь мне стрелку на сотовый. Звонок будет сигналом, что охранника можно уже отпускать. Дождавшись гонца, я возьму у него сигареты, а как удалится, стану искать зажигалку, наткнусь на духи в своей сумке и суну флакончик под нос мизандаровской клуше. Флакончик будет с эфиром. Когда Дашка заснет, я уйду. Дальше дело уже за тобой. Постарайся управиться к вечеру: ровно в одиннадцать стража проводит обход. Если Марклен верен прежним привычкам, его костоломы обыщут шкафы, перероют все ведра для мусора, перетряхнут бельевые корзины, исколют отдушины спицами и не преминут заглянуть в очко унитазу. Спрятаться там будет негде.
– А как выбираться оттуда?
– Это уже забота не наша, а Дашки. Пусть оплатит смекалкой свое удовольствие. И свой оглушительный стыд.
План был более-менее ясен. Оставалось неясным, зачем оно мне.
Молчание мое Жанна читала так бегло, будто писала его моей же рукой.
– А больше и некому, Вань, – засмеялась она и захлопала веками. – Кто ж тебе виноват, что доселе не лазал в окна к девицам! Пора наконец-то дополнить портрет Дон Жуана. – Спрыгнув с кровати, она прижалась ко мне животом и попыталась стереть свой чертеж моими губами. Получилось не очень. – Если честно, на размышления нет времени: встреча назначена на три часа, а первое слово дороже второго.
Со стены забил молоточками полдень. Я снял с себя Жаннину грудь и поднялся.
– Пойду снаряжаться на подлость.
– Дьявол в помощь. Гляди-ка, и дождь прекратился. Погодка для бесов как будто бы летная. Чтоб не штормило, глотни “алка зельтцер”.
Она лучилась от счастья. Несколько странно для человека, подвергшего риску свою дорогущую задницу. На истерику это было совсем не похоже. Это было похоже на скорый триумф. Я заподозрил неладное. Спинным мозгом почувствовал, что финал пьесы близок: меня так долго писали, что под сурдинку и вовсе списали с подмостков. Оставался последний, самоубийственный выход на сцену. Если по замыслу драмы Мизандаров – мой Каменный гость, то пнуть мне его не то что там шпагой, а даже коленкой не светит, раньше меня укокошат его шкуродеры.
Покуда лежал за кулисами, наслаждаясь пушистой водой, смерти я не боялся: коли не слишком уверен в том, что живешь, трудно поверить, что ты вдруг возьмешь и умрешь.
Без пятнадцати три я уже прохлаждался на крыше, продуваемой всеми ветрами сердитого октября. В три ноль восемь, продрогнув, я втиснулся брюхом в окно, отвязал, кусаясь, канат от ремня и забросил обратно на крышу. В три ноль девять, растопив сосульки из пальцев, я набрал номер Жанны и после гудка отключил телефон. В три двадцать, услышав, как щелкнул замок, ступил в коридор, где отсчитал одну за другой пять дверей. Повернув гриву бронзовой ручки, очутился в просторной гостиной, разметавшей хрустальные искры по лакированным лужицам тишины, охраняемой свитой золотистых мундиров обивки. За кривоногим диваном, на кривоногом столе возлежал золотистый затылок, обращенный ко мне светлой шерсткой подбоя; под ним, сунув пальцы в ковер, рисовала кошмары рука. Вторая спала, прикрывая лицо гладким тылом ладони. Такой вот сурдоперевод с языка застенчивых грез на язык соблазняющей беззащитности.
Жанна отнюдь не лгала: Дарья была чертовски красива, а во сне – так еще и умна. Меня охватило желание раньше, чем я перенес трофей на кровать (третья дверь по коридору направо, потом дернуть шнурок и зашторить окно). Я проворно разделся, подробно раздел свою жертву и подсобрал с цветка его шелковистые запахи. Дарья упорно не приходила в сознание и оставалась лишь гибким, но несговорчивым телом. Невпопад вращая зрачками под лепестками запертых век, она шевелила бесшумно губами, словно спеша оправдаться перед своею приметливой слепотой.
Худо-бедно, мне удалось добыть стон из ее большеглазой груди.
– У тебя нос холодный.
Больше она ничего не сказала. Я смотрел, не моргая, в лазурь и вспоминал про Ривьеру, где в точности, как по прогнозу, царил полный штиль.
Не знаю, сделал ли Дарье я стыдно, но содеяно нами было достаточно, чтобы изгнать стыд из спальни врага навсегда. Все то время, что мы начищали рога палачу, супруга его была неуемна, но по-супружески сдержанна: обмотав голову простыней, она заслонилась незрячестью, так что могла б под присягой поклясться, что никаких непотребств в алькове своем не видала.
Только стемнело, на простыне чернотой проявилось пятно. К восьми оно доползло ото рта до овала ходившего ходуном подбородка. К десяти захватило разводом извив перевязанной шеи и вытекло каплей на кожу. Поддев пальцем кровь, я проверил догадку на вкус.
– Ты прокусила губу.
– Это чтоб не кричать, когда глохнешь от собственных криков, – объяснила она и сорвала с себя простыню. – Спасибо тебе за подарок. А теперь – извини. Я дико устала. Хочу принять ванну.
Она была очень спокойна. Меня это задело.
– Ты так говоришь, словно часто ему изменяла.
Она усмехнулась:
– Почти каждый день. Сколько будет за наши пятнадцать лет брака?
Я прикинул в уме:
– Приблизительно пять тысяч раз.
– Грандиозно. Жалко, не доходило до дела.
– Выходит, я первый?
– Тебе это льстит?
– Не после пяти тысяч раз.
Дарья пожала плечами. Я видел, что ей все равно. Выдержка не лица, а портрета. Права была Жанна – ни крапинки, ни морщинки, ни тени. Припухлость на нижней губе сойдет, если надо, за герпес. Прямо Снежная королева! Не лицо, а белая крепость из свежезалитого льда.
Оно оживало лишь в зеркале. Когда Дарья, выплыв лебедем из обмельчавшей постели, на хрустальных ногах прошествовала к трюмо, статуэткой присела на пуфик и подобрала скучающим жестом расческу, лицо ее преобразилось. Не гримасами – чем-то внутри, куда путь посторонним заказан. Можно сказать, что Дарья в своем отражении жила. Вне него застывала в посмертную маску. Вот отчего она закрывала лицо: не хотела встретиться взглядом с тем единственным соглядатаем, кому только и хранила по-настоящему верность и чьему взору вверяла свой подлинник. Получалось, овладел я сегодня не женщиной, а стылым, фальшивым подобием ее, которым она дорожила постольку, поскольку оно помогало ей прятать оригинал.
– Завяжи на ботинках шнурки и иди. Охраны не бойся: я им позвоню и скажу, что на первый раз их прощаю. Заодно пригрожу, что, если прошляпят вторично, пожалуюсь Марику. Встреч со мной не ищи. Пожелаю сама – откопаю из-под земли. Наташке своей передай, пусть не балует с огнем. Одно мое слово – и Лёня костер ее кровью потушит.
– А кто такой Лёня?
– Марклен. Он же Марик. Он же отец моей дочки. Четырнадцать лет. Амалию трогать не смей. Спасибо заранее за понимание. И остерегайся Клопрот-Мирон. Я могу ошибаться, но, по-моему, тебя она любит больше, чем ненавидит себя.
– С чего ты взяла, что она себя ненавидит?
– Бросает тебя в объятия злейшей врагини. Упаси тебя Бог показать, что со мной было лучше, чем с нею. Довольно, что я о том знаю.
Шагая пешком по промозглой Москве, я набрал Жанну, доложил, что задание выполнил. План сработал безукоризненно, если не брать в расчет зеркала и то обстоятельство, что с женой Мизандарова спать мне понравилось больше, чем с Клопрот-Мирон (проверено позже в ту ночь по горячим следам). И это притом что Дашка Московское Радио занималась любовью со мной без лица…
Почему ее так прозывают, я понял на следующий день.
С утра в нашей квартире не смолкал телефонный трезвон. Вся столица взахлеб обсуждала пикантную новость: у жены Мизандарова положительный тест на краснуху. Среди тех, кто мог с ней встречаться в последние пару недель (почитай, пол-Москвы!), затеялась паника. Громче всех били в набат старые девы и молодые беременные. Те и другие приводили тревожные цифры по врожденным порокам, напирая на катарактуи миокардит. Сильный пол с беспокойством ссылался на то, что эта зараза бьет нашего брата в основном ниже пояса.
Как назло, на вечер давался прием в Спасо-Хаусе. Не посетить посла США в его резиденции было дурно, но не более чем подцепить подлый вирус, да еще за пределами родины. Большинство приглашенных, сплотившись на почве патриотизма, решило дилемму в пользу домашней отсидки. Мы с Жанной накушались водки и отправились на прием.
– Что вынес, не таясь, на острие копья, нет смысла прятать от чужого чиха, – рассудила моя опекунша. – Занести врагу вирус – не вынести. Коли покроемся сыпью, так хоть прослывем героями у коммуняк.
Мы так надрались, что болтали с американским акцентом покруче хозяев. Учуяв наш разудалый амбре, супруга дипломата нервически сморщилась и переключилась на новых гостей.
Избегать нас у нее получалось недолго. Спустя час, заплутав в полупустынной гостиной, она набрела на нашу компанию. Находясь в растрепанных чувствах из-за постигшего раут фиаско, она шипела зрачками из-под расплавленных линз и глотала дрожащую минералку, рискуя вот-вот подавиться гордыней. Между нею и нашим весельем бултыхался студнем таявших льдов океан. Даже сквозь толстый туман, разделявший его берега, было видно, что кошелка мечтает удрать в казенную спальню, чтобы побиться в истерике. Но красноречие Жанны и моя обходительность творили в ту ночь чудеса, так что старушка отбросила вожжи и принялась нагружаться спиртным не слабее ковбоя в салуне, а под конец так расслабилась, что забыла ладонь у меня на бедре.
Жанна держалась стоически и почти не скандалила, если не придираться к тому, что коверкала блюзы фрачному негру за фрачным роялем, насаждая мизинцем по клавишам кляксы. Неприятности наши затеялись после того, как Клопрот-Мирон уронила сережку в бокал. Сочтя неприличным лезть туда пальцами, она решила испить до дна жидкость, но переборщила в старании.
Задача, видимо, усложнилась. Добывать драгоценность Жанна решила, не сходя с места, для чего заприметила чашу червленого серебра у стены. Склонившись над ней, она сунула два пальца в рот. Гостям это не очень понравилось.
Когда на Жанну надели наручники, помощник посла потрепал меня по плечу и проинформировал, что лимузин уже подан к крыльцу.
– Сумасшедший дом какой-то, – посетовал он, вынося за мною в руках еще теплые туфли Клопрот-Мирон. – Третий случай алкогольного отравления. Многовато за вечер! Как пить дать, магнитные бури. – Он выкашлял аккуратный смешок. – С вашего позволения, дальше я не пойду. Мой бронхит не любит дождя. Рад был познакомиться.
– Ми ту, Джим, – сказал я и сунул туфли под мышки.
Лимузин уже тронул и катил по дорожке к воротам. Я догнал его и постучал по крыше черного кузова, призывая водителя осадить.
Бузотерка мирно похрапывала, спрятав от меня лицо за ухо подголовника. С запястий уже сняли наручники. Я положил туфли ей на колени, уставился в прыщавое от капель окно и бередил, как болячку, воспоминания.
Вспоминалась мне разве что Дарья, которой я так и не овладел, хотя столько раз овладел ее телом, что теперь она овладела мною, как наваждение. Я покосился на спутницу. Впервые за несколько лет нам с ней было не по пути. Только другого пути у меня еще не было – так бывает, даже когда по нему уже едешь вовсю.
– Адрес она вам назвала? – спросил я шофера.
– Мисс его написала, – он потряс блокнотным листком.
– О'кей, – сказал я, слегка удивившись этому “мисс” вместо “миссис”, потом отвернулся, опять вплыл в стекло, полежал в нем ничком (лупоглазый утопленник), постепенно истаял лицом и потерялся душой.
Потом – вялая вспышка и кадр: она стоит, расставив ноги, перед французским окном, уцепившись руками за раму, – пока еще силуэт, но уже много значащий: спасительный пластырь, залепивший большой буквой “Х” слепому и хворому свету похмельные раны. На круглой физиономии солнца нет ни кровинки (то ли солнце, то ли луна). Землистое, бледное солнцелунье висит прямо над головой и мешает мне разглядеть очертания судьбы, когда та оборачивается, топает каблуком, подбирает изгибом предплечья невидимку груди, целится пальцем в меня и произносит:
– Эй, вы! Внимательно слушайтесь, пока снова живой. Я побила вас ночью доски. Если мало, буду резать ножом половинки. Мотайся домой поздорову. Иди васикваси как миленький. Я хорошо говорю?
Я нащупал громадную шишку и взвыл. Силуэт испуганно ахнул.
– Ну и боль! Грохочет, как поезд в туннеле. Вы что, проломили мне череп?
Силуэт покачал головой.
– А болит, словно мозги вышибли. Лучше снова закрою глаза и буду считать, что еще не родился.
– Скорее умер не с той ногой, – съязвила она. – Рожайтесь себе сколько влезете, только не здесь.
– Погодите. Я где-то вас видел?
– Кого видели вы, я не знаю, а я вас видела столько, что бежала в Москву, только бы вас в ней не видеть.
– В моей жизни вас не было. Как и этой квартиры с этим диваном. Если там что и было, так эти вот туфли, а в придачу к ним Клопрот-Мирон. Колитесь: куда она делась, как я тут очутился и на кой ляд вы меня отлупили?
– Я била не вас, – сказала она. – Просто так нам попало.
– Нам?
Как будто смутилась.
– Не заметила шрам. Я вчера тоже забедокурила. Спасибо, что завозили домой. Но не спасибо за то, что потом. Вы велись очень странно.
– И что же я делался?
– Вы делались плаксой. А до плаксы бывали немножко свиньей.
– Вижу, я был в ударе, пока меня не ударили. Я к вам что, приставал?
– Объяснялись в любви и хотели жениться.
– А вы?
– Я потерпела, терпела да не вытерпела.
– Не вытерпела или же не стерпела?
– Если по мордой скакалки, тогда будет как?
– Будет больно. Но правильно. Как ваше имя?
– Анна Маньеро Прекарио.
– Хитрая, с неустойчивым нравом?
– Habla espanol?
– Un poco.
Мы перешли на испанский. Она объяснила: “precario” – это еще и владелец имущества, но лишь до момента, когда его снова востребует собственник, и что слово – всего только шутка, а зовут ее Анна Мария де ла Пьедра аль Соль.
– По-русски – Солнечный Камень. Местечка давно уже нет, но есть я. Я так есть, что кому-то со мной не здоровается.
Она засмеялась. Я подумал: “Ты так уже есть, что мне даже странно, что сутки назад тебя не было”. Карман зажужжал. Я сбросил звонок и проверил: восемнадцать пропущенных вызовов. Восемнадцать попыток законного собственника заявить о правах на имущество. Я отключил телефон и сказал:
– Я никуда не спешу. Ты не против?
Она посмотрела мне прямо в глаза:
– Против. Но больше я против, что против.
Два минуса – плюс, а два “против” дают одно “за”. Мы проболтали весь день, мешая сперва языки и слова, потом – языки и молчание. Дальше объятий и поцелуев в тот вечер у нас не зашло, зато сразу дошло до любви. За неполные сутки я объяснился в ней дважды – впечатляющий личный рекорд, если учесть, что доселе не говорил, что люблю, никому.
Ближе к полуночи я уже ехал в метро. Я был очень спокоен. Отныне все было в прошлом, а сам я стоял на границе. Я стоял на границе и хладнокровно следил за движением стрелок на неторопливых часах. Ровно в двенадцать я выдохнул из груди все вчера, вдохнул первое завтра и шагнул в настоящее настоящее.
– Это конец? – спросила Клопрот-Мирон.
Я кивнул, а потом рассказал, как все было.
– Нет смысла жить там, где всего только выжил, – согласилась Жанна со мной. Она была трезвой и сильной, как полагается женщине, которую долго любили, но недолюбили на миг, и вот теперь выясняется, что из-за этого мига недолюбили на вечность. – Всего только и потребовалось, что проскользнуть на чужбину, назюзюкаться и перепутать машину. Пока мы играем с фортуной в рулетку, она забивает козла в домино. А что, твоя Анна тоже брюнетка?
– Нет, – сказал я. – Не блондинка, но вроде того.
– Надо же! Просто прелестно. Вот и меняй после этого масть. Знаешь, будь я какой-нибудь донной, обняла бы тебя напоследок и вонзила бы в спину кинжал.
– Извини, что я не Жуан.
– Ладно. Проехали. Лучше вовремя выбраться из-под обложки, чем дожидаться, пока она тебя погребет, как плита. – Она улыбнулась и попросила меня об услуге: – Если нельзя переспать на прощание, давай на прощание спать. Чем черт не шутит, может, вместе с любимой Дон обретет и сестру?
Ночь была чистой, но трудной. Братом я быть не умел, но сумел.
Чемодан укладывать не пришлось: с минувшей недели он так и стоял, не разобранный, в нашей прихожей. Завидев его, Жанна заплакала, пнула ногой, накинула плащ и ушла. Я поглядел из окна, как она заводит мотор и покидает зигзагом стоянку. Единственный шанс навязать мне ключ от квартиры – сбежать из нее до меня.
Я запер дверь, вызвал лифт, спустился, уложил в багажник пожитки, сел в такси и отправился к Анне. На светофоре нас задержал красный свет. Я приспустил стекло и, выбросив ключ в решетку от стока, подвел под эпохой черту. Чтоб отыскать настоящую жизнь, нужно сперва потерять ключи от своей прежней жизни…
– У тебя такой вид, будто ты сорвал банк, – укорила Анна, когда я схватил с полки в ванной стакан и приобщил к ее зубной щетке свою. – А если мы вместе решим постирать в машинке белье?
– Буду подглядывать в люк за головокружением лифчика.
– Пошляк! – отмахнулась она. – У тебя одно на уме.
– Зато много раз.
– Значит, будет ни разу.
– Тогда будет штраф: еще тысячу раз.
– Потом – может быть. Но потом.
– Потом так потом… Между прочим, потом – это то же сейчас, только через минуту. А через час – это уже миллионы сейчасных потом.
– Ты говоришь так смешно по-испански, что мой русский стыдливо краснеет.
– Твой русский – не русский, а вруский.
– И в чем же я вру?
– В том, что скрываешь, что любишь.
– Я не скрываю. Просто боюсь, что еще не люблю.
– А я вот боюсь, что полюбишь, налюбишь да вылюбишь.
– Не вылюблю. Если уж я полюблю, то налюблю до конца.
– Лучше любить бесконечно.
– Лучше сначала любить.
– Тут я дал тебе фору.
– Не обижайся. Я стараюсь тебя полюбить.
– Любить не стараются. Стараются не разлюбить.
– Только те, кто любить разучился.
– А кто не умеет?
– Старается не ошибиться…
Споры наши длились неделями. Все это время мы увязали в объятиях и вперегонки исповедовались. Я рассказал ей про все, кроме тех эпизодов, которые очень не помнил или которые элементарно забыл, как и женщин, что сгинули в них, испарившись в моем равнодушии. Анна поведала мне о семье (“Мать давно умерла, отец – в позапрошлом году”), о своем сыром детстве (“Я была одинока и писалась по ночам, потом подросла и писалась только от страха, что в мое одиночество вторгнутся”), запущенном отрочестве (“Отец не любил, а мать уже умирала и забывала, что я существую”), порывистой юности (“Я то и дело от них убегала: сначала в Европу, потом в США, потом на два года в Россию”), осиротевшей воспрянувшей молодости (“Я впервые почувствовала, что никому не нужна и не должна кого-то любить, а потому могу отдохнуть от той ненависти, что разжигала годами к родному отцу”), об учебе в Мадриде (“Я антрополог: изучаю, почему все люди живут совершенно неправильно и почему правильно то, что они так живут”), о своей разборчивой девственности (“Когда как попало страдал, не хочется спать с кем попало”) и неразборчивых связях (“Мизандаров – бывший отцовский партнер, а теперь как бы мой опекун”). После сей вдохновляющей новости я услышал вдали звон бокалов: купидон чокнулся с дьяволом и пожелал нам, хихикнув, удачи.
– А что за бизнес водил Мизандаров с папашей, ты знаешь?
– Догадываюсь. Был бизнес нехитрый, но нервный: пугать тех, кого можно не убивать, и не пугать того, кто может прикончить тебя. Отец был идеальный преступник: трусость и смелость в нем постоянно держали друг друга на мушке. Когда в Испанию хлынули русские деньги, он нашел себе компаньона, кого опасался не меньше, чем тот опасался его, а значит, процветание было не за горами.
– Ты богата?
– Подобного рода богатство может легко обернуться банкротством: вдруг появляется кто-то, кого напугали так сильно, что теперь он пугает тебя, лишь бы тебя не убить. Оттого-то и нужен мне Мизандаров. Я его ненавижу, но боготворю. Хорошо, что ты сирота. У тебя могут быть какие угодно родители. А мне за своих отдуваться до самого Судного дня. Пуф-пуф!..
Она обожала дублировать междометия: для резать всегда под рукой находилось цак-цак, стреляла она неизменно паф-пафом, щекотала меня гыди-гыди и обличала мою болтовню как дрын-дрын. Это был наш первобытный язык. Другие она не так чтобы чтила:
– Слова лгут, даже когда хотят сказать правду. Мысль изреченная есть ложь.
– Если воспринимать это высказывание буквально, будучи изреченным, оно само превращается в ложь. По той же логике, мысль неизреченная есть ложь вдвойне, потому что она и не мысль. Разве не так?
– Так. Потому языку нужно больше.
– Например?
– Волшебство. Хотя бы крупица его. Она необходима, как воздух. Язык дышит вольно, лишь когда облекает мысли в метафоры. Мечта сияет по-настоящему, только пока она в дымке. Бог остается невидим для того, чтобы не умереть.
– А что же любовь?
– Не знаю. Тут я совсем не эксперт.
– Эх ты! Я полагал, ты умнее. А ты лишь умнее меня.
– Я умнее тебя, потому что умнее того, что я знаю, на два-три “не знаю”. Кончай философствовать, это тебе не идет. Лучше слушай меня, обнимай что дают и люби что пока не отняли…
Я обнимал, любил, слушал и слушался. И сходил с ума от ее хриплого голоса. Таким голосом говорить с нами может лишь наша душа – или та, на кого мы ее обменяли. Ничего сексапильней я в жизни не слышал. От подобного тембра мужчины если не млеют, то блеют. Носительниц этого хриплого дара отличают обычно широкие ступни. Исключений почти не бывает. А если “почти” и бывает, зовут его Анна Мария де ла Пьедра аль Соль.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































