Текст книги "Дон Иван"
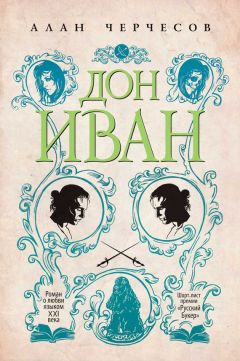
Автор книги: Алан Черчесов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Ступнями в ней работали юркие карлики. Они шлепали голышом по квартире и метили пол отпечатками своего короткого выдоха. Не ступни – ребячьи ладошки. Гадать по ним я любил, как и любил наслаждаться манерой тереться спиной друг о дружку и улаживать разногласия, сплотившись на пуфе в подобии рукопожатия.
– Я умру раньше тебя, – шепнула внезапно мне Анна, как только в наш дом вошел Новый год. Мы его встречали вдвоем, шампанским и парой дюжин утробистых виноградин, которыми в спешке давились под бой курантов, чтобы не сглазить загаданные желания. Я загадал жить с Анной долго-предолго и умереть на день раньше нее. Замышленного я не озвучивал и ни о чем таком прежде не заикался, потому ее реплика ввела меня в оторопь. Анна счастливо улыбнулась и сказала, что счастлива. – Терпеть не могу хоронить.
– Не понимаю, – я передернул плечами. – С какой стати ты…
Она не позволила договорить:
– Чудеса происходят, когда к ним готов. Например, до знакомства с тобой мне не давалось заговорить толком по-русски. А теперь иной раз я даже думаю на твоем языке. Бывает, твоими же мыслями.
– Переходишь в мое измерение?
– Ну да. Измерения – двери, в которые можно и нужно стучаться. С точки зрения физиков, их сегодня тринадцать. Почему не войти в ту из них, где нас ждут?
– А вдруг мы увидим там новую дверь и поймем, что дверей еще больше – как сейчас понимаем, что их явно не три?
– Браво, Дон! Но признайся, разве мы сомневаемся, что число подвластных нам измерений зависит только от степени нашей свободы? Прогрессия поиска здесь определяется вектором бесконечности.
– У меня с тобой крыша поедет. Ты делаешь мир ужасно большим, но при этом понятным, отчего он совершенно запутывается и становится непроходим. Так нельзя.
– Почему?
– Потому что это обман.
– Любому обману довольно лишь раз не солгать, чтобы сделаться правдой.
– И ты в это веришь?
– Я верю в Иисуса.
– Я тебя умоляю! Сегодня для веры уже не сезон. Едва мы на собственной шкуре познали период полураспада ядра, как начался период полураспада Иисуса.
– А при чем здесь Христос?
– Он у вас всегда ни при чем – еще с той поры, как Его запальчивые приверженцы сожгли Александрийскую библиотеку. Вмешайся Он тогда – и, глядишь, мы б обошлись без крестовых походов и газовых камер. Чего ж уповать на Христа, когда Он у всех на глазах сожран ядерным грибом! Если что от Него и осталось, лучше держаться от этого праха подальше. Бог так ослаб и потрачен, что веру в Него смели суеверия. Отныне верят лишь в то, что видят по ящику, а по ящику видят лишь то, что желают увидеть – кумиров: актеров, спортсменов, поп-звезд. Сегодня Иисус – это Эйнштейн, мать Тереза и Элвис в едином лице, и лицо это – постер.
– Ты удивительно остроумен.
– Я самый остроумный из тех, кому за это не платят.
– И из тех, кто за это поплатится.
– Не знал, что ты религиозна.
– Просто я честнее тебя. Я не разуверилась.
– Предпочтя правде ложь?
– Вовсе нет, если помнить, что правду всегда говорит только дьявол.
– Что же делает Бог?
– Все, чтоб ее изменить.
– Оригинальный научный подход!
– Наука лишь следует за Христом. Именно Он преподал нам урок, как извлечь пользу из единства вселенной.
– Когда накормил семью хлебами и парой рыбешек пять тысяч голодных? Фантастический трюк! Жаль, секрета его не раскрыл.
– Это как посмотреть. Секрет тут не в фокусе, а в краеугольной морали: из любой малости можно добыть остальное. Все во всем – рецепт мироздания. Макрокосм заключен в микрокосме. Что это, как не намек на идею клонирования?
– Только идея ваша для избранных: не каждая клетка даст нужный приплод. Все во всем, но отнюдь не для всех.
– Клонировать сами стволовые клетки через клетки обычные – дело нескольких лет.
– Ну это вряд ли. Тут вам долго еще ковыряться в отрезанном пупе, что на практике нам, остальным, сохраняет хотя бы надежду на пристойную смерть. Так и хочется расколошматить побольше приборов в ваших лабораториях. Если геном обычной свиньи так близок к нашему, как о том пишут, соблазн извлечь вершину творения Божьего из хвостика хрюшки затмит соображения этики. А когда хомо свинтус родится, Создатель сам пустится наутек с разоренных вами небес. Его позор запечатлеют ваши дотошные телескопы, газеты наутро представят подробную траекторию Господнего низвержения, а предприимчивые коммерсанты займутся устройством экскурсий к Эпицентру Крушения Веры. Параллельно с курсом “вперед от свиньи” вы двинетесь курсом “назад к Сыну Божию”. Как бы церковь тому ни противилась, а кому-то из тысяч Иуд удастся добыть с плащаницы образцы святой крови, и тогда уж начнется такое, что кресты с храмов градом посыплются. Пробирками будут трясти до тех пор, пока Иисус не размножится в нужном количестве, чтобы лично читать свои проповеди в каждом соборе и церкви. Не за горами конкурсы “Христос такого-то года от Рождества Христова по старому стилю”, а победителям станут вручать золотой терновый венец…
– Прекрати, – рассердилась она. – Это пошло и гадко.
– Зато абсолютно бесспорно. Вот и ты затыкаешь мне рот, но не споришь.
– Спорить с тем, кто стремится лишь спорить, бессмысленно. Кровь и плоть Ииуса – еще не Иисус. Это лишь оболочка и копия. А истина – это всегда только оригинал.
– Демагогия! Жаждущий веры чрез ваши догматы погружается в бездну неверия – вот тебе истина. Не вводи меня в бешенство, дева!
– Ничто не бесит атеиста так, как его неумение верить.
– А ты научи.
– За час сделать то, что сам ты за жизнь не сподобился? Не смеши.
– А ты не сдавайся. Попробуй. Приоткрой в себя дверь. Поделись сногсшибательным фактом.
– Фактом? Пожалуйста: протяженность нервов взрослого человека составляет семьдесят пять километров. Ты умудрился издергать мне все.
Остаток дня я старался их только разглаживать. Анна дулась, но таяла. Перед тем, как лечь спать, вдруг спросила:
– Надеюсь, ты не страдаешь партенофобией?[4]4
Партенофобия – боязнь девственниц (греч.).
[Закрыть]
– Погоди. – Я выудил с полки словарь, прочитал толкование, вернул том на место и честно ответил: – В разумных пределах.
В ту же ночь Анна мне отдалась.
Утром я сбегал в церковь.
Днем мы занимались любовью весь день.
Вечером поняли, что это не вечер, а ночь.
На рассвете уснули, чтобы подняться уже на рассвете.
– Если так пойдет дальше, мы умрем с голоду, – улыбнулась мне Анна, когда я, чуть она распахнула глаза, поймал ее снова в объятия.
– Если так пойдет дальше, мы никогда не умрем.
– Какое сегодня число?
– Третье января.
– Три дня, как мы муж и жена. И три месяца, как ты меня любишь.
(На них ушло у меня тридцать лет подготовки.)
– Почему я тебя не ревную? – спросила она через день или два. – Тебе не обидно?
– Не очень. Ревнуют лишь то, что по праву твое, но как бы не до конца. Я – до конца. И весь навсегда в твоем сердце. Вот почему ты меня не ревнуешь. Как ревновать свое сердце к себе?
– А ты? Хоть немного ревнуешь меня?
– Я ревную тебя, потому что ты меня не ревнуешь.
– Стало быть, ревность – это когда поселился в сердце другого, чтобы другой поселил свое сердце в твоем?
– Ревность – это когда у тебя достаточно сердца, чтобы вместить туда целиком себя в чужом сердце, только чужое вселяться не очень торопится.
– Я поняла. Ревность – это любовь, которую портит жилищный вопрос. Хорошо, что я не ревную.
– Но любишь?
– Мне кажется, да.
– Кажется? Кажется, где-то видел я нож. Ты пока отдохни, а я быстренько сделаю в ванной сепукку.
– Помнишь, что говорила тебе директриса в приюте? Что ты плод любви. Ну а я продукт нелюбви. Так что будь снисходителен.
Тут нужны разъяснения. Стоит вкратце поведать историю ее полоумной семейки. Не корите за качество изложения: жизнь сплошь и рядом черпает сюжеты из похлебки грошовых романов.
Как вам такое начало? Знатный род, обедневший настолько, что потомкам его остается облизывать масло с портретов насупленных предков, решает связать себя узами брака с голодранцами громкой испанской фамилии. Отчаявшись обеспечить союз своей чести с чужими деньгами, обе чести (обделенные красотой еще больше, чем приданым или наследством, а на такую затравку деньга не клюет) принуждены обручить меж собой две гордыни.
После скромной и чопорной свадьбы родители, вытряхнув крохи монетного звона из кошельков с вензелями, отправляют своих окольцованных отпрысков в путешествие по странам Магриба. Переплыв Гибралтар на пароме, новобрачные сходят на берег с шестью чемоданами и заготовленной медью, на которую сразу же открывают охоту ватаги ухватистых боев. Север Африки на Африку мало похож, с облегчением признаются молодожены друг другу и время от времени даже держатся за руки. Они осваиваются с новой обувью, острыми блюдами и белыми балахонами, в которые облачаются молчаливые призраки, чтобы рядиться людьми в этом белом придатке песков. В гостиницах первым делом приходится проверять наличие в номере умывальника, а по ночам под морзянку клаксонов молиться на вентиляторы. Здесь, конечно, совсем не Испания, но иногда весьма мило: милые ослики прядают мило ушами. Торговцы с милой улыбкой обмишуривают туристов и мило хохочут, уличенные теми в обмане. Близорукие комнатки в дальнозорких отелях пахнут пряностями и пустыней – так же, как чай по утрам, подаваемый с кальяном и сладостями. Если не раздражаться по мелочам, тараканий шорох почти незаметен, а визгливая ругань возчиков с продавцами воды под окном отвлекает от утренней скуки. Экзотичность маршрута не гарантирует подобающего комфорта, зато с лихвой окупается дешевизной вояжа, утомиться которым новобрачные не успевают. В Танжере их застает телеграмма, оповещающая, что они сделались старше на целое поколение. Жестянка “сеата” разбилась в лепешку, врезавшись в молоковоз на обратном пути из Севильи (родового гнезда жениха) в Памплону (родовое поместье невесты), где квартет пращуров собирался отпраздновать день рождения тещи. Так, в течение одной лишь недели молодым удается жениться, лишиться невинности, зачать ребенка и осиротеть. То, другое и третье совершается ими без всякого пыла. Акт четвертый они принимают как кульминацию первых.
Молодой какое-то время снятся кошмары про кровь с молоком. Они ползут по асфальту рекой, переползая из месяца в месяц, так что когда рождается Анна и акушерка, похлопав младенца по попке, ликует: “Полюбуйтесь на это пухлое чудо! Чем не кровь с молоком?!” – с роженицей случается срыв. В итоге малышка отлучена от груди прежде, чем ее вкусила.
Пока дочь подрастает, мать убывает. Сначала она лишается пальца, отчекрыжив фаланги дверцей такси. Потом – мочки уха, откушенной фаворитом ротвейлером, поплатившимся жизнью на заднем дворе (как человек чести, отец Анны не мог не воздать по заслугам обидчику, кем бы тот ни был, если только он не был самим отцом Анны). Потом следует очередь глаза: его мать теряет, напоровшись на лыжную палку супруга. Отныне к услугам гостей стеклянный протез (взгляд такой ледяной, словно примерз навсегда к той лыжне, поясняет мне Анна); для домочадцев по-свойски – повязка пирата. Потом настает черед скальпеля: мать забирают в больницу, где отнимают левую грудь, а спустя год – и грудь правую с горстью вызревших метастаз (месть за дочь, думаю я, за украденное молоко; никакая не месть, поправляет вслух Анна, а испытание – для меня: смогу ли ее полюбить за страдания… не смогла). Потом мать падает с лестницы, повреждает три позвонка и обзаводится хромотой. У нее вырезают кисту, желчный пузырь и аппендикс. Все чаще в тарелочке с тапас она оставляет какой-нибудь зуб. Ее худоба напоминает прозрачное платье скелета. Мать столько курит, что ей удаляют и легкое. Она так худа и уродлива, что превращается в минималистский шедевр. Пока вянет жизнь, смерть цветет в ней размашистой графикой и с каждым днем хорошеет. Мать харкает кровью, а перед самой кончиной, чтобы заткнуть глотку кашлю, просит подать молоко. Пальцы роняют стакан. Он катится по полу, разбрызгивая молоко по доскам. Сверху капает кровь, но ее на белом не видно. Видно ее в уголке приоткрытого рта. Проложив к подбородку дорожку, она разбивается о подлокотник и рассыпает повсюду молекулы пустоты. Все закончено, думает Анна и смотрит, как дотлевает в пепельнице сигарета, еще вышептывающая дымок мундштуком. Когда дым стирается, дочь целует мать в лоб и идет за отцом.
У того в запасе пять лет. Самых удачных для дела и неудачных для тела. Чем больше он преуспевает на поприще бизнеса, тем меньше отрад способен обслуживать слабеющий организм. Его донимают колит, простатит, грыжа, запоры и воспаление копчика – вот список того, что мучает снизу. Сверху отцу докучают отрыжка, хронический тонзиллит, гайморит, шум в ушах. По всему фронту ведет методично осаду сахарный диабет. К шестидесяти годам отец истаскался настолько, что выглядит старше портретов на стенах. Анну он ненавидит за молодость и красоту, как ненавидел мать ее за уродство и старость. Ничего другого он не умеет. Ненавидеть – это его призвание и вера. “Еще не придумано подлости, в какой нельзя было бы обвинить врага и оправдаться перед собой”, – объясняет он дочери, когда та начинает его ненавидеть открыто, шагнув на его исконную территорию. Тут уж он не уступит ни пяди. “Ценность жизни определяется количеством трупов, через которые мысленно переступил”, – наставляет он ее ненависть, полагая, что победил. Дочь убегает все дальше и дольше, но каждый раз возвращается, чтобы сразиться с ним снова. Не сумев полюбить свою мать, она хочет убить хотя бы свою к отцу ненависть, но лишь добавляет к своим поражениям. В Штатах Анна, пополнив ряды добровольцев из Армии спасения, учится ненавидеть вместо отца нищету, помогая той выскабливать миску горбушкой. В Ольстере учится ненавидеть войну и ставит спектакли для краснощеких детишек католиков и оранжистов, а с наступлением темноты бьет поклоны под пулями их красномордых папаш. Она летит в Рим, где учится ненавидеть безбожие, устроившись послушницей в монастырь. Потом садится в автобус и вместе с десятком умудренных опытом капуцинок едет в Румынию. Учась ненавидеть грех и нетерпимость к нему, раздает проституткам на улицах Бухареста Евангелия и контрацептивы. Шестнадцатилетие застает ее на Балканах. По документам ей девятнадцать. По сердечной тоске – девяносто. Подарок отца находит ее в полицейском участке придунайского городка, куда доставляют конверт со свежей кредиткой и списком фамилий с телефонными номерами. Увидев бумагу, ведущий допрос лейтенант бледнеет и возвращает Анне две сотни долларов, которые только что выклянчил. Она ненавидит отца за то, что ему благодарна, но обещает себе вернуть все долги: “Когда-нибудь я тебе помогу, – клянется она. – Так помогу, что тебе будет стыдно”. Но сегодня стыдно лишь ей: где бы она ни была, глаз да глаз за ней обеспечен. Это главный урок ее “самостоятельной” жизни. Она пока только учится, и пока она учится жизни, учиться в школе нет времени. В семнадцать она приезжает в Москву – лучшее место, чтобы учиться жизни как ненависти. Так по крайней мере твердят. В том числе тот, кого она ненавидит не меньше, чем собственного отца, а потому может себя ощущать здесь как дома. С женой Мизандарова Анна дружит больше из страха: та воплощает такой абсолют равнодушия, рядом с которым даже заядлая ненависть поджимает свой хвост. Безразличием Дарьи ко всему, что только бывает на свете, Анна почти восхищается. Порой она думает, что нашла эталон, к которому нужно стремиться. Как иначе ей совладать с неумением смотреть безучастно на то, что не в силах исправить, она не имеет понятия. Россия ей нравится. В ней много такого, что исправить не в силах никто. За это ее легко ненавидеть и ровно за то же легко полюбить. Люди настолько устали в ней жить, что отдохнуть от нее не смогут еще поколений пятнадцать, повторяет мне Анна. “Вы постоянно кричите о том, что вы лучшие, – верный признак того, что себе опротивели. Пьете, будто поете, а напившись, поете, как проклинаете. Никогда не встречала народ, которому тесно внутри, но гораздо теснее снаружи. Вы наживаете язву, тоскуя о том, чего у вас нет, потом уезжаете и начинаете тосковать по тому, что у вас было и от чего воротило. Сперва вы мечтаете обменять свою жизнь на любую другую, а потом изнываете из-за того, что обратный обмен запрещен. Вы так преданны родине, что предать ей самой вас – раз плюнуть. Желаете, чтобы все вас любили, но совсем не желаете полюбить хотя бы себя. Вы изгои, но чаще кого бы то ни было оставляете всех позади. Вам проще простого страдать, но невыносимо терпеть. Вы целуетесь с прошлым, чтобы баловать будущее, а в этих заботах теряете настоящее. Вы живете неряшливо, словно пишете кляксами свой черновик. Вас не пугают помарки, потому что помарки для вас – это вы. О вас можно плакать, но нельзя не смеяться, ведь слезами вас не проймешь, а хохотать громче вашего умеют одни лишь рабы. Вы не рабы, хоть рабов из себя так и не вытравили. Вы такие большие, что мир из-за вас никогда не уменьшится – слишком много пространства необходимо, чтоб уместить вашу душу и дурь. Вы такие продажные, что продать вам себя до конца не позволяет лишь жадность. Такие назойливо щедрые, что переплачиваете за все, что не стоит ломаного гроша. Вы такие богатые, что кичитесь своей нищетой. Такие сумбурные, что после вас любая страна кажется вялой, больной, немного тупой, немного глухой или немного фальшивой. Но немного фальшивого не бывает, потому вы представляетесь подлинником, феерической смесью сюрреализма с сюридиотизмом, которой или закроется мир, или снова откроется. После Москвы даже Камбоджа казалась немного игрушечной, хоть игрушками там и не пахло. В основном там пахло дерьмом”. Туда Анна отправилась с Красным Крестом учить крестьян в деревнях мыть руки перед едой и пользоваться нужником. Мы спасали там жизни, сказала она. “Ты перестанешь смеяться, когда я назову тебе цифру: четыре с половиной тысячи. Столько на нашей планете умирает людей из-за отсутствия гигиены или нехватки воды. Ежедневно!” Она спасала там жизни, включая свою: пару раз перед тем Анна пыталась покончить с собой. Ни таблетки в Москве, ни бритва в Мадриде одолеть ее не смогли: оказалось, в обеих столицах плохие запоры, а надзор там и там слишком жесткий. Мизандаров одобрил факт выживания Анны скромным банкетом и громким салютом. Отец подарил жеребца, которого Анна передарила отцовой любовнице – так было сподручней ублажать и дразнить свою ненависть. На обратном пути из Камбоджи во франкфуртском аэропорту ей пришлось менять терминал. В электричке Анну окликнул давнишний приятель отца и выразил ей соболезнование. Она разрыдалась и очень за это себя ненавидела, понимая подспудно, что ненавидеть отца больше ей не придется. Однако отчаяние ее преждевременно: отец вполне жив. Правда, его стало меньше. Словно спеша по стопам ее матери, он заметно убавил в размерах: диабет запустил по лодыжкам трупные пятна гангрены, и отцу оттяпали ноги ниже колен. Вдобавок он слепнет. Анна сдает билет на Рейкьявик (гейзеры, белые ночи, спасение гренландских бельков – все это вмиг уничтожено канцелярским клыком дырокола) и улетает в Севилью. С полгода она замещает дневную сиделку. Чем меньше отцу остается, тем больше он хочет успеть совершить в себе превращений. Он прогоняет любовницу, уходит от дел (уезжает от них на веранду в своей инвалидной коляске, подписав в коридоре толстенную кипу бумаг), отсылает с порога просителей, дни напролет слушает музыку Верди и потихоньку осваивает Интернет. Отец делает ставки на электронном тотализаторе, часами торчит в социальных сетях и совершает бессмысленные покупки, засоряя свой кабинет не распакованным гарпуном, камерой для подводной охоты, машинкой для счета купюр, комплектом клюшек для гольфа. Прок имеется только от клюшек: ими он чешет спину, посягает на медсестру, цепляет с полки нужные книги или колотит посуду, поднимая себе настроение. Он тратит деньги напропалую, пока ему не наскучивает. Тогда он велит развесить в саду гобелен и обращает его в решето, расстреляв из старинного арбалета. Потом достает ружье и использует вместо мишени портрет посмуглевшего предка, чьи кости истлели в XVI веке. “Тренируюсь к будущей встрече, – объясняет он Анне. – Этот железный capullo с аркебузой под мышкой породил весь наш род, ну а я его умерщвлю. Хорошо, что ты девочка: наконец-то наше проклятье перейдет на каналий с не нашей фамилией. А не родишь никого, еще лучше. Бесплодие – высшая честь, которой может быть удостоена женщина, если она не мамаша Христа. Воспринимай это как доказательство избранности. Судьба знает, что делает, даже когда и не знает зачем. От нас она избавляется по частям: намекает, что у нее серьезные планы на наше исчезновение”. Расправившись с картиной, отец разбивает ружье о перила террасы и впадает в депрессию. Потом несколько дней роется в атласе, скачет по сайтам турфирм и изъявляет желание совершить поездку в Австралию (“Как-никак самый край света. Под конец жизни – самое то. Всегда мечтал познакомиться с аборигенами, чтобы взглянуть на людей, которые слышат себя, припав ухом к земле, а кроме себя ничего и не слышат”.). Однако на полдороге в аэропорт отец приказывает водителю развернуться и завершает вылазку в кабаке. Трудно поверить, что отказ от поездки обусловлен маленьким инцидентом, когда под колеса машины попала ворона и лимузин слегка занесло. Честнее считать, что отец просто ошибся, приняв накатившее вдруг недомогание за звоночек агонии. Как бы то ни было, сеньор отпускает водителя и несколько раз отсылает официанта проверить, не караулит ли тот за углом. Анна сидит дома и ждет. Шофер называет ей адрес, но она сидит дома и ждет, потому что так правильно. Спустя четыре часа отца приносят домой на руках полицейские. Лицо его в ссадинах и постоянно смеется. Об инвалидной коляске им ничего не известно. Похоже, отец ее пропил за недостатком наличности. Алкогольное отравление снимают в четыре руки семейный врач и ночная сиделка. Чуть отец приходит в себя, как его увозят в больницу, чтобы вдвое урезать синюшные бедра. Возвращается он через три с половиной недели на новой коляске с автоматическим приводом и миникомпьютером, выдвигаемым из подлокотника. В другом подлокотнике спрятана кислородная маска. После больницы отец ни с того ни с сего начинает проявлять интерес к специальности дочери. Прежде всегда презиравший печатное слово (“Книги нужны только тем, у кого не хватает мозгов, или тем, у кого мозгов слишком много; тем и другим вышибают мозги”), по вечерам он просит ее почитать ему вслух из учебников антропологии. “Ты смотри! А я и не знал, что человек – единственный зверь, способный рисовать прямые, – восклицает растроганно дон Хосе и, подмигнув, добавляет: – Теперь понятно, почему не макаки, а мы изобрели пистолет!” Иногда Анна слышит, как он наговаривает на диктофон особенно поразившие откровения, сопровождая их комментариями: “Общий вес бактерий у нас в организме составляет два килограмма. Норматив гниения трупа – четырнадцать лет. Но не по нынешним временам: мы так напичканы антибиотиками, что черви брезгуют жрать наши порченые останки. Достижение XX века – неэкологический прах. Похоже, мы разлагаемся, только покуда живем. Такой итог успокаивает”. По окончании лета он отсылает снова Анну в Мадрид. Нет смысла мозолить глаза, когда те почти и не видят, слышит она и только теперь понимает, что в гобелены с портретом палил-то, по сути, слепец. Ей становится страшно. Она им гордится. Ей в самом деле пора от него отдохнуть. Севилью Анна не любит: в этом белом, спотыкливом городе слишком много голодного света. Он охотится на тебя целый день и атакует из закоулков, как каннибал с тесаком. По ночам город шуршит, будто крадется за кем-то, кого обязался в себе придушить до рассвета. На рассвете в уснувшей под утро Севилье и есть самый сон. Нигде так не спится, как на рассвете в Севилье. Быть может, из-за того, что для севильцев в других городах не бывает рассвета. В них бывает начало утра, как в той же Москве, говорит мне она. Даже в Мадриде мне его не хватало – рассвета… Мадрид Анна любит. Тут ей действительно кажется, будто вся жизнь впереди. Ей почти двадцать, и она очень пробует очень-очень влюбиться, но стоит ей подпустить близко юношу, как на нее нападают отвращение и истерический смех. Возникает слушок, что у нее не все дома. В середине семестра дома у Анны не остается уже никого: отец умирает. В день погребения от него доставляют спец-почтой письмо: “У меня все хорошо. Здесь в меру прохладно и скучно, хоть среди мертвяков и нет недостатка в растленных до мозга костей остроумцах, с кем я не прочь поболтать на досуге. Досуга и тлена, как ты догадалась, здесь много. Собственно, все мы здесь для того, чтоб сносить бесконечные тлен и досуг. Теперь мне понятно, из чего скроена вечность: у нее хроническая зевота и трухлявые потроха. Твоя мать ее презирает. У нее самой характер все тот же: надменная сука. Правда, выглядит лучше. Диета пошла ей на пользу. Не верь, что на том свете кормят сытно и смачно: пищу нам подают хотя и съедобную, но очень уж пресную. Есть подозрение, что мужчинам в напитки для пущего успокоения подсыпается бром. Во всяком случае, нас ничего не волнует. Старожилы твердят, не пройдет пары-тройки веков, как я смирюсь со своим положением и перестану что-либо чувствовать – даже веселость и скуку. В напускном удивлении я пощелкиваю языком, стараясь не выдать, что явился сюда уже абсолютно бесчувственным. Что до веселья и скуки, так это, по мне, никакие не чувства, а всего лишь две нормы посмертного настроения. Если что удручает меня в хваленой моей загранице, так это тупость ученых, которую те переняли от своих земных ипостасей. Никто мне не может сказать, почему единственный звук, не способный издать ни малейшего эха, это утиное кряканье. Странно для места, где не бывает теней, согласись. Порой я думаю даже, что напрасно сюда торопился. Будь добра, постарайся найти мне ответ на этот единственно важный вопрос прежде, чем отправишься к нам на постоянное жительство. Спешить не советую. И вообще, ничего не советую. Чем не ценнейший совет от отца? Живи. Оставайся на страже себя, сколько хватит терпения. Прощай. Не прощаю тебя навсегда. Твой докучливый призрак дон Хосе Альваро де ла Пьедра аль Соль”. Она хранила письмо в портмоне и носила с собой. Чтоб поквитаться, я показал ей письмо Фортунатова. Любопытно, сказала она. Что эпистолярный жанр вымирает, не новость, но что дело зашло уже так далеко… Скоро, похоже, писать нам будут только покойники. (Ну как вам такое? Оцените иронию мимоходом брошенной фразы. Разговор с мертвецами – последний наш бастион, где по старинке врать как-то не принято.) Похоронив отца, Анна едет в Мадрид, отдается всецело учебе и днюет-ночует в университетской библиотеке. С рождения одинокая, теперь она еще и свободна, но не очень готова к тому, чтобы жить не назло и наперекор, а благодаря и во имя. Свобода ее – благодаря деньгам и сиротству. То и другое – благодаря усопшим родителям. Но свобода – это еще и во имя. Во имя нее же, свободы. Анне нечего больше желать, кроме как не лишиться ее. Быть свободной там, где была до того несвободна, не всегда получается: мешают гримасы увертливой памяти, отраженные в зеркалах подсознания. Сам город тоже как зеркало. Не всегда это хорошо. Помогает сменить обстановку ей случай: звонит знакомый дона Хосе и настоятельно просит о встрече. Повинуясь наказу отца, дочь достает блокнотик из рюкзака и проверяет имя по списку. Оно подчеркнуто красным и помечено минусом, что означает: опасайся и избегай. Избегать эффективней всего убегая. Бежать ей разумней в Россию: в списке отца не много фамилий, напротив которых не минус, а плюс. Рядом с записью “М. Мизандаров” плюс обведен. Ее виза действительна еще на три месяца. Анна летит ночным рейсом в Москву. Один звонок Дарьи – и стажировка оформлена. На факультете в Мадриде студентка на очень хорошем счету, хотя не имеет понятия, сколько было отцом перечислено денег, чтобы счет этот не ухудшался ни при каких обстоятельствах. Самовольный отъезд в деканате никем не замечен. В МГУ приходит по факсу официальный запрос, удостоверенный датой, проставленной задним числом, так что теперь с бумагами Анны все чин чинарем. Русский дается ей трудно, но все же полегче, чем раньше. Больше всего помогают походы на рынок и Чехов. Вечеринок она сторонится: пока ее круглосуточно охраняют, лучше никого из сокурсников не подставлять. На улаживание проблемы с отцовским врагом уходит полгода. Срок этот Анна сама вычисляет, когда убеждается, что хвоста за ней нет. На всякий случай Мизандаров просит ее слетать на сутки в Париж и снять на Монмартре квартиру, ключ от которой Анна сразу передает поджарой брюнетке, облаченной в бронежилет. Та ей не представляется, а на вопрос, как зовут, надевает вместо ответа парик. Он ей совсем не к лицу. В парике она выглядит неприятно и странно. Почему, Анне становится ясно, когда барышня водружает на нос солнцезащитные очки: сходство девушек делается столь разительным, что теперь их не отличит даже зеркало. Пока они в него смотрятся, Неанна подмигивает и говорит: “Рада была познакомиться. Считайте, что я ваша тень”. Наверняка работать тенью ей не впервой, но разузнать больше Анне не удается: сбросив с себя маскарад, брюнетка теряет к ней интерес и погружается в чтение глянцевого журнала. Во время обратного перелета Анна размышляет о том, что у нее появился двойник, готовый вместо нее умереть и убить – как получится. От мысли, что вместо нее кто-то столь же легко может жить, пассажирку колотит. По приезде она ежедневно пробегает глазами криминальную хронику парижских газет. Все в порядке, уверяет ее Мизандаров. Твоя тень по-прежнему на Монмартре, а значит, никому ты там не понадобилась. Подождем еще с месяц – для верности. Ждать им не месяц, а два с половиной, по истечении которых Марклен говорит: “Ну вот и все. Теперь можешь расслабиться”. Он отправляет их с Дарьей на Капри, где Анна вторично встречает брюнетку. Та подвизается бодигардом в их несметной охране и делает вид, что Анну не узнает. Как-то утром Анна идет на прогулку, ускользает от слежки, садится в первый попавшийся катер и удирает с проклятого острова. Через день она снова в Мадриде. На полировке стола в ее комнате нарисовано красной помадой: “Как тебе будет угодно”. Ей угодно пожить наконец-то одной. Весна навевает грусть и покой. Лето приносит одну лишь жару и сонливость. Позади двадцать два года и последняя сессия. Это и много и мало. Анна тоскует по осени; в августе едет в Москву. (Я ей верю вовсю. До сомнений еще далеко. Лучший способ любить – это верить, когда тебе лгут. Тогда ложь всегда во спасение. Она и была во спасение. Правда пыталась ее отравить хотя бы намеком, но слово “двойник” пропустил я мимо ушей.) Между августом и октябрем ничего существенного не происходит, разве что несколько раз судьба норовит нас столкнуть на всевозможных премьерах, банкетах и презентациях. Всякий раз что-то в стежках не срастается: насморк, хандра, разорванный смокинг, внезапная ссора с подругой – какая-то тусклая мелочь, нечаянный пустячок, крошечный узелок, в котором вдруг застревают бойкие спицы. Как слепые котята, мы тычемся носом друг в друга, но не умеем друг друга учуять. Даже когда фортуна приводит нас в Спасо-Хаус, я едва не промахиваюсь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































