Текст книги "Убитый, но живой"
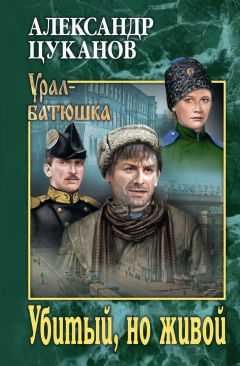
Автор книги: Александр Цуканов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
Глава 11
Отец
Аркадий прямо от остановки уцепил глазами домик в два окна с оторванной ставней, скособоченными воротами и даже выпавшие кирпичи у трубы на верхней разделке углядел. «Эх, тудыт-растудыт!» – подбодрил он себя возгласом с матерком и пошел не торопясь к дому.
Постоял на скрипучем крыльце, оглядел двор, огорожу, замусоренное полотно железной дороги. Постучал костяшками пальцев и тут же, устыдившись этого невольного жеста, толкнул дверь, но в темных сенях запутался, шаря по драной ватной обивке с недовольным: «Ну, дожился!»
Дверь отворилась изнутри. Аркадий вошел в дом – свой не свой, но и не чужой, как ему представлялось теперь.
– Так вот, сын… Здравствуй!
Опасался, еще как опасался… Но аж зазвенело в ушах.
– Папка! Ты?! Ты надолго?
– Погоди, хоть разденусь… Я теперь насовсем. Хватит. Мы теперь заживем во-о! – Аркадий выбросил вверх большой палец. – С деньгами у меня, правда, вышла промашка, а то бы я в прошлом году приехал.
– А мы так ждали минувшей осенью! Потом мать говорит: «Все! На крыльцо не пущу…» Но ты не бойся, это она сгоряча.
– Ты, Ваня, чайку бы поставил. С дальней дороги я. И не супься. Сезон этот не ахти какой был, но тысчонка-другая имеются. Телевизор надо бы купить…
– Телевизор – отлично! Еще бы кровать новую. А лучше – диван.
– Купим, Ваня, купим! Мы теперь заживем…
– Это заварка, что ли? – удивился искренне Аркадий, плеснув в чашку бледно-желтой водички. – Смотри. Полпачки высыпаем. Кипяточку. Кусочек сахару – и на плиту подпарить, но не дать закипнуть. Чай на Севере – первейшее дело. Колбаски, сыру к чаю давай… Нет, говоришь? Придется тушенку открыть. Якутская. Высший класс. Почисть луковицу, устроим быструю уготовочку. А уж балыки, икорку и прочее на вечер оставим, как Аня придет.
Ваня крутился волчком, старался угодить этому большерукому лысому мужчине, которого отвык называть отцом, а очень хотелось.
– Что это у тебя с рукой?
– Обморозил в прошлый год. Перчатку потерял.
– Эх, ядрена вошь! Лук у вас, прямо глаза выест. На-ка, Ванюша, дорежь, я покурить выйду.
Аркадий Цукан снегом обтер лицо. Закурил «беломорину» и никак не мог успокоиться: обрубок на маленькой ладошке, как гвоздь, сидел теперь в нем. «Эх, дал промашку!» – проговорил он, как говорил не раз, вспоминая красноярских ментов и всю прочую мутоту.
Аннушка сидела напротив, усталая, и не желала спорить, ругаться и гнать его из дому, как грозилась. Его поразило, как сильно она изменилась за последние два… Нет, тут же поправился, три года. И деньги, что он выложил, ее не обрадовали. Лишь на миг промелькнула улыбка, когда сказал про телевизор:
– Я так люблю смотреть фигурное катание.
Аркадий не возразил, как это случалось раньше: «Нашла что смотреть – кандибобер с голым задом».
– Вот жаль, баньки нет у нас, пропарить бы плечо, руку, а то болит – сил никаких нет.
– Ну и сделаем. Я прямо завтра начну.
– Да кто же зимой?
– Какая это зима! Вот в Якутии как жахнет за пятьдесят!.. Ты ведь знаешь по Заполярью.
– Ох, лучше б не поминал! Если ты еще… Еще хоть раз!
– Аннушка, милая, ты что? Я ведь понимаю, как вам тут без меня. Вот же чертовщина!.. Бугор мне говорит: «Положи, Цукан, деньги на аккредитив, целее будут». Бугор у нас Таманов – знаменитый бугор, на метр под землей видит. Но ведь надо на другой конец поселка в сберкассу топать. А я заторопился, машина попутная подвернулась на Якутск. Уехал я чин чинарем, семь тысяч при мне было.
– Семь тысяч рублей? – перебил, не удержался Ваня.
– Так не копеек же. За два года! У нас с этим строго в артели. Из Якутска улетел я удачно на Красноярск, а дальше стопор. Нелетная погода, туман. А меня зудит, домой к вам хочется, терпения нет. Вот и решил ехать поездом… Подхожу на вокзале к кассе, а там этакая фифа сидит, губки крашены скривила:
– Место есть только в спальном вагоне. Очень дорого.
И форточку свою закрыла, потому что морда моя небритая не понравилась. «Эх, ты, – думаю, – стерва!» Стучу снова в окошко.
– Мне целиком купе, – говорю ей.
А она: что, мол, за глупые шутки? Тут меня словно бес под ребро и толкнул. Достал я нераспечатанную пачку червонцев и говорю ей этак небрежно:
– Я не только купе, весь вагон могу закупить.
Она аж глаза вытаращила. «Вот то-то же!» – думаю про себя. Сунул билет в карман и решил, что можно малость расслабиться. Купил в буфете бутылку коньяку, курицу и прочей еды, за столик пристроился. Бутылку допить не успел, подходят двое с оловянными глазами. «Распитие в общественном месте! Ваши документы…» Короче, ля-ля тополя и – пройдемте. Я так и этак, деньги сую. А они свое: нет, пройдемте! А глазенки у одного, вижу, кошачьим хвостом прыгают. Но не драться же с ними, хотя чую: что-то не так.
– Удостоверение ваше позвольте взглянуть? – прошу деликатно и вежливо.
А он меня коленом в пах. Круги перед глазами, дыхание перехватило.
– Что, хочешь пятнадцать суток схлопотать за сопротивление властям!
Мне бы в крик, а я растерялся от такой наглости. Поплелся меж ними к выходу. На улице темнота, а эти двое толкают в бока и ведут непонятно куда. Вдруг машина фарами ослепила, а когда свет потух, вижу: обыкновенная «Волга», и выходит из нее обыкновенный ухарь, каких перевидал я множество. Тут сообразил, что это за милиция и кто им наводку дал. Одного мента оттолкнул, другого с ног сбил – и бежать. Нет бы мне чемодан бросить, так ведь жалко.
– Ты ж такой, пап, здоровый?
– Против лому нет приему. Монтировкой сзади по голове достали. Всего выпотрошили. Одно спасение – чемодан мой обтрепанный с инструментом не взяли. Но теперь аллес капут. Новая жизнь… Почем нынче лес, Аня, ты не знаешь?
Он верил, что все переменится к лучшему. Сделает баньку, а там и пристройку к дому. «А то в самом деле, сын-то большой уже».
Аркадию не спалось, он лежал на поскрипывающей раскладушке и мечтал о новой настоящей жизни: без портяночной вони, матерщины, оглушительных храпов, жутких болей в пояснице и неистребимого до болезненности желания: хоть под лохматый бок, но чтоб баба… Он выходил на кухоньку, отодвигал печную заслонку, курил и думал, думал. Потом подсел к Аннушке на кровать, отгороженную гардиной, а она вдруг ткнула кулаком в бок, да так, что он ойкнул, выговорила тихонько:
– Ишь выискался… Ложись вон, где постелено.
Ожгло обидой: «Да что я, себе бабу не найду? Тоже мне принцесса».
Утром поднялся Аркадий Цукан как ни в чем не бывало, за водичкой сходил, печь растопил и заладился на раскаленной плите жарить картошку.
– Вот ты даешь! – только и сказал Ваня, раздувая ноздрястый нос.
– То ли еще будет, сынуля. Прибери-ка постель и мать спроси: не опоздает?
– Встала я уж давно, – откликнулась Анна. – Ждала кофий в постель, да все не несут.
Хилая шутка, а сразу теплей на душе. Тут и вовсе Аркадий раскрылился.
– В субботу за телевизором поедем! – торжественно объявил он. – Ты как, Аня?
– Да мне что, езжайте.
В охотку он за три дня переделал всю работу по дому, где подбить-поправить, где доску заменить. Обкопал столбик у ворот, вогнал туда кусок рельса и взял это все на проволочную скрутку. А за четвертной и бутылку водки мужики подвезли по-свойски машину красного кирпича. На баню.
Подозвал Ваню, как только вернулся тот из техникума.
– Вот тебе пятерик. Хошь сам, хошь с приятелем, но чтоб кирпич сложил в штабель. Ряд так, другой поперек с перевязкой. Ферштейн?
Ему кирпич этот сложить – пустяк, но хотелось сына втянуть в работу, и, поглядывая через окно, как он тыкает его неловко, роняет, едва сдерживался, успокаивал себя: «Ниче, ниче… Пусть».
Когда бабушка Евдокия Матвеевна, только так ее называли в ту пору, впервые увидела Аркадия Цукана, то спросила, усмешки своей не скрывая:
– Из иностранцев он, что ль?
Анна, слегка смутившись, ответила:
– Что ты выдумываешь, мама?
– Так ведь чудно. Ар-кадей и ко всему еще Цукан. Фамилия вроде немецкой, а сам на араба похож.
Извивы странные вычерчивает жизнь. Три поколения сменились после беглого владимирского мужика Федора Цукана и черкешенки Фатимы, а рождались иной раз пацаны (девки опять же все русые) чернявые, с подсиненными большими глазами и шалые, как необъезженные жеребцы.
– Пап, а чего пацаны говорят, что твоя фамилия не Цукан, а Цукерман? – отважился под хорошее отцово настроение спросить Ваня, почти уверенный, что так оно и есть на самом деле, раз пацаны говорят.
– Тупые потому что, как валенки. Книг не читают, только бы на гитарах бренчать. А фамилия наша русская. Как уж в подробностях было, не знаю. Расскажу, как слыхал от деда Федора.
«Давным-давно, жили наши предки в древнем городе Владимире, были они крепки в вере православной, за что их начали притеснять. Пошли они в места безлюдные дикие вместе со скотиной и скарбом, унося лики святых, писанные по старому канону. Лики эти, как говорят, ни в воде не тонули, ни в огне не горели.
Осели они сначала в устье речки Вороны, тут снова достали царевы мытники, и пошли они еще дальше на юго-восток. Прижились у речки со странным названием Терса на плодородных добычливых землях. Пришлый люд дразнил их «цай-цево», цокальщиками, Цуканами. От зависти или чего иного пустили слух, что староверы на погост свой никого не пускают, потому что водятся с нечистой силой. Молитвам дань Цуканы отдавали добрую, но и за себя постоять умели. Вот только жили обособленно. А дело молодое, ндравное, как я понимаю теперь.
Собрались однажды женить молодого Цукана по имени Федор. Обсмотрелись старики, договорились, по рукам ударили, а парень-то, яко тать в нощи, прихватил торбочку с хлебом-салом и запасными портками, сел в долбленку и поплыл по Терсе да Медведице прямо в Дон.
Сколько-то пожил в новой казачьей столице в работниках, но не поглянулось, а тут еще слух прошел, будто на Кубани хорошую землю даром дают. Вот и потопал Федор дальше на юг, лучшей доли искать…»
– Что, у него денег на поезд не было?
– Ох и темный ты, Ваня! Середина прошлого века. Только война с горцами прошла…
Короче, прижился владимирско-донской мужик Федор по кличке Цукан в станице Усть-Лабинской, надел получил на приграничной земле, конем обзавелся, жита всякого по лапоть заимел, тут бы и семью заводить, однако поселение военное, кругом унтера усатые, казаки бедовые, где с ними простому мужику – цокальщику соперничать, когда за каждой молодицей дюжина глаз.
Но случилось, что вдовый сотник привез из набега красавицу черкешенку, да ко всему, видно, из знатной семьи. Что казачий начальник с ней ни делал, как ни уговаривал, а в запале даже плетью отходил – все одно дикая кошка. Две недели без пищи и от всего отказывается. Чтоб грех на душу не брать, изругал сотник породу эту дикарскую и, считай даром, за пару целковых продал ее молодому Цукану.
Звали черкешенку Фатимой. Как обласкал ее крестьянский сын – неизвестно, но доподлинно известно, что прожила она без малого век и умерла в тридцать третьем году в товарном вагоне на станции Кинель…
Сам Аркадий запомнил бабушку Фатиму маленькой сухонькой старушкой во всем черном и всегда в платочке, даже летом повязанном как-то особо, по самые брови. Запомнил похожей на птичку, которая святым духом сыта, потому как за общий стол никогда не садилась даже в великие праздники. Сколько бабушке Фатиме лет, никто из Цуканов точно не знал, казалось, что она была всегда и всегда будет, лишь помнили, что во времена реформ царя Александра Освободителя возле нее кормились две дочери и малой Федя – их прадед. Первенца в семье называли в честь пращура-цокальщика всегда Федором, и ему после крещения, как и всем остальным внукам, подкладывала она в изголовье бумажный листок с арабской вязью – молитву из Корана. Два Бога – Магомет и Христос – хранили с рождения Цуканов.
Однажды в очереди хлебной углядел Аркадий Цукан бабушку Фатиму и кинулся от трамвайной остановки к ней…
Старушка тощая, остроносая, в платочке, повязанном по самые брови, смотрела неулыбчиво, строго, чуть поджав бескровные губы, как это делала бабушка Фатима. Деньги немалые, что протягивал ей, взять отказалась. Ему стало горько, ощутил себя сиротой, ватой горло забило. Сколько лет не вспоминал, а тут вдруг привиделось наяву, как уходит товарный состав, вслед за которым бежит он, а следом, чуть поотстав, мама. Как бегут они вслед за бабушкой Фатимой, кормильцем ихним Федором, за большим крепким семейством Цуканов, которое увозил поезд куда-то на северо-восток вместе с другими переселенцами. И как сидели потом, обнявшись, на краю лесопосадки и плакали. А вместе с ними плакали деревья, земля и небо холодным октябрьским дождем…
– Все из-за тебя! – сгоряча выкрикнула Полина Цукан и шлепнула его по затылку. А он, двенадцатилетний, гнул еще ниже голову и драл нещадно, расчесывал под одеждой грудь, живот, зудевшие нестерпимо от мелких нарывчиков, испятнавших тело. Из-за этого Полина отдала последнюю вещицу – сережки золотые, и охранника уговорила, чтоб выпустил на станции к фельдшеру. И Всевышний в образе Магомета или Христа, а может, еще кто другой спас зачем-то его, единственного из Цуканов. Зачем-то ведь спас?
Как он ненавидел в ту зиму кирпичный сарай, всегда полутемный, холодный. Топили печку ночью, чтоб не привлечь внимание дымом и не заругалась бы лишний раз дворничиха, эта деревенская смелая баба, пустившая их на постой без документов, за что Полина лопатила в полутьме снег во дворе. И гулять выходил он только ночью либо рано утром, когда все спят.
Позже эта хитроватая дворничиха порекомендовала Полину местному комбуру. За прокорм и обещание помочь с документами она мыла полы, стирала, убиралась в квартире. А по вечерам, заложив оконце щитом, при свете керосиновой лампы водила красными, будто ошпаренными пальцами по строчкам задачника арифметики или читала вместе с ним по слогам:
Вечор, ты помнишь, вью-га зли-лась,
На мут-ном небе мгла носи-лась;
Луна, как…
Только на следующий год разжилась Полина Цукан необходимыми справками и устроила его в школу на улице Социалистической, где он приметно выделялся среди одноклассников ростом, заплатами и голодным блеском глаз. И очень обрадовался, когда мать сумела устроить его в школу-интернат.
Здесь его радовало все: новенькая казенная одежда, добавки супа в столовой, большая светлая комната человек на двадцать. Здесь Аркадий ощущал себя равным. А мать шептала о Кубани, о родной станице…
Возвратилась она в декабре, похожая на борзую, но подарок к Рождеству принесла. Стала рассказывать, что дом их прежний отдали под РайФО, да вдруг случился там пожар, после чего, особо не разбираясь, забрали неизвестно куда остатних Цуканов: отцова младшего брата Фирса, и семью его всю, и двоюродных братьев, и племянников, которых Полина Цукан помнила по именам, а он не слушал, торопливо надкусывал пряники, хрустел орехами.
Весной тридцать пятого мать пришла, чтобы забрать на воскресенье к себе в маленькую полуподвальную комнату, которую ей помог получить большой исполкомовский начальник. Она пришла радостная, словно помолодевшая, стала рассказывать про дальнюю родственницу со станицы Гиагинской, что муж ее помянул в письме про Федора Цукана, как свиделся с ним и успел переговорить на лесоповале под Тобольском.
Но Аркадий спешил на репетицию хорового кружка, где его ставили всем в пример, к тому же он стеснялся ее телогрейки, багрово-красных рук, а главное, презирал за то, что она снова пошла в домработницы к исполкомовскому начальнику, которого он заранее ненавидел и прикидывал, что в отместку за это… за что именно, не имело значения, его неплохо бы разоблачить.
Этот нескладный рослый мужчина с неулыбчивым лицом постника, словно бы давшего обет никогда не улыбаться, однажды подвез их на автомобиле.
Та первая в жизни поездка на легковом автомобиле – запах бензина, кожи, напористый гул двигателя, – затмила для Аркаши прощание с матерью и то, что она собралась ехать на поиски его отца – Федора Цукана. Он тогда твердо решил стать шофером. Удивило, что начальник долго прощается с его матерью и никак не хочет ее отпустить, и лицо у него такое, будто съел таракана. Он долго что-то говорил, говорил торопливо, что-то ей в руки совал, а мать брать не хотела, а он все толкал и толкал. А потом стоял на перроне как столб, пока не пропали из вида жарко-багряные габаритные огни последнего вагона.
Глава 12
Аркадий Цукан
Баню Аркадий Цукан не доделал – деньги кончились. Устроился карщиком на механический завод, где жена не жена, но и не чужой человек трудилась прессовщицей, чтоб пенсию выработать побольше, пока силы оставались. Она и его уговорила, и цеховое начальство, чтоб место получше, зарплата побольше…
Получив первую зарплату, Аркадий слегка покуражился, что это только на табак и водку, за сто семьдесят рублей пусть дураки горбатятся. Затем пообвык. Знал, что у иных мужиков и меньше выходит. Жить можно нормально и сына воспитывать. На этом «воспитывать» Аркадий делал ударение и говорил то ли с укоризной, то ли с бравадой, в зависимости от настроения: «Я ведь за шестнадцать лет в семье только года три прожил». Он углядел, что Ваня в техникум авиационный поступил, но растет, как сорная трава, балбесом и распустехой. Однако не торопился с назиданиями, присматривался.
Завод у него вызывал неприязнь лицемерием: ровно в восемь сдай пропуск и можешь сидеть целый день, потому что работы нет, сплошная бестолковость, из-за чего иной раз дерзко спорил с цеховым начальством.
Анна Малявина взялась ему выговаривать:
– Зачем ты с ними лаешься? Мне перед людьми неудобно.
– Но ведь по делу, – ничуть не смутившись, ответил Аркадий и ноздри раздул. – Не хочу зряшную работу хомутить! Начсмена по цеху катать или с пустыми поддонами на склад мотаться?.. Я им так и сказал.
– А чего добился? Премиальных лишили.
Вскоре Аркадий заспорил с главным диспетчером завода, взбеленил, чуть до рукопашной не дошло…
Полгода не отработав, рассчитался Цукан с завода и начал косить глазами в сторону вокзала, что Анна угадала. Сказала:
– Больше последних разов не будет. Уедешь – конец!
Сказала так, что нельзя не поверить.
Это походило на болезнь. От силы год, больше не выдерживал, делался Аркадий раздражительным, злым, как с похмелья. Но подворачивалась хорошая шабашка – хандра его враз проходила. Он тут же доставал фанерный чемоданчик с инструментом, которым очень дорожил.
Однажды под настроение рассказал Ване, как его грабанули по пьяному делу в скором поезде Хабаровск – Москва. Остался в спортивном трико и тапочках на босу ногу. Но чемоданчик с инструментом – затертый, неказистый, да и задвинут был подальше – не взяли.
– Сошел я на первой же станции и к начальнику: «Есть у тебя работа аккордная?» Помялся начальник станции, а после сердито отвечает: «Работа-то есть. Сквозняки вон кругом гуляют. Стеклить бы надо, но стекла оконного нет…» Эх ты, говорю, начальник худой чайник! Все пути у тебя вагонами забиты, неужели ни в одном нет стекла?
Заупрямился он было, про соцзаконность понес, но я таких попугаев умею ставить на место. Сговорились, что все беру на себя. Пообещал я путейцам водки, они кран на платформе подогнали. С краю мы один пакет стекла выдернули, и ауфидерзейн.
Через неделю я деньги, рублей двести, получил чистыми. Полсотни тут же с деповскими пропил, что мне помогали стеклить, купил телогрейку, спецовочку, кой-что по мелочи, и еще на прокорм осталось. А на проезд мне начальник станции маршрутный лист выписал, в вагон усадил, как генерала, да все напутствовал: заезжай в любой момент, рады будем.
Я ему: «Как ограбят – сразу приеду».
Под настроение Аркадий Цукан рассказывал о своих похождениях занятно, весело. Кем он только не работал! Шофером, каменщиком, рыбаком на сейнере, начальником базы, снабженцем и даже кухнарем. Но больше всего ему легла на душу работа в старателях. Дело фартовое, кровь будоражащее, – это понятно, но важно, что сам ты хозяин. Точнее, артель. Решили – закон. В сезон безмозглое (а другого Цукан не встречал) начальство тобой не помыкает, не притесняет. Поэтому битый, не раз пуганный, он все одно говорил дерзко: «Всюду вранье и лозунги, а зарабатывать по уму не дают».
Когда доставали вопросами: «Что тебе не живется на одном месте?» – отвечал грубо: «От вашей глупости у меня душа плесневеет».
Проканителился Аркадий Цукан в ту весну, много работы скопилось на огороде, по дому, но нацеленность на шабашку не терял и однажды под кружку пива разговорился с мужичком, работавшим на кондитерской фабрике.
– Еськов, говоришь, замдиректором?.. А не Виктором зовут?
– Ага, Виктором Петровичем…
Ваня в ту пору сдавал экзамены за второй курс, но согласился без раздумий. В техникуме преподнес жалостливую историю со слезой в голосе, и ему два экзамена перенесли на август, а он всем однокурсникам растрепал про шабашку. Гордый ходил, хвалился…
А надо каждый день вставать в семь утра, потом целый день месить раствор, таскать кирпичи в огромный склад, похожий на самолетный ангар, где отец гнал длинную перегородку. Тут Ваня впервые разглядел отцов инструмент: гибкий удобный мастерок из нержавейки, зубастую с широким полотном ножовку, которой Цукан легко перепиливал лиственничный подтоварник, сооружая подмости. Даже молотки у него были особенные, с ухватистыми буковыми ручками. В футляре из-под очков лежал стеклорез с алмазом в рисовое зерно…
– Небось, дорого такой стоит?
– Да уж не дешево, – неохотно откликнулся Аркадий, а стеклорез с футляром забрал, сунул в нагрудный карман. – Это я в Мирном на обогатительной фабрике разжился.
Сказал так, будто речь шла о покупке селедки. Тут же прикрикнул:
– Давай, не сачкуй, веселее перемешивай раствор!
Ваня и без того мокрый от пота. А не присядь. «Команды перекуривать не было!» Этим доводил отец в первые дни до слез, и к вечеру обессиленный Ваня шептал: «Хватит! Плевал на твою шабашку…»
Дня три проработали, когда подошел к складу пузатый мужчина при галстуке, в пиджаке и с лицом, точнее, выражением на нем, какое бывает только у советских начальников.
– Привет, Аркадий! – сказал простецки, как давнему знакомому, но первым руки не подал. – Что с материалами?.. Как работается, Аркадий?
– Полный порядок, Петрович! – спокойно и делово откликнулся Цукан. Помолчал, как бы раздумывая. Затем с улыбочкой и голосом под разбитного мужичка выговорил: – Есть одна закавыка… Мы тут цельный день. Соблазнов много. Поговорил бы ты с кладовщиком…
– Все понял! – перебил Еськов и подозвал кладовщика, худого до изможденности, из-за чего Ване казалось, что несметные запасы орехов, ликеров, сгущенного молока иссушают его. Пояснил:
– Ты, Мирон, сторона заинтересованная?.. Поэтому, чтоб мастера в грех не вводить, да и тебе спокойней, выделяй ежедневно в конце дня бутылку коньяка и полкило сыру. А помощнику его банку сгущенки… Слышь, пацан, как зовут-то тебя?.. Орехи любишь? Так вот ему еще кулек орехов. И можешь быть спокоен, как шпала. Правильно я говорю, Аркадий?
– Какой разговор! Ты ж меня, Петрович, знаешь…
Заместитель директора кондитерской фабрики Еськов знал Цукана давно, еще с той послевоенной поры, когда его иной раз звали Аркадием Федоровичем и подобострастно в глаза заглядывали. А он напористо покрикивал, руками размахивал и бегал по лесоторговой базе как наскипидаренный, в офицерском кителе с отпоротыми погонами.
Еськову в том послевоенном году было семнадцать, наголодался до дистрофии, поэтому пытался работу найти, как сам повторял униженно: «Хоть кем, хоть золотарем…»
Однако кадровики, глянув вкось на маленького худосочного подростка, у которого никакой специальности, тут же начинали мекать, чесать репу: куда же тебя такого? На Цукана он наскочил случайно, по ошибке, и выложил простодушно все, как есть: что не берут никуда, и даже про мамку, которая третий месяц как перебралась из-под Курска, с лежанки не поднимается.
– Так ведь у меня не богадельня, – ответил в запарке Цукан. Потом все же за плечо придержал, спросил: – Образование какое?
– Девять классов закончил.
– Ну-у! Я сам-то лишь семь одолел.
Цукана отговаривали свои же, а взял парня учетчиком, во что тот долгое время поверить не мог и готов был по двенадцать часов работать на базе. Первая зарплата в пятьсот двадцать рублей показалась ему большой суммой. Решил дождаться у конторы Аркадия Федоровича, чтоб поблагодарить, а если получится, то и пивком угостить. Но когда Цукан вышел вечером к проходной, так и не решился предложить. Лишь бормотнул, густо наливаясь краской:
– Мамка велела вас очень благодарить…
Аркадий глянул удивленно. И все же сообразил, пожал руку.
– Не тушуйся, парень, все будет абгемахт.
В начале августа завершили они вчистую подряд.
Иван битый кирпич складывал в кучу и тяготился этой, как ему казалось, ненужной уборкой. Но возразить отцу не посмел и, лишь скидав все половинки, уселся перекуривать. Когда отец окликнул, вскинулся, уцепил было совковую лопату, но Аркадий остановил, сказал:
– Все! Пошабашили… Теперь на прием к начальству.
Еськов ждал. Директор работу, сделанную Цуканом, заметил и похвалил. Поэтому и позвал Аркадия Цукана, намереваясь поднести стакан-другой, поблагодарить от имени и по поручению и попрощаться. Но Аркадий такого тона не принял. Сказал:
– Ты что же, Петрович, совсем обузился? Почетную грамоту, поди, заготовил?
Еськов сразу и не нашелся с ответом, лишь хохотнул, а про себя подумал: вот же зараза, как въелась. Заторопился наливать коньяк в бокалы, благо его на фабрике в достатке. После первой, как это обычно бывает, зависла пауза, и Цукан, чтоб ее смять, вспомнил, что первый раз попробовал коньяк в Германии в апреле сорок пятого, а его порученец, простоватый вологжанин, хватанув из кружки, закричал: «Водка отравная!»
Посмеялись, стали вспоминать те давние цены, порядки жесткие, как за час опоздания под суд отправляли. Иван сидел рядом и наворачивал сыр, колбасу с хлебом и без хлеба, особо в разговоры не вникал, но про лесоторговую базу запомнил. И как выговаривал Еськов отцу:
– Сам ты, Аркадий, виноват с той недостачей. Торговля – дело тонкое, а ты полез напролом. Вот и подставили тебя с пиломатериалами. Мне не поверил, что документы поддельные хотят всучить, поверил на слово Деменкову – этой крысе аппаратной. А я своими ушами слыхал!..
– Да знаю… – недовольно буркнул Цукан, потому что стыдился вспоминать, как обвели вокруг пальца дружки. – Деменков свидетелем проходил на суде и вместе с Рульманом, которого я от тюряги спас, грязью меня поливали. Но я все же вывернулся… Точнее, боевые заслуги помогли.
– Так ты ж говорил, что сидел?
– Да это за другое. Это в пятидесятом…
Аркадий Цукан приподнял фужер, показывая, что неплохо бы повторить, и с привычным «будь здоров!» выпил, как привык выпивать, без остатку. Помолчал, глядя вбок мимо Еськова, как бы прикидывая, стоит ли ворошить давнее.
– Затосковал я после суда, обрыдло все разом, да и надежду потерял разыскать дочь, на все запросы ответ: не значится или сведений не имеем. Поэтому, как рассчитался за недостачу, подхватился и махнул из Уфы на родину. Приехал в родную станицу, а там нищета, не приведи господь! Куда что делось? Ведь землица, что смалец… Устроился слесарем в совхозе, родственники дальние (ближних-то всех поизвели) с обжитьем помогли. Весной место приглядел, где лучше дом новый поставить. О лесе, кирпиче стал хлопотать… И вот как-то прибегает мальчишка посыльный: срочно к директору!
По грязи отшлепал я добрую версту, аж задохнулся, думал, на ферме что стряслось. Дудки! Оказывается, у директора дома водопровод потек. Перекрыл я вентиль, а он не держит, давление-то большое, водопровод только на ферме и у совхозного начальства.
– Надо, – говорю директору, – насосы отключить и запорный вентиль заменить.
Он попер на меня в мать-перемать: мозги мне пудришь, мол, курва городская! Час сроку тебе! И в спину подталкивает.
– Сам тогда делай, – отвечаю ему в сердцах.
Директора аж перекосило, привыкли они с предриком измываться хуже какой-нибудь Салтычихи.
– Стоять, такой-сякой! – орет директор. – Еще шаг, и бока обломаю.
Обернулся, а он с дрыном стоит – растопырился.
Тут мне застило. Вспомнил я бабушку, отца, брата и тридцатый год. Пошел буром на него. Директор не ожидал, вскользь только зацепил меня и за сарай метнулся. Прыткий оказался. Всего пару раз достал его этим же дрыном вдоль спины.
– И неужели обошлось?
– Куда там! Саботаж и разную антисоветчину стали мне накручивать. Но тут ша! Хватит. Я сразу уперся, что драка вышла из-за девки. Что я жениться на ней хотел, а директор давай ее домогаться и надо мной насмехался… Короче, стал лапшу вешать. И что удивительно, чем сильнее брешу, тем правдоподобнее.
– Назови! – требует следователь.
– Хоть убейте! – кричу, ворот рву у рубахи. – Не стану девку перед всеми позорить.
На суде начал бутить так же. Вдруг – шум в зале. Гляжу, а директорская жена – этакая баба-гренадер – чистит его по морде.
– Подлец! Топтун задрипанный…
Вот под смех всеобщий и присудили мне пять лет.
Еськов хохотал сипло, с подвизгом, клонясь вправо и влево, а стул под его массивной тушей скрипел и, казалось, вот-вот развалится на куски.
– А мне не до смеха позже стало, когда занарядили аж за Воркуту в Заполярье уральское. Недолго пробыл, но хватило по самые ноздри. В шахте на откате угля за год измочалили. Однажды попал я вместе с другими доходягами на рудничную агробазу навоз чистить. Рядом с молочной фермой конюшня. Как зашел туда да запахи с детства знакомые услыхал, веришь, нет – горло перехватило. Но зэк есть зэк. Не до сантиментов. Лошадям, а их там с полдюжины держали, только корм задали. Я первым делом карманы овсом набил и только жменю в рот сунул – окрик:
– Что ты делаешь?
Начальница в проеме стоит, молодая, красивая… Эх, думаю, влип! Зэка вложить – пустяк. А она говорит:
– Пошли со мной.
Привела в зимовьюшку, где у них хомуты, сбруя, обиход разный тележный. У дощатого стола посадила.
– Что ж людей сразу не покормили? – строго этак спрашивает у женщины, что здесь же крутится. – Я ведь просила каждый наряд кормить.
По всему зимовью – запах разопревшей овсянки. Баба мне из котла, что на плите стоял, тут же – полную миску варева густого и хлеба кус щедрый.
– Мать вот его, – Аркадий кивком показал на Ваню, листавшего журнал «Огонек», – можно сказать, спасла.
– Она что, тоже сидела? – вскинулся, тараща глаза, Еськов.
– Нет, она вольняжка… Муж ее первый в сорок первом пропал без вести. А после войны, сам знаешь, девок и помоложе табун. Думаю, что она поехала денег подзаработать, но в голове мысль про жениха-то держала.
Работала она там на агробазе зоотехником и, как узнала, что я из кубанских, вытребовала меня в конюхи у лагерного начальства. А тем что, лишь бы наряд писали. Мне после угольной шахты конюшня раем показалась, да и люблю я их с детства, гривастых…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































