Текст книги "Убитый, но живой"
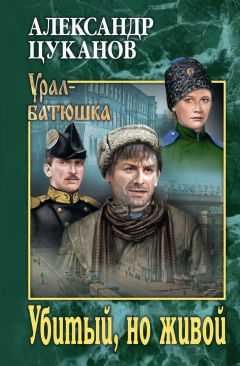
Автор книги: Александр Цуканов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Их отговаривали, их пугали мрачными историями, как пропадают навсегда здесь русские среди паутины глинобитных дувалов, но сержанты Малявин и Мукашев ушли вечером на танцплощадку, где выбрали двух подружек с коврового комбината, и с ними долго потом целовались на соседних скамейках неподалеку от кирпичной пятиэтажки. В нее девчата юркнули ровно в одиннадцать, пообещав помахать из окна.
– Все очень просто, – убеждал Малявина славный парень Мукашев, похожий на гриб-боровик. – Я почти договорился со своей. Они все из себя целок строят, а потом только давай и давай. Будь посмелей.
Мукашев стоял у торца здания и сглатывал слюну от предвкушения женской распаренной плоти, ждал, что вот-вот откроется окно, и они… А потом!.. Малявин пытался отговаривать, грозился бросить одного, а он хватал за гимнастерку: «Погоди! Погоди малость, Ванька…»
Окно все же распахнулось, но высоко, на пятом этаже.
– Лезьте, мальчики, сюда.
– Смеетесь! Разве тут можно? – обиженно крикнул Мукашев, оглядывая снова и снова отвесную стену.
– Так ниже не открыть – там решетки… А некоторые десантники лазят, – прозвучало издевательски и с такой наигранной простоватостью, что дагестанец Мукашев аж зарычал. Девицы не подозревали, на что способен голодный солдат, особенно из стройбата, приученный к бедам и тяготам, да еще предвкушая столь редкое удовольствие и возможность пусть плохонькой, но кормежки.
Хватаясь за крючья, вбитые под водосточную трубу, совершенно ненужную на жарком юге, за решетки на окнах, Мукашев напористо лез в задравшейся до лопаток гимнастерке, перегибался невероятным образом через карнизы, повисал на вытянутых руках без опоры на очередной поскрипывающей в креплениях решетке, а когда добрался до протянутых девичьих рук и напряженно-испуганных лиц, у Малявина заболел низ живота. Но остаться внизу нельзя, сверху кричал Мукашев: «Давай, Ванюша! Не дрейфь…» – словно и не было пережитого им самим страха.
Когда Малявин перевалился через подоконник на пятом этаже в промокшей от пота гимнастерке, то девушку ему не хотелось, но выдуманный сценарий нужно отрабатывать до конца. Тем более что дальше все пошло как в сказке: опрятная девичья комната на четверых, и сами девушки в легких халатиках с кое-какой едой и початой бутылкой вина, с кокетливыми улыбками и намеками, что, как только комендант сделает свой последний обход, они придут, они непременно придут.
– Надо вам только раздеться и лечь в постель, чтоб ненароком никто не застукал… Иначе нас выгонят из общежития завтра же.
Ранним утром оба проснулись как по команде. Оглядели белоснежные девичьи постели, друг друга и начали хохотать. Ох, как же они смеялись, они чуть не захлебнулись от смеха, тем паче что дверь заперта, а утренее солнце бъет по глазам.
– Представляешь? Они пришли ночью, а трахальщики-то храпят напропалую… Нет, ты представляешь?! – проговаривал и давился смехом Мукашев.
Они могли бы выломать дверь вместе с коробкой, но оказались великодушны, привязали к трубам отопления ковровую дорожку и ухнули поочередно вниз на бетонный козырек перед входом. Подкованные кирзовые сапоги громыхнули так, что вздрогнуло не только женское общежитие, но и весь древний Коканд. В них жило ощущение дикой силы, казалось, нет невозможного, можно даже взлететь над деревьями. Вот только не оказалось денег на утреннюю, испеченную в тандыре лепешку.
Но как только они получили на руки списки призывников и разбили их на взводы, их стали вытягивать за огороженный военкоматовский дворик по-одному и по двое «немножко покушать», и сержанты охотно принимали эти приглашения и беззастенчиво обещали присматривать за Ахметом или Колгатом, а пропустив по стаканчику водки под увещевания: «Пробуйте, пробуйте, это пока соседский плов на скорую руку, через двадцать минут свой поспеет», – они обещали сделать Ахмета каптерщиком или поваром. К полудню, осоловевшие от обильной еды и выпивки, они строили в каменном дворике призывников, назначали командиров отделений, заставляли их снова проверять своих, чтоб примелькались фамилии, лица, одежда.
Малявин в третий раз вез призывников, но такого никогда не видел, и только теперь смог по-настоящему оценить спайку здешних семейных кланов. Кокандская привокзальная площадь пестрела плотно утрамбованая людьми и автомобилями – казалось, весь город вышел проводить три сотни призывников: эти «июньские обсевки», годные лишь для стройбата, но не ставшие от этого менее дорогими для своих обильных родственников, которые просили их служить честно и с достоинством и ничуть не подозревали, какую страшную профанацию им уготовило Министерство обороны. Через пару месяцев, таская носилки с бетоном, прозябая на полах, собирая от голода куски со столов, они еще не раз проклянут этот солнечный жаркий день и его, Ивана Малявина, назначенного старшим в этой команде, потому что он стал самой первой грубой силой, толкавшей их в спину и грудь, чтобы составить в ряды, чтобы снова в седьмой или восьмой раз пересчитать и убедиться, что так и не хватает трех человек.
Он делал привычно все, что мог, но их было двести восемьдесят пять, а оба сержанта первого года службы вполпьяна плохо соображали и едва держались на ногах, капитан и старлей где-то хапужничали, а по громкой связи объявили, что до отправления поезда осталось двадцать минут… Вдруг сунули к лицу стакан водки, налитый всклень, и он оттолкнул машинально. Малявин даже не глянул на человека, лишь заметил руку в густо-синих наколках, сжимавшую стакан. И тут же, не успев испугаться, отбил портфелем с документами на призывников вскинутый нож, продолжая командовать:
– Второй взвод выходит на перрон! Третий на месте…
И здесь же, прямо в толпе, принялся трясти и хлопать по щекам очумевшего от жары и водки сержанта Егорова. Потом дважды срывал стоп-кран, вопя из тамбура: «Призывники двадцать первой команды! Призывники!..» Последнего, истекаюшего блевотой, подтащили к вагону на руках, и его с Мукашевым забросил в тамбур, словно мешок. А поезд, с привычным перестуком колес, убыстрял ход, а они стояли в тамбуре, выгадывая последние сладкие минуты, перед тем как вонзиться в податливую массу тел, чтобы успокаивать, мирить и наказывать, выдавать «сухпай», собирать деньги на туалетные принадлежности, потому что отберут в части все до последней копейки.
Вечером в купейном вагоне багровощекий похмельный батальонный замполит воротил голову вбок и, страха своего не скрывая, назойливо спрашивал: «Ты сам проверял?.. Все до одного? Ты уверен?..» Затем принялся разглядывать дыру в портфеле, прорванные с одного края личные карточки призывников.
– Что это?!
– Ножом на вокзале пырнули, – ответил Малявин обыденно, потому что чертовски хотел спать.
– Это что же, пытались зарезать? – вскинулся старлей – худой нескладный офицер, родственник начальника управления инженерных работ. – За стакан водки?.. Это надо же! Я знаю, они еще те скоты, откажешься выпить – обида… – Он потирал опухшее от пьянства лицо и старался быть рассудительным.
– Ты выпить принес? – невнятной скороговоркой перебил замполит, продолжая пялиться в черную муть вагонного стекла на мелькающие всполохи огоньков.
Малявин вытащил из-за пояса бутылку узбекского коньяка, хотя мог бы ответить: где ж я вам возьму? Как ответил старлею на призывном в Воронеже, когда в первый раз ездил за пополнением, а тот, смущенно пряча глаза, выдохнул: «Ты разве не знаешь?.. Собери во взводах по рублю на какую-нибудь фигню». Малявин собрал по два рубля со всех на культурные принадлежности. Тут же на призывном, в дальнем углу за трибуной, с которой бравый голосистый военком устраивал смотры отбывающих команд, сунул старлею пук измятых рублевок и трешниц – сколько в горсти поместилось.
– После… Как полечитесь, пройдитесь по нашим вагонам, а то тяжело сержантам.
Он имел право на такой тон и обхождение почти на равных после всего, что было в Коканде и в первые часы после отправки, когда три переполненных вагона с призывниками походили на цыганский табор, где пели, плакали, дрались, играли в карты, хохотали, обкурившись анашой.
– Иван, какой разговор! Ложись, ты намаялся, ты молоток. А мы с Куценко!.. – замполит аж захлебнулся и, вскочив с полки, принялся тискать его, радуясь, что все обошлось, полный порядок и на столе стоит выпивка.
– Да Иван же – прирожденный командир! Голосина чего стоит, – поддакнул Куценко, сдвигая к центру стола закуску и разливая коньяк. Он уже предвкушал, как ознобисто-жарко лягут первые сто граммов.
Позже Малявин подружится с ним и будет не раз в его полевой форме с лейтенантскими погонами ездить в Козельск, вязаться с проститутками в единственном городском ресторане «Огонек», драться и дебоширить и больше не удивляться, почему старлей так наплевательски относится к службе, которая оказалась бесконечным маскарадом взрослых мужиков, просаживающих на огромных просторах российской земли миллионы тонн бетона и металла неизвестно для чего. В чем невозможно признаться не потому, что стыдно, опасно, а потому, что так давно повелось…
Глава 17
Деньги
Малявин силился доказать, что все началось с телефонного звонка во время дежурства по цеху. Словно алкаш, ищущий спасения в очередном стакане портвейна, он пытался отыскать причину неудачи во внешних обстоятельствах. Вот если бы не заболел технолог Сапсегов, если бы поменял субботнее дежурство по цеху, как намеревался… Эти «если бы» многослойно клубились, как запахи в большой коммунальной квартире.
Пропала поездка с приятелями на турбазу, и ко всему с утра на участке мелких деталей браковалась клемма. Браковалась она весь февраль, поэтому задел кончился и участок работал прямо на сборку. В понедельник, зная коварную непредсказуемость этой латунной детали, начальник техотдела Ситников предложил подстраховаться у смежников, но на планерке его не поддержали. Начальник цеха Кипчаков буркнул:
– Нечего из-за такой ерунды шум поднимать.
И вот в субботу сход резьбы на клемме пошел густо, пришлось остановить все станки. Малявин перемерил почти сотню деталей, ему хотелось – это проще всего устранить – выявить отклонение допуска по наружному диаметру. Но нет, станочницы цепко держали размер.
Работали на токарно-винторезных станках, простых и малопроизводительных, как и пятьдесят лет назад, только женщины. Самая молодая из них, с кудряшками, выпущенными нарочито на лоб из-под голубой косынки, толкнула Ивана бедром, когда он выгребал из накопителя детали, и расхохоталась громко, пожалуй, излишне громко, и тут же, раскрепляя патрон, изогнулась с кошачьим подсадом. Сорокалетняя соседка, заезженная тяжким семейным оброком, выговорила с невольно прорвавшимся восторгом: «Ох, Верка! Только Масленицу справили, а из тебя прямо сок брызжет».
Малявин стоял и смотрел, как станочница ловко подводит правой рукой суппорт, а левой давит на кнопку «стоп», чтобы вставить новую – сотую или тысячную – деталь, почти не глядя, размышляя о чем-то своем, возможно, и о нем, Иване Малявине, но только не о латунных деталях.
Пока он смотрел со спины на Верку – женщины не существовало, лишь придаток чугуна и стали, механический привод станка ТВ-320. Но вот она вздернула руку к косынке, поправляя ее, глянула кокетливо и стала женщиной, готовой рожать не только латунные заготовки, но и детей, если, конечно, заактируют ее гражданское состояние и выдадут свидетельство на право жить с мужчиной.
– Где твой шаблон? – спросил с нарочитой грубоватостью Малявин и назвал восьмизначный номер, который хорошо помнил, как и множество других номеров режущего и мерительного инструмента, чем иной раз удивлял опытных производственников, несколько выпячивая эту памятливость. Правда, они все одно говорили: «Какой же ты, Иван, технолог?.. Вот поработаешь лет пять…»
Простодушная Вера протянула мерилку, не поднимая головы, но не потому, что опасалась брака – нет, настроив станок утром, она безошибочно угадывала, определяла сбой, когда размер начинал плыть, – она боялась расхохотаться, углядев его напускную серьезность. А ей хотелось… Такое возникало каждый раз, когда он появлялся на участке, а станочницы-подружки кричали ей: «Верка, крась губы! Ванечка вон шагает». Они ухватили, что он не ходит, а именно вышагивает журавлем по цеху.
Мысленно Верка звала его Ванечкой и знала много подробностей, о коих Малявин забыл или не придавал им значения и очень удивился бы, узнав, что она недавно высмотрела его с девушкой возле кинотеатра «Сатурн», после чего рассказывала на участке бабам, что подруга у Вани худющая, расфуфыренная, очки впол-лица, корчит образованную целку, а сама лет на пять старше. После этого женщины на участке утвердились во мнении, что Ванечка – парень симпатичный, но стеснительный, вот и ухватил постарше себя.
– Сразу видно, что она охмуряет, – говорила Верка, убеждая не столько подруг, сколько себя, потому как надеялась, что после смены, когда она подкрасится, наденет новое темно-вишневое пальто с норковым воротником, он подойдет и скажет: «Давай провожу». А она улыбнется и ответит…
– На нарезке брак сплошняком, – сказал Малявин.
– Мы тут при чем? – ответили Верка. И будь на его месте сменный мастер, подняла бы голос до крика.
– Нет, я просто так… Чтоб аккуратней.
Малявин прикрепил к техкарте разрешение на временное занижение допуска и ушел хмуровато-озабоченный, даже не оглянувшись. Ушел разыскивать мастера-наладчика. Потом отнес образцы режущего в метрологию и на химанализ, рассказал старшему диспетчеру о неполадках с клеммой. Сделал все, что можно и нужно делать в таких ситуациях, и помчался в родной техотдел. Ему представилось: если вычертить на миллиметровке деталь и режущий с многократным увеличением, сверив углы фактические с заданными по техпаспорту, то причина схода резьбы вылезет наружу, и тогда он докажет всем, что не пацан, а настоящий инженер.
Три года назад ему отвели место техника-технолога наискосок от начальника и рядом с дверью в архив-кладовку, место самое неудобное, проходное. Но позже, когда Малявин вернулся в техотдел «эм-семнадцать», то вновь уселся за этот двухтумбовый старый стол и часто оборачивался, чтобы спросить, узнать, рассказать… Какой бы важности документ ни лежал перед Ольгой Петровной, она вскидывала голову, смотрела с мягкой, едва приметной улыбкой. Он, случалось, хотел разозлить ее, задавал пустяшные вопросы, но каждый раз натыкался на эту улыбку, глаза с легкой раскосиной, как у многих русских из-за подмешанной азиатчины, с пунктиром морщинок и полукружьями от очков, которые, ей казалось, старят, и она часто снимала их, прятала в верхний ящик.
Малявин такую доброжелательность постичь не мог.
Это она, расшевелила его в тот злополучный месяц, когда он впервые пришел на завод с посверкивающим на лацкане техникумовским «поплавком», – пересидеть месяц-другой после техникума. Ольга Петровна попросила подписать эталон на новую деталь у главного технолога, а он несколько испугался, что не сможет, напутает. Пока она объясняла, как пройти и куда, он смотрел на нее, и совсем неожиданно возникла странная мысль, как хорошо бы иметь старшую сестру именно такую – с миловидной строгостью в лице и доброй, чуть виноватой улыбкой.
– Ладно, я схожу, – согласился Ваня, не подозревая, что Ольга Петровна решила отправить его в дирекцию, к командирам производства, сидящим в больших светлых кабинетах, за большими полированными столами, дабы он проникся важностью дел, которые выполняют рядовые технологи.
Затем она втянула Ваню в разработку технологических карт для фланца – детали простенькой, с обработкой в пять операций, но Ваня этого не знал и решил, что действительно нужна его помощь.
В один из октябрьских ненастных дней Малявин помогал Ольге Петровне разбирать и упорядочивать техотдельский архив. В такие промозглые осенние дни человеку всегда тревожно от въевшихся суеверных привычек, а ко всему отопительный сезон и для Крайнего Севера и юга назначается в один день по распоряжению главы государства. Возможно, от недостатка тепла повсюду и во всем Ваня разоткровенничался, вспомнил про отца, как он вернулся однажды с Атлантики.
– Пришел отец в черном костюме, на голове – капитанка с латунным крабом, в руках – сверток и большущая сумка. Бумагу развернули – огромная хрустальная ваза, мама так и ахнула: «Красивая какая!» И с ней туда-сюда, а поставить-то некуда. «Да и зачем?» – спрашиваем. А отец отвечает этак с гонором, что теперь начнем жить по-новому, и начал из сумки деньги на стол выкладывать: «Я вас этой капустой завалю». Так он деньги называл, когда рыбаком на сейнере вкалывал. Сунул мне двадцать пять рублей: «Беги, Ванька, купи себе мороженого…»
– А что же дальше? – возник излишне вежливый вопрос после затянувшейся паузы.
– Да ничего, прогулял за пару месяцев. Правда, четвертная осталась. Я ее в сарае спрятал. Мама потом десять рублей добавила и купила мне подростковый велосипед. А вазу отец разбил сам или кто-то из приятелей, когда пиво из нее хлебали…
Ваня сморщился, сожалея, что рассказ не вышел веселым, как того хотелось. Отец постоянно уезжал на заработки, снова приезжал, случалось, больной и без денег, и каждый раз Анна Малявина говорила, что на этом крест, больше ноги его в доме не будет…
Сколько-то работали молча, сортируя папки, и тишина эта их не тяготила, возможно, оттого и прозвучало так неожиданно:
– А когда я жила в детдоме, к нам однажды приехали военные…
– Ты, Ольга Петровна, в детдоме? – перебил удивленным возгласом Малявин. – Может, в интернате?
– Да нет же!.. – начала было Лунина, но вошел технолог Сапсегов, спросил документацию на автолинию «Гильза».
К этому разговору они больше не возвращались. Малявин не принял откровенность Ольги Петровны, одетой всегда добротно и модно, знающей прилично английский и немецкий языки, почему и специализировалась она на работе с шеф-монтажниками, доводившими до кондиции то одну, то другую автоматическую линию, – это ломало образ красивой удачливой женщины, который выдумал он сам. И те блескучие, с мудреными защелками и яркими наклейками папки на ее столе, выделяли, приподнимали ее над серой скукой цеховой обязаловки, как это представлялось в ту пору Ивану Малявину.
Вскоре расставался он с заводом без грусти и сожаления. Торопливо обходил с бегунком разные службы, показывал повестку, дурашливо посмеивался: «Во-о, загребают служить». Получив деньги, заторопился к проходной, пребывая мысленно там, в Холопове, на своих пьяных проводах. Вдруг навстречу, прямой, как штырь, технолог Лямкин.
– Что, Иван Аркадьевич, расчет получил и к нам не зайдешь? – Он не спрашивал, он угадал это и говорил в своей привычной насмешливой манере, как о давно решенном.
– Почему же нет? Только схожу в комитет комсомола… И буду, – соврал Малявин, стараясь убедить старика технолога и себя заодно, что собирается зайти попрощаться.
В техотделе его ждали, посматривали весело, с нарочитой бодростью, потому что недавно страна втихую пересчитала и схоронила убитых на китайской границе, да и всегда гуляло меж матерей судорожное: «Знакомую будто кто шилом ткнул, пошла она в военкомат, потому что писем давно нет, а в прихожке – три цинковых гроба стоят, на одном фамилия и инициалы сына!..»
В узком пенальчике, предназначенном для техдокументации, а также используемом для распития чая, изредка водки, булькал электросамовар, подаренный в годовщину Октября заводским профкомом, стояли тарелки с печеньем, конфетами. Ситников с напускной грубоватостью начал напутственное слово:
– Ты, Иван, пока не технолог, дури в тебе много, но хватка есть, работать умеешь, это главное. Так что возвращайся после службы, мы из тебя настоящего инженера-технолога сделаем. Правильно я говорю? – вскинулся он за поддержкой к стоявшим и сидевшим техотдельцам.
Малявин тогда не оценил простенькую похвалу, одобрительный говор технологов старых и молодых и то, как стиснул, обхватил руками на прощанье молчаливо-угрюмый Сапсегов, пятидесятилетний инженер, лишенный честолюбия, не раз отвергавший предложения стать хоть и мелким, но все же начальником. Он принял это за должное, как и пирожные, купленные Ольгой Петровной. Через год, возможно, и позже, он вдруг вспомнит те короткие проводы, чайный стол и то, что приволок с расчета для приятелей десять бутылок вина, а купить простенький торт в техотдел недостало ума. Как и вернуться после солдатской службы в цех «эм-семнадцать».
Оглядываясь назад, Иван Малявин видел отчетливо сплошную глупость и удивлялся искренне, почему годичной давности поступки, ему теперь казалось, творил не он, а какой-то наивный пацан, почему и негодовал, и думал, что нынче все сделал бы по-другому. Но тут же возникало незатейливое: «А как? И неужели ранее прожитое будет казаться глупым, корявым и во многом постыдным? Как и сама жизнь?»
В огромном кабинете, похожем на общественную приемную с чертовой дюжиной столов, Малявин впервые трудился так старательно в полном одиночестве, отягощенный придуманной пользой своего дела, когда от него зависел месячный план производства малых двигателей, зарплата нескольких тысяч человек и той же станочницы Верки, о чем она не подозревает. Он не знал, зачем ему нужны десятикратно увеличенные углы клеммы и режущего инструмента, он лишь интуитивно угадывал, что причина неполадки вот-вот обнаружится и сделает это не Ситников или Кипчаков, а он – рядовой технолог Иван Малявин.
Телефон на столе начальника вызванивал требовательно, настойчиво.
– Техотдел «эм-семнадцать», – ответил он машинально, продолжая высчитывать сопряжение.
– Иван Аркадьевич?.. С вами желает встретиться заместитель генерального директора Бойченко.
Малявин на миг замер и, слыша недовольные алеканья секретаря, соображал привычно: за что?
– Да, буду в приемной к двенадцати, – подтвердил он слегка охрипшим голосом.
Когда Малявин вошел в стеклянную будку начсмены, там стоял запыхавшийся диспетчер – улыбчивый толстый мужчина, ставший даже для салаг-практикантов просто Сашей. Сидели на лавке мастера с разных участков. Двое вошли вслед за Малявиным и тоже вопросительно уставились на Кушакова.
– У вас там никого не прибило? – спросил он вошедших, как спрашивал других мастеров перед этим. – На сборке порядок, клемма пока имеется. Ума не приложу, – как бы пожаловался Кушаков, обводя взглядом народ. – Бойченко? Это здоровяк, что ль, такой, с густой шевелюрой?..
– Ага. Иногда селекторные совещания проводит. Как обложит, бывает, аж уши опадают, – пояснил диспетчер Саша и показал, как опадают уши.
Начсмены внимательно оглядел Малявина, словно хотел найти изъян или что-то, что могло не понравиться большому начальству, и это не вязалось с его стойкой веселостью. Встречаясь на участке, он обычно подмигивал свойски, хлопал по спине, спрашивал: «Как, Ваня, жизнь? Станочницы не обижают? А то меня вишь, как затискали?» И с хохотом потирал свою идеально лысую голову.
В левом крыле огромного административного корпуса Малявин оказался впервые и сразу проникся чиновной атмосферой, тщательно взлелеянной ретивыми завхозами. Деревянные панели вдоль стен, ковровые дорожки и двери, обитые кожей с ее неистребимым стойким запахом, устоявшаяся тишина в коридоре, приемной, когда не то чтобы закуривать, а даже доставать пятнадцатикопеечную «Приму» неловко, пока тянется это «ждите», небрежно вбитое неподкупным для таких, как Малявин, секретарем.
– Отлаженные станки вы привезли из Харькова… – Бойченко глянул в бумажку, – Иван Аркадьевич?
– Я привез, – ответил Малявин звонко и нерасчетливо широко улыбнулся, ухватив, что его не будут ругать. Напротив, в этом удивлении, расспросах таилось что-то занятное, интригующее до озноба.
Бойченко все не мог отрешиться от прилипшего слова «малолетка» и принять, что это – тот самый Малявин, про которого так занятно рассказывал главный технолог, а позже подтвердил начальник цеха Кипчаков, прозванный заглазно Кипятком. Ему представлялся технолог лет тридцати, а тут мальчишка худенький, розовощекий. «Хоть бы усы отрастил», – подумал он и чуть не расхохотался, представив себе, как смотрелись бы на этом детском личике густые черные усы.
– Про автолинию «Стартер» знаешь не хуже меня. Проморгали компрессорные установки, не чухнулись вовремя, когда главк распределил их на четвертый квартал. А вот он, график, вот подпись министра! – Бойченко чиркнул ногтем по белоснежной бумаге и, вознося голос до рокота, спросил грозно: – Как же пускать автолинию в июле? Что выдадим сборщикам? Что?!
Малявин голову опустил, словно виноват и в этом. Он с декабря вел автоматическую линию «Стартер», ездил в Москву за шеф-монтажным инструментом и всюду влезал с разговорами о немецкой дотошности, как они приспособились обжимать сырой металл вместо проточки под нужный диаметр, а уж потом закаливать. «А мы!..» – начинал он, и этот возглас подхватывали остальные, чтобы устроить словесный стриптиз, препарируя отечественную промышленность и саму действительность. Западногерманскую автолинию Малявин знал, как никто другой… Знал, что на днях вернулся инженер из отдела главного механика, но толком ничего не пояснил, бросил в сердцах: «Пустая затея! Плевали армяне на наши просьбы и ходатайства».
В кабинет вошел рослый мужчина с грубоватым морщинистым лицом.
Он остановился возле вереницы столов для заседаний и цепко, как бы оценивающе, оглядел обоих. Малявин видел его впервые, но дзенькнуло: властный взгляд, звезда Героя Соцтруда, седой волнистый зачес от лба к затылку – именно таким представлял генерального директора, имевшего не только огромную власть над тысячами рабочих и инженеров, но и персональный самолет, что более всего будоражило воображение.
Вишняков вяло тронул протянутую Бойченко ладошку, сел в кресло, стоявшее отдельно, и, похоже, удовлетворенный их замешательством, произнес:
– Продолжайте, продолжайте…
– Так вот, как я уже говорил, – забасил Бойченко, – обойди всех с нашим ходатайством. Потолкайся среди производственников, в отделе снабжения. Ищи ход, ищи лазейку. И обязан найти! Командировочных получишь вдвое больше обычного – это все в дело. Хоть коньяком пои, хоть как, но компрессора нужны нам в апреле. И если…
– Правильно! – перебил его Вишняков, и они повернулись к нему, оба с изменившимися лицами, изображая почтительное внимание. – В таком деле нужна настойчивость и еще раз настойчивость. Задача у тебя, товарищ технолог, ответственная, денег надо будет, еще через… профком или как-то выпишем. Трудно?.. Да, очень непросто. Но ты проникнись, постарайся, – сказал Вишняков вдруг обыденно, просто, отчего Малявин впал в умиленно-восторженное состояние.
– Да я!.. Честное слово, пробьюсь, – вскрикнул он этаким петушком, готовый под танк броситься ради компрессорных установок.
Бойченко уловил эту Иванову восторженность, выпяченная вперед нижняя губа придала лицу выражение усталой озабоченности, удивления – казалось, он сейчас причмокнет, облизнет губу, скажет: «Ну и дела!»
Малявин осторожно затворил дверь, постоял в проходе, как бы приходя в себя. Звоночка-сигнала не услышал, лишь увидел, как встрепенулась женщина-секретарь: поправила оборки-рюшечки батистовой кофточки, похожей на слоеное пирожное с розовым кремом, огладила черную юбку и проскользнула в кабинет привычно, не взглянув на него.
Иван не мог слышать, но если б ему рассказали, не поверил, что генеральный директор поднялся и сказал:
– Дожились! Ты веришь, будто этот мальчишка выбьет у армян компрессоры?.. Ага, не веришь, а посылаешь!
Вишняков распалял себя этими вопросами, и Бойченко знал, что произойдет дальше. Страшили не матерщина и язвительные выпады, а форма самого разноса, когда логика, разумные объяснения и стихийные бедствия не принимаются в расчет, остается лишь одно генеральское: «Я же приказал!..» Поэтому поторопился нажать кнопку звонка и, глядя женщине прямо в лоб, попросил:
– Людмила Сергеевна, сделай нам по паре бутербродов да лимон порежь.
– Хитришь, Петр Матвеевич, хитришь… Я все равно с тебя не слезу… – ругнулся Вишняков, но без ярости, а больше по привычке. – Курганский завод с января на реконструкции. Задел кончится в июне – июле, и шабаш. Ни один завод в стране не выпускает таких корпусов к стартеру. Два месяца до пуска… Да пошел ты… со своим коньяком! – Вишняков брезгливо, по-бульдожьи растянул губы, обнажив верхнюю десну, и решительно отодвинул рюмку.
– Суббота же сегодня. С устатку…
– Да пей, раз уж налил, – разрешил он, как и положено отцу-командиру, понимающему человеческие слабости. – И скажи, когда в Москве был, ты узнал, кто конкретно распределял компрессоры?
– Подписал заместитель Реброва Вольский, у которого рихтовались заявки, и он валит все на распоряжение Совета Министров. Но слух прошел, что начальник главка Ребров дал устное распоряжение.
– Но это же несерьезно, я что, министру буду пересказывать слухи? – снова стал нажимать голосом Вишняков. – Короче, месяц тебе сроку. Сам езжай хоть в Ереван, хоть в Америку, но чтоб компрессоры к маю были… А с Ребровым я на коллегии посчитаюсь. Выискался вшивый заговорщик!
Знали начальника главка они оба, но знали по-разному. Поэтому, глядя в спину генералу, Бойченко прикинул: «А ведь свалит Ребров тебя, Николай Николаевич». Сам он участия в этой грызне-возне не принимал… Да и ставок на него не было, хотя он ощущал в себе силу и умение тащить объединение получше Вишнякова. В то же время Бойченко грамотно оценивал расклад сил. Ребров (поговаривали о его родственнике в секретариате ЦК) казался человеком слабым и глуповатым, костюмы носил мышиного цвета, похожие на милицейскую форму, но власть возымел в министерстве большую, опутав, как паутиной, норовистых директоров недопоставками, тяжкими невыгодными заказами, урезкой лимитов, и почти все подчинились, двинулись на поклон с подарками, умильно сияя улыбками. А Вишняков не пошел, продолжая верить в свои старые связи, свою славу великого производственника, сумевшего первым в стране поставить на поток, на конвейер авиационные двигатели. Лет десять – пятнадцать назад в министерских приемных раздавалось восторженное перешептывание: «Да, это тот Вишняков, которому Сталин вручил орден, когда Берия его приговорил к расстрелу…» Ныне мало кто помнил ту историю, ставшую легендой, что Сталин, вручая орден, не знал о приговоре суда. Сам же Бойченко не верил в эту сказочку и не понимал, как они, эти старые производственники, начинавшие еще до войны, могли оставаться столь наивны, недальновидны… Они не видели, что стиль жизни изменился, теперь важен не результат, инициатива и прочее. Теперь лишь нужно понять, чего хочет начальство, а затем умело создать красивую сказку – «ледяной дом», чтоб власть имущие, а вместе с ними и народ, ахнули, завизжали от восторга, не подозревая, что, как только выглянет солнце весеннее, этот дом растает. Подобное не должно беспокоить заматерелого руководителя, он должен быть циничен, как проститутка, которая каждый день говорит про любовь, иной раз имитирует ее, но в душе презирает клиента, и она будет хохотать до истерики, если кто-то вздумает ее жалеть, наставлять на путь истинный.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































