Текст книги "Убитый, но живой"
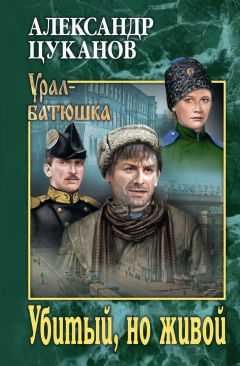
Автор книги: Александр Цуканов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Глава 31
Ереван
Быт тюремный суров, но во многом рационален и прост. Это Малявин уяснил в камере под номером двадцать, где оказался единственным русским человеком среди полутора десятков армян, и ждал в любую минуту подвоха, обиды, тычка в спину. Ему напористо говорили на армянском с рокочущим «эр».
– Я не понимаю… Нет, не понимаю! – повторял снова и снова, вращая головой.
– Что, совсем не понимаешь?
На лицах удивление, недоумение – и заново между собой на армянском. Потом неожиданно, словно бы вспомнив о нем:
– Постель будет твой тут. Клади сумка. Меня зовут Заза. Это мой камер… – Говоривший осекся, ему не хватило запаса русских слов, и он обратился к стоявшим рядом сокамерникам на родном языке. – Вот Резван. Он тебя учит.
Заза рассмеялся непонятно чему и снова перешел на армянский. Малявин столбом стоял в проходе меж шконок и ждал. Даже привычное «за что?» звучало здесь как-то иначе. И снова – вопрос на русском, а между собой – на армянском, а он вслушивался напряженно дурак дураком, не понимая, о чем они гыргычут и зычут.
Резван подозвал к унитазу, вделанному наглухо в бетон.
– Ходить сюда днем нельзя.
– А когда можно? – ахнул Малявин удивленно.
– После ужина и до завтрак.
– Так я с этапа. Мне нужно сейчас.
– Нельзя. Терпи, – сказал Резван и внимательно посмотрел. Нехорошо посмотрел, как ему показалось. Стал объяснять, что запрещено днем валяться на шконке и как нужно дежурить по камере, а Малявин слушал плохо, потому что невыносимо хотелось по малой нужде. Он прикидывал, что до ужина еще часа четыре, а подобного издевательства не встречалось ни в одной пересылке.
После унизительных объяснений Заза разрешил справить нужду перед ужином, но за это обязал вылить сто шлюмок воды в унитаз.
Малявин был первый, кто нарушил установленный порядок, что он понял много позже, как и оправданно жесткий рационализм этих правил.
После многомесячной чехарды лиц, тюрем, постоянной настороженности ему хотелось отстраниться, спрятаться в скорлупе собственных переживаний, а его втягивали в общекамерные игры, которые уже знал. Вязались с приколами или доставали своим: «Рассказывай, Ванька, что-нибудь!» Просили спеть песню, а он отказывался.
– Спой! – требовал старший в камере не по возрасту, а по статье и сроку, парень лет двадцати пяти по кличке Заза. И запел Иван, деваться некуда. Обычно это происходило поздно вечером. Репертуар состоял из полдюжины песен, которые пел он, фальшивя и путая слова, но сокамерники слушали и не перебивали.
В прогулочном дворике Малявин жался к стене, а его выталкивали на середину, заставляли с кем-нибудь бегать наперегонки, прыгать на одной ноге от стены до стены под дружный хохот остальных или играть вместе со всеми в «козла», за что он на них обижался. Но, оказалось, напрасно.
Помимо тюремной снулости и хандры, для подследственных страшнее всего самоедство с наипервейшим: «Сколько дадут?.. Как будет в суде?»
На третьи или четвертые сутки сдернули с верхней шконки среди ночи. Завели в «мертвое» пространство слева от двери. И сразу вбили гвоздь по самую шляпку, что приятель попал в карцер и ему срочно нужно помочь. Для чего нужно срочно вскрыть вену на руке.
Внимательный взгляд антрацитовых глаз. Пауза. Объяснили: когда потечет кровь, нужно бить в дверь и вызывать дубаков, а те перевяжут и в порядке наказания опустят в карцер. Вот тогда можно будет передать их подельнику записку и деньги… Примерно так Малявину объяснили.
– Ти понял? Будет больно, очень больно! Бритва тупой, бритва новой нет…
Заза приблизил к глазам половинку лезвия. Снова взгляд в упор. Двое подручных крепко, даже излишне крепко держат руку.
– Бритва тупой, но что, брат, делать?
– Режь… Если так надо.
Чутьем обостренным он уловил фальшь, страшили лишь расширенные, как от новокаина, зрачки Зазы. «Такой чиркнет…» И точно. С широким замахом он полоснул по венам. Но кровь не брызнула. Лишь царапина на коже.
Заза расхохотался и снисходительно похлопал по плечу. Малявин понял, что чиркнул ногтем или тупым концом бритвы, но не помыслил укорять, показывать свою обиду. С кривой улыбкой на лице влез на шконку, накрылся с головой тонким байковым одеялом, презирая себя за кисловатый запах испарины и подмокшую на спине рубашку.
Дни в камере отвратительно похожи один на другой, поэтому заключенные рады любой новизне, даже предстоящему шмону, который на днях произойдет, по уверениям Зазы. Он проверял вещи и командовал, что выбросить, что оставить и куда перепрятать иголку с нитками, лезвия, деньги и самое потаенное, ведомое только ему с подручными, потому что в двадцатой был полный общак.
В первые дни Малявину, как и всем, выделяли перед завтраком пяток сигарет, кусок кисло-соленого сыра. Вскоре норму сократили до трех сигарет, а когда они кончились вовсе, то купили у надзирателей, но уже выдавали не всем.
Но и плохой общак лучше любой самостийности. Когда корпусной во время вечернего обхода объявил Малявину о судебном разбирательстве, в камере к этому отнеслись с пониманием: выделили бритву и кусок мыла, предложили пиджак вместо засалившегося и затертого до дыр бушлата, чтоб выглядеть поприличней.
– На жалость не жми, у нас такое не любят, – наставлял один из старожилов «двадцатки».
– И не вздумай спорить с судьей, особенно с бабой, – подсказывал другой, словно не раз находился на скамье подсудимых.
Их живое участие Малявина обогрело, потому что после ночной пытки он ходил слегка обмороженный.
Выдернули его сразу после завтрака без вещей.
Народный суд помещался в одноэтажном особняке, выкрашенном желтой краской. Завели в маленький зальчик с обязательными решетками на окнах и оставили одного в гулкой тишине. Он сидел на скамье подсудимых и заново прокручивал в голове речь, хотя ему не один раз говорили: «Какой там суд! Там все загодя решено». Но Малявин не верил им. Верил в жгучие слова, которые непременно нужно сказать:
– Да, я вез тюльпаны. Но это были не мои цветы, что вы понимаете, как и следователь транспортной милиции, который уговорил взять вину на себя, подписать протокол, будто я хотел получить прибыль. Но разве можно держать человека в тюрьме и судить за хотение, какое-то желание? Вот вы, товарищ судья, возможно, хотите жить в Америке, и, если применить к вам серьезное воздействие, то сознаетесь в этом… А ваш заседатель, может быть, хочет иметь миллион рублей и значит, совершит попытку добыть этот миллион. Так давайте и его на скамью подсудимых по статье грабеж через пятнадцать «прим».
Давайте сажать каждого за хотение жить лучше, чем он живет сейчас.
Я твердо вам заявляю, что ни в чем перед законом и страной не виноват и готов это подтвердить где угодно.
Он прокрутил все голосовые модуляции, расставил мысленно запятые и паузы…
Судья попросила присутствующих – их было человек десять – встать и начала судебное разбирательство. Первым делом она задала несколько обязательных анкетных вопросов и настойчиво переспросила раз и другой:
– Вы совсем не понимаете по-армянски? Вам требуется переводчик?
Малявин обескураженно молчал, он только теперь понял, что суд пойдет на чужом языке.
– Так нужен переводчик или нет? – переспросила женщина-судья, не пытаясь скрыть своего недовольства.
Он торопливо выдохнул:
– Да!
Судья тут же объявила перерыв и стала выговаривать секретарю строго, решительно что-то про судейскую процедуру и переводчика, как ему показалось.
Заседание продолжили минут через двадцать. Первым делом судья опросила женщину в затертом пальто и суконных ботах: понимает ли она по-армянски и готова ли переводить на русский язык? Поинтересовалась, не возражает ли Малявин, и затараторила на армянском с привычными горловыми раскатами.
От женщины припахивало портвейном и коммунальной кухней. Поначалу она пыталась переводить дословно, но фразы становились все запутаннее, бессвязнее, и она, похоже, отчаялась соблюсти точность, стала передавать лишь смысл.
– Адвокат согласился с обвинительным заключением. Отводов у него нет…
Малявин одобрительно кивнул, пусть и не понял, о каких отводах речь.
– Прокурор говорит о вреде спекуляции… Прокурор, гад такой, спорит с адвокатом и просит тебе два года лишения свободы. Говорит, что ты скрывался от суда…
Он съежился на скамье и больше не перебивал ее вопросами.
– Адвокат просит условную меру наказания… Спрашивает про свидетелей… Ему поясняют, что разбирательство назначается в пятый раз и кто-то заболел, но я не поняла кто.
Под эти нескладные объяснения досидел Малявин до перерыва.
Обвинительное заключение судья зачитала на русском языке. Маляина признали виновным по статье 15—155 УК Армянской ССР и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима…
Ноги у него стали ватными.
Но, учитывая чистосердечное признание подсудимого, первичность совершенного преступления, тут же переквалифицировали меру наказания на условную с обязательным привлечением к труду на одной из строек народного хозяйства согласно сорок четвертой статье Уголовного кодекса.
– «Химия», – прошептал кто-то в зале.
– За что?! Я совсем не виноват!.. Мне ведь…
– Это вы можете изложить в своей апелляции, – перебила эти выкрики судья, – и подать ее через адвоката. Вас тогда подержат в тюрьме до окончательного утверждения приговора.
Говорила она с незначительным акцентом твердо и бесстрастно, но взгляд ее пламенел, а углы губ выражали презрение из-за того, что он не оценил и не принял ее доброты, хотя Малявину объясняли, что она очень строга, что иным за подобное присуждает два года «зоны».
– А как же последнее слово?..
– Вы хотели бы произнести его через переводчика?
Нет, этого он не хотел. Судья тут же собрала со стола бумажки в бордовую папку и горделиво двинулась по проходу. Черные, тщательно уложенные волосы, сиреневое шерстяное платье, подчеркивающее прелесть ее спелой фигуры, лакированные туфли на каблуке – и ни тени сомнения на породистом, словно бы отутюженном, без единой морщинки лице.
– Но я же не виноват! – выдохнул он обреченно ей в спину.
Конвоир взялся объяснять, что «химия» – это почти свобода, а переводчица пошла получить у секретаря свои шесть рублей двадцать копеек.
В судейском предбаннике два молодых парня в окружении многочисленных родственников дожидались своей очереди. Загудели одобрительно, узнав про «химию», угостили курицей, щедро отломили хлеба.
Курица оказалось необычайно вкусной, и Малявин пожалел, что она так быстро кончилась, а вот оставшийся хлеб сунуть было некуда, он пристроил его на подоконнике и, почти успокоенный, стал ждать автозак. Пришла женщина, которая пыталась переводить в суде, и ее, видимо, это слегка тяготило, почему она взялась вновь успокаивать, сунула в руки четыре пачки «Примы», что было совсем неожиданно.
– Я ведь знаю, как там с куревом туго, – сказала она и пояснила, что изредка подрабатывает в суде, потому что живет рядом. – Вон в том общежитии барачного типа, – стала она показывать зачем-то через окно. Если оставят на «химии» здесь, то заходи в гости, – сказала она и рассмеялась, понимая мизерность такого шанса.
Когда Малявина повел милиционер к автозаку, то куски курицы вперемешку с хлебом лежали прямо на столе, и он приостановился на миг…
«Двадцатая» встретила одобрительным: «Повезло!»
Малявин вернул пиджак, напялил бушлат и подхватил наволочку с пришитой лямкой и жирно-лиловым штампом «АлданГОК». Заза, задавая тон, пожал руку с глумливой ухмылкой:
– Вано, братан! Обида не держи…
Отдал ему две пачки «Примы». А он – огрызок карандаша и три белоснежных стандартных листа бумаги, которыми очень дорожили в камере, и объяснили, что нужно написать заявление с просьбой отправить на «химию» по месту прописки, потому что старенькая больная мама. С каждым Малявин попрощался легко и сердечно и даже на Зазу теперь обиды не держал, понимал, что он не мог по-другому, не умел…
Малявин еще не знал, но подозревал, что у тюрем имеются свои, отшлифованные за столетия правила игры, которые могут быть злы, отвратны на первый взгляд и нелогичны, но это правила, которые надлежит соблюдать.
В новой большой камере человек на сорок, куда его сунули ждать окончательного утверждения приговора, не существовало ярко выраженных верховодов, не было общака; каждый жил ожиданием скорейшей отправки, пусть даже на зону, но только бы не в тюрьме с ее промозглой серой тягостностью, смрадным толчком, шмонами, обязательными прогулками в каменном боксе с решеткой над головой.
В январе в Ереване выпал снег, и Малявин отчаянно мерз на прогулках в своей летне-осенней форме. Особенно сильно мерзли ноги в туфлях на босу ногу, потому что носки давно сопрели. Но не роптал. Он уже смирился с приговором и надеялся, что хуже не будет, ведь ему много раз объясняли, что такое «химия».
Носки он сшил себе из рукавов от цветастой рубашки, а резинки, чтоб не сползали, приделал от старых трусов, не подозревая, что ему придется щеголять в них и драном бушлате в миллионном чужом городе, делая пробежки от спецкомендатуры до заводских проходных в холодную февральскую пору.
В этом волжском городе Малявину выделили койко-место в общежитии на третьем этаже, в третьем отряде Бодской спецкомендатуры, и обязали ходить на работу в чугунолитейный цех. А цех этот, построенный в спешном порядке в начале тридцатых годов, напоминал четвертый круг дантовского ада, но не на картинке, показанной когда-то бабушкой, а в натуральную величину. Здесь ему выдали пару брезентовых рукавиц, совковую лопату и определили рабочее место в продувном холодном корпусе на подчистке песка из вагонов. И никого в миллионом городе и на этом славном орденоносном заводе не интересовало, что у него нет ни копейки денег, нет носков, шапки и прочего, что необходимо любому нормальному человеку. Впрочем, здесь таковым он не был. Он был «химиком», почти что преступником, поэтому мог унизить окриком любой цеховой начальник, завод – месячной зарплатой в семьдесят шесть рублей, а симпатичная ладненькая крановщица – презрительным «привет, химик».
Его провоцировали, доставали в цеху и общаге, в комнате на четверых человек, когда врывались с бутылкой водки и тянули свое: «Брось ты вы-вы-ся, жахни стакан!»
В один из ветреных февральских дней вызвал командир отряда – простодушный капитан милиции.
– Малявин, почему нарушаешь режим? В зону хочешь, трам-па-ра-ра? Почему не было вчера на проверке?
– Работал во вторую.
– Не трам-пара-ри! – выдал капитан очередную матерную тираду. – Меня не проведешь!
Иван вспылил, сказал все, что хотел и как хотел, вместо того чтобы попросить паспорт и сходить за первым денежным переводом, который сподобилась отправить сюда маменька. Его трясло от бешенства, когда вышел в коридор, ему повезло, что никто не встал на пути.
Малявин лежал на койке в прокуренной комнате, голодный и злой, и думал, что нет шансов, что он безвольный и слабый человек и не выдержит здесь даже полгода…
Глава 32
Про любовь
Они встретились, как чужие. Они пристально всматривались, подмечая бегло те перемены, которые произошли за три года. И удивительно, если бы не произошли, почему и стало Ване обидно, когда Лиза сказала, как говорили почти все: «Ты совсем не переменился». А он знал, что изменился, да еще как! Тут не имело значения, хуже или лучше он стал, это было иное состояние человека, схожее с таинственной изменчивостью природы, c майским снегом, обсыпавшим сады… О чем говорить, конечно же, не следовало, когда все так шатко и непредсказуемо.
Они шли по Затонской неизвестно куда и зачем, с единственной целью отойти подальше от стандартной пятиэтажки, где Лиза жила с матерью в стандартной двухкомнатной квартире с окнами на шумный проспект, где, как он узнал из телефонного разговора, живется ей мутновато. Еще он знал, что подполковник Емелин так и не выправился после второго инфаркта, и его похоронили в Уфе, на новом кладбище возле химзавода, где идут кислотные дожди.
– Почему не позвонил тогда… в июне? – спросила Лиза и даже нахмурила брови, сделала вид, что это очень важно и ее по сей день гложет обида.
Малявин приостановился, процеживая через себя это неожиданное «почему?». Но ничего не ответил. Ему не хотелось оправдываться и наскакивать на очередные «почему?», – которые неизбежно возникли бы, скажи он, что дважды пытался ей дозвониться из небольшого совхоза, затерявшегося на тысячекилометровых пространствах казахстанских степей. Из Алдана звонить не получалось то из-за разности часовых поясов, то из-за оглашенной работы по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, когда сил остается только доползти до полки в вагончике. После суда звонить несуразно, а главное, что тогда можно было сказать или пообещать? Что?..
– Столько лет прошло… – несколько невпопад пробормотал он. – Ты когда заканчиваешь учебу?
– Последний год! – ответила Лиза строго, с горделивой значительностью. – А ты как?
– А я поступил в авиационный, но теперь на дневное отделение.
– Что, заново?
– Ага, я ведь не успел тогда сдать сессию за первый курс, уехал на шабашку в Казахстан.
Ему все одно приходилось оправдываться, как бы он того не хотел, и та недавняя радость и ощущение, что на дневном он будет учиться в полный рост, без послаблений, разом померкла.
Она смотрела с удивлением и одновременно сожалением, как смотрят старшие сестры на младших.
Кафе-мороженое, возникшее попутно, рядом с кинотеатром «Луч», показалось ему единственным спасением от унылых пауз, которые нечем заполнить, и тягостных бесконечных вопросов, на которые ему отвечать не хотелось, равно как и объяснять про судимость, а тем паче – как пришлось откупаться у отрядного, чтобы поехать в Москву в законный отпуск, не отбыв до конца свой «химический» срок.
Московское кафе с крикливой общепитовской претензией на красоту угнетало длинной скороговоркой столов, застеленных скользким полиэтиленом, угрюмоватой ленивостью официанток и совсем не походило на кафе «Урал» с настоящими мраморными колоннами, высоченным потолком, где порхали лепные амуры, и с тем праздником, который жил тогда в них и который, как представлялось Малявину, может возникнуть вновь. Вот только разговор не заладился, а наигранно-бодрые: «Помнишь, как мы тогда в Холопове?» – не могли рассмешить. Шампанское же показалось теплым и не в меру кислым, а большая шоколадка – каменно-жесткой.
В какой-то момент скованность исчезла, Малявин взялся рассказывать про алданский прииск, золотопромывку, как отыскал среди разного металлического хламья тайник…
– А там – бутылка с золотом! Представляешь, в ней – целый пуд золота? Шестнадцать килограмм!
– Я где-то читала про такое? Кажется, в журнале «Вокруг света»… – Лиза этой фразой как бы давала понять, что уже не та семнадцатилетняя девушка, которой можно рассказывать всякие небылицы. Она сама могла бы теперь много чего рассказать не только смешного, но и трагичного. Как чуть не выскочила замуж, после чего страшно рассорилась с матерью. Как несколько месяцев жила в общежитии у подруги.
– У нас в универе такие потрясные дискотеки проводились! А минувшим летом мы с подругой ездили в Болгарию, в молодежный лагерь. Ты не представляешь, что это такое!
Она осеклась, во-первых, потому, что решила быть строгой и отчужденной, а еще потому, что вдруг вспомнила, как плакала в поезде на обратном пути домой и не могла успокоиться из-за того, что ее так примитивно обманул доцент с кафедры общественных наук. Он клялся в любви, и ей стало казаться, будто всерьез влюблена, ведь все начиналось так романтично: теплое море, шелест волн, а рядом он – сильный, ироничный и такой умный, что стыдно слегка за свою простоту, к тому же на него заглядывались многие однокурсницы и окружали после лекции, теребили вопросами, а он отвечал уверенно, позволял себе резкие выпады против существующего строя под их восторженное: «Как вы не боитесь говорить такое!..»
Лиза была рядом и одновременно далеко. Ване не удавалось пробиться сквозь наслоения последних лет. А главное, он комплексовал, тяготился тем, что не может ей – москвичке – предложить что-то существенное и настоящее, кроме переезда в Уфу, где имеется дом без удобств, где из каждого угла проглядывает беспросветная нищета. У него оставалось еще две тысячи рублей от тех, что ему перевели на сберкнижку за промывочный сезон в артели. Именно на эти деньги Иван собирался жить первое время, чтобы «грызть до скрежета гранит науки», а потом, может быть, зацепиться за Москву, где столько возможностей для честолюбивого рывка.
– Лиза, скажи, здесь можно снять квартиру на год?
– Зачем это тебе?
– Видишь ли, мне скоро двадцать шесть, я нажился по общежитиям… и мне так хочется чаще видеться с тобой. Лиза! Я так все отчетливо помню…
Она хмыкнула и ничего не ответила, но хрящик на переносице выступил и побелел от напряжения, а поджатые губы не предвещали ничего хорошего.
– Врешь ты все! – с неожиданной резкостью сказала она. – За три года ни разу не позвонил! А я, дура, тогда там, в аэропорту, решила, что, если ты позвонишь, брошу все и перееду в Уфу. Теперь мне это ни к чему. Ты даже рассказать честно не хочешь, что находился под следствием. А я знаю! – Она поднялась из-за стола, решительная, недоступная. – Прощай, Ванечка!
Уговаривать и умолять было бессмысленно, это он сообразил, но в самое первое мгновение его оглушил вопрос: «Как жить дальше?!» Он стоял и смотрел на нее удивленными глазами, открывая в ней новизну: короткая стрижка, косметика и уже настоящая женская фигура с полным набором округлостей и выпуклостей, которые так хочется потрогать, и он протянул руку, чтобы приобнять и поцеловать со словами: «Прости меня, Лиза!» А она руку отвела в сторону и, круто развернувшись, устремилась из кафе.
Малявин не поверил, что разрыв окончательный, взвешенный и продуманный загодя, он звонил и звонил, а трубку брала каждый раз Жанна Абросимовна и отвечала строго, что Луизы нет и не будет.
Он снял двухкомнатную квартиру с телефоном рядом с метро, приоделся, накупил обиходных вещей, мог ходить ужинать в недорогое кафе, съездить в Ленинград, как мечтал когда-то с Лизой, и ему, неслыханное дело, даже разрешили сдать экстерном за первый курс экзамены… Однажды он решил позвонить поздно вечером, почти ночью, с надеждой, что Жанна Абросимовна будет спать, но вместо холодно-вежливого отказа позвать Лизу услышал:
– Малявин, один мой звонок декану, и ты, как пробка из бутылки, вылетишь из института! – отчеканила она и тут же, не удержавшись, с наслаждением отвесила оплеуху: – Судимых нам только еще в семье не хватало!
После этого пришло понимание, что той прежней Лизы, которую любил, больше нет, не существует в природе. Ему захотелось выпить водки, как это нередко случается в минуты слабости, и по натоптанной дорожке Малявин ночью пошел в автопарк, где в любое время суток у таксистов можно купить выпивку и усмирить душу, угнести тело, чтобы не корежило от вопроса: «Неужели все кончено?..» Он не мог, не хотел верить в такое, потому что за много лет сжился с мыслью: «Ведь я люблю Лизу, а Лиза – меня». И некому было пожалиться, каменный огромный город, казалось ему, был презрительно угрюм, неприступен, жаден и зол. Однокурсники же мелки со своим однообразным: нажраться вина да телку снять клевую, отчего он иной раз свирепел и хватал кого-нибудь из них за грудки с приглушенно-настырным: «Ну, давай хоть побуцкаемся от души, черт побери!»
Шел снег. Шел всю ночь и все утро лохматый ноябрьский снег, который размесят, растопчут, но сейчас его нужно убрать с тротуара, что Малявин и делал, сгибаясь и разгибаясь в ритмичном движении вперед и вперед по Сытинскому переулку, а затем вниз к Тишинскому рынку до тупика. Во внутренних двориках он решил не убирать, потому что чистый снег хоть на время прикроет мусор, остатки еды – все, что выбрасывают эти мерзкие люди. Чем дольше Малявин работал дворником, тем злее относился к ним – извергающим мусор, харкоту, дурацкие вопросы… Когда приходилось сгребать вместе с мусором обломки батонов, засохшей колбасы, он вскидывал голову вверх и смотрел укоризненно на длинную вереницу окон, где жили эти странные люди, которых он перестал уважать.
«Да и за что их уважать?» – озадачивался он иной раз.
Он уже заметил смазливую бабенку в пальто с чернобуркой и по тому, как она оглядела проулок, пританцовывая на месте, заранее знал, что она метнется во внутренний дворик справить нужду, не обращая внимания на него как на принадлежность улицы, вроде знака, запрещающего въезд.
Снова шел снег. Шел, как вчера, год и тысячу лет назад, а он сгребал его и сгребал широкой металлической лопатой в неспешном однообразном ритме и размышлял с предельной простотой, такой же, как это движение, – об институте, приятелях, подступившем безденежье, в которое вогнал себя сам после окончательного разлада с Лизаветой.
Денег, заработанных на Алдане на золоте, могло бы хватить на пару лет при экономном расходовании, даже снимая квартиру в Москве, а он вдруг зауросил, заторопился, метнулся смотреть Ленинград, куда много раньше мечтал поехать вместе с Лизой, но куда так и не собрались. Ему не было жалко потраченных денег, ему жалко было расставаться с иллюзией праздника, потому что Ленинград показался вдруг обыкновенным казенным городом с разукрашенными фасадами домов, где из-под обвалившейся штукатурки проглядывала ершистая дранка и серая цементная пыль. А знаменитые мосты и кони, легко угадываемые по открыткам и репродукциям в альбомах, когда некому рассказать о плавности, точности линий, о своеобразии инженерных решений, показались ему лишь холодным металлом, загаженным ленивыми голубями. А картины в Русском музее – утомительно традиционными, одноликими…
Деньги кончились враз, как-то совсем незатейливо, вот только что счет шел на сотни и кое-что отложенное про запас, и вдруг горсть мятых рублевок да угол на кухне, сплошь заставленный пустыми бутылками. И запах. Запах несчастья, навязчивый запах тюрьмы, такой въедливый, что даже после стирки рубашки, если он возникал, то тело испуганно отзывалось испариной, помимо его воли и желания. С похмельной больной головой он ходил из комнаты в комнату, принюхиваясь и прислушиваясь к неумолчным звукам многоквартирного панельного дома, словно опасался, что вдруг заскрипят тормоза, лязгнут двери автозака, пока не догадался, что собственный страх имеет такой отвратный запах.
А началось все с привычного предложения иркутянина Семена Лепилова выпить в Столешниковом переулке по паре кружек пива, и, возможно, все закончилось бы без происшествий, как ему казалось в то утро, если бы Вовка Сухарев, прозванный Сухаренком, не предложил отполировать это дело водочкой. После чего пошел пьяный кураж, когда надо ужинать непременно в ресторане «София», где, как с апломбом завсегдатая пояснил Лепилов, подают отменную пиццу и мясо по-расучански…
– Правда, вот денег почти не осталось, – признался Лепилов. – Займи, Иван, чирик, войду в долю.
– Да чего уж там, – отмахнулся Малявин, – я расплачусь.
Стол официант накрыл быстро, но попросил сразу расплатиться за первый заказ. А когда легли сверху десять рублей чаевых, ощерился в улыбке и предложил американские сигареты «Кент».
– Бери, бери, они с травкой. Ох, прибалдеем! – заторопил Сухаренок, знавший откуда-то про эти сигареты в красивой белой упаковке, каких Малявин даже в руках не держал.
После одного из кругов по залу этот тридцатилетний жулик, как и большинство официантов, словно признав в Малявине крутого парня или подыгрывая ему в этом хотении, наклонясь к самому уху, прошептал:
– Мне позвонили: киски имеются обалденные! И всего за полтинник.
– А то мало? Я сам за полтиник полдюжины приведу с курса, – сказал Малявин так, словно в самом деле мог привести.
– Чего он тебе предлагал? – взялись дергать приятели.
А он ответил небрежно, словно это ему в обыденку:
– Да проституток двух предлагал за полтинник.
После чего завязался пьяноватый разговор о девицах, о том, что нужно бы грамотно жениться на смазливой москвичке с квартирой, а еще лучше бы – с богатенькими родителями…
– И чтоб теща помоложе, – развязно пошутил Лепилов.
А Малявин, подстраиваясь под этот тон, неожиданно рассказал, что присмотрел девицу с экономического факультета – пусть с невзрачным унылым лицом, зато с квартирой, готовую хоть завтра пойти в ЗАГС.
Сухаренок, как ему показалось в тот момент, от зависти укорил, что жениться из-за прописки – распоследнее дело, но главное словцо ввернул при этом какое-то меткое, очень обидное. За что и ударил Малявин с захлестнувшей враз злостью, как случалось с ним не раз после тюрьмы.
И может быть, сошло, не вмешайся парни с соседнего стола…
Очнулся Малявин в душной вони камеры предварительного заключения на грязном полу, и сквозь озноб, тягучую муть и тошноту – первая здравая мысль: а целы ли деньги, что сунул в носок в милицейском уазике? Знал безошибочно, что в московском райотделе милиции слезы и душещипательные истории не помогут, а только деньги и еще раз деньги, почему и порадовался, что они уцелели, и даже процедил, едва ворочая распухшим языком: «Пижоны тупые!» А едва менты забряцали ключами, подозвал дежурного и сунул ему четвертной, намекая, что будет столько же, если… После чего неторопливо поторговались с прибаутками и матерками и даже угрозами: не жмись, мол, парняга, а то сам понимаешь!..
Размышляя неторопливо о той разгульной весне, дошел Малявин со скребком до угла, где стояла у аптеки злосчастная урна – как всегда полная, что он заранее знал, потому что промелькнул уже мужичонка в длиннополом сером пальто с кипой газет. Несколько раз делал ему замечание, а этот мозгляк все равно продолжал заталкивать их в урну по дороге к Тишинскому рынку, не дойдя десятка шагов до мусорных баков.
Урны стали его главной бедой, особенно в первые дни и недели, когда приходилось опорожнять их, отводя глаза в сторону, но мускулы все одно каменели в брезгливой гримасе, которую сдержать он не мог и по сей день. Правда, глаз теперь не отводил и, как положено, перед очередной проверкой мыл урны веником, а два раза в год красил чугунный низ в черный цвет, а верх – в мутно-желтый.
Вытряхнул ведро в мусорный бак на колесиках, сооруженный собственноручно в виде бесплатного рацпредложения для быстроты и удобства, и отодвинул его к стене, а то однажды моложавый полковник с зелеными петлицами сшиб бак с дороги ударом ноги, обутой в казенный коричневый ботинок. Этот полковник появлялся каждый день строго в начале девятого у парадного подъезда на Большой Бронной. Убирая во внутреннем дворике, сквозь раздвинутые шторы Малявин видел, как он сидит в большом кабинете под двухметровым портретом Эдмундовича и читает «Правду», как и надлежит истинному «гулаговцу». Лицо при этом у него довольное-предовольное, потому что он и сам немало потрудился для трудовых свершений в Карагандинском спецлаге, а теперь вот здесь – в красивом особняке Главного управления лагерей, в большом кабинете с белыми штофными шторами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































