Текст книги "Убитый, но живой"
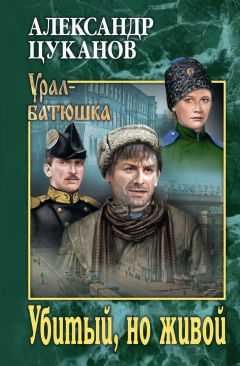
Автор книги: Александр Цуканов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
Глава 21
Беспредел
Тогда Малявин этого слова не знал, не понимал его зэковской сути, лишь много позже, вспоминая второй приезд в Ереван и заранее напрягаясь от подступающей обиды, он выговаривал каждый раз: «Ну и беспредел!» И то, что нарсуд Шаабянского района находится на дальней городской окраине, куда нужно ехать с тремя пересадками, обмозолив язык в расспросах, представлялось злым умыслом.
Он стоял на перекрестке перед массивом частных домов, простиравшихся на многие километры, и высматривал правильное направление. Услышал грохот обвала, звон разбитого стекла. Впереди на улице увидел милицейский «уазик», белую «Волгу», а чуть дальше Малявин разглядел колесный трактор, удавом выгнувшийся толстый трос, переброшенный через забор. Трактор всхрапнул, рывком дернулся с места, и большая остекленная конструкция с грохотом начала разваливаться на куски. Падали рамы, выгибались и лопались металлические крепления, деревянные брусья, обнажая головки роз и гвоздик. А рабочие под окрик милиционеров заново перецепляли монтажные крючья, чтобы выдернуть остатки теплицы.
– Ага, забегали цветочные спекулянты! Давай, давай их, чертей!.. – выговорил тихонько Малявин, готовый сам участвовать в погроме теплиц.
Трактор выволок длинный трос в улицу и поехал к следующему дому. Здесь возле ворот неприступной стеной стояли мужчины разных возрастов, но милицейский офицер прошел сквозь них, как шило. Они стояли молча, будто каменные изваяния, понимая, что за одну оторванную пуговицу на милицейском мундире навесят такой срок, что ой-е-ей! Лишь странным показался Малявину вид их, совсем не спекулянтский. Обычные работяги, одеты, как повсеместно, а руки их, сложенные на груди, были, как у всех работяг, большие и темные от загара, словно специально изготовленные, чтоб можно было отличить работяг от неработяг.
Не доходя до машин, Малявин перешел на противоположную сторону улицы, чтобы не столкнуться с массивным армянином, который взялся было за дверцу белой «Волги», но сзади наскочила пожилая женщина с выбившимися из-под косынки волосами. Уцепив за фалду пиджака, она выкрикивала что-то, похожее на проклятия, а мальчик-подросток и девочка лет четырнадцати оттаскивали ее.
Малявин подумал, что у них, наверное, тоже нет отца, а то бы он договорился с начальником. Ему расхотелось участвовать в этом погроме, жаль стало кусты крупных алых роз с поникшими обломанными ветками…
«Так ведь спекулируют, наживаются, как-то по телевизору показывали, аж триста тысяч нашли у торговцев цветами», – подумал Малявин, оправдывая кого-то и себя в том числе. Он шагал к серой двухэтажке народного суда, не подозревая, что через несколько лет на волжском знойном левобережье увидит, как ползут, грохоча гусеницами, трактора, круша теплицы, парники и помидорные плантации частников. И будет падать под гусеницы старик, защищая родную тепличку «пять на три», и биться в истерике вдова, и стоять с мигалкой желтый «уазик», и мелькать такие же милицейские спины, и так же ярко светить с небес майское солнце… Только называться этот беспредел будет иначе, и править страной будет не бровастый, а лысый говорун с сатанинской отметиной на челе.
В Шаабянском нарсуде его никто не ждал.
– Но у меня повестка. Здесь же написано… – лепетал он и совал ее каждому, как индульгенцию для прохода в рай.
Одну из женщин по имени Мэрико все же допек, она долго ворошила папки, куда-то ходила, с кем-то перекрикивалась, не выходя из кабинета, а потом объявила, что судебное заседание переносится на июль.
Такого он не ожидал, был обескуражен, возражал вяло и без напора, что летел две тысячи верст, бросил работу и ему никак нельзя ждать. Но ни эта смуглая блондинка, ни другая, шатенка, ни мужчина, сидевший напротив, слушать его не хотели, отмахивались, выговаривали, будто в отместку:
– Тебе же русским языком пояснили: в июне. В июле!
В суде царили суета и толчея, двери кабинетов сторожили угрюмые посетители, русская речь здесь звучала нелепым диссонансом. Несколько часов Малявин просидел перед дверью в кабинет помощника прокурора и даже зашел внутрь, уселся на стул, но все одно его не замечали, обносили взглядом, а когда попытался подсунуть повестку, то помощник крутнулся на стуле, оглядел с показным удивлением, сказал:
– Я с человеком беседую. Вы что, не видите?
Все повторилось на следующий день, и Малявин, понял, что не пробиться. Вата.
Ждать всегда нелегко, вдвойне нелегко, когда душа не на месте и денег в обрез. Малявина теперь не интересовали люди, сам город, солнце или дождь, ему хотелось лишь одного – скорее покончить с этой маетой раз и навсегда, и он вычеркивал с радостью каждый прожитый день из оставшихся десяти, словно это были не его дни, а чужие, заемные, и каждый вечер, как скряга, пересчитывал деньги, а потом укорял себя, но изменить ничего не мог: пачка дешевых сигарет, газеты, рубль за ночевку в комнате отдыха на вокзале, один раз в день горячий обед – ничего лишнего, а все одно уходило пять-шесть рублей. Поэтому девятого июня ему пришлось взять пять рублей из заначки, отложенной на билет до Уфы, чтобы сходить в баню и привести в порядок себя и одежду – от ботинок до воротника рубашки.
Десятого июня к обеду Малявин уяснил, что его беззастенчиво обманывают. Никто в Шаабянском нарсуде не знал, почему отменили заседание.
– Как они могли назначать судебное разбирательство, если я дело твое в глаза не видел?! – удивлялся и негодовал приятный, улыбчивый помощник прокурора на транспорте. И твердо обещал разобраться.
На следующий день все повторилось, его снова ругали, виноватили за бестолковость, а он никак не мог понять, чем провинился перед ними, униженно оправдывался, уговаривал помочь.
Блондинка Мэрико не смогла отыскать его дело, а может быть, не очень хотела. Она выговорила раздраженно:
– Заморочил нам голову, не числится твоего дела за нами…
– А как же повестка? Здесь написано: в Шаабянском!.. Здесь написано!..
Малявин закричал, стуча ладонью по столешнице: «Написано!» И стал ругать всяко нарсуд, город Ереван и всю страну.
Рослый мужчина в костюме-тройке, проходивший мимо, цепко поймал за локоть и потащил Малявина по коридору, затем втолкнул в кабинет и швырнул на длинную вереницу полумягких стульев.
– Что ти позволяешь? Хулиган! Пятнадцать суток надо, да? Хочешь? – выговаривал он, надвигаясь горой вместе со своей ухоженностью и запахом дорогого одеколона.
Малявин, угнув голову, забубнил про суд. Показал повестку.
– Не может быть! – сказал тот, снижая тон и ярость свою. В нем ощущался большой начальник.
Он лишь нажал кнопку звонка, и забегали женщины, неприступная Мэрико вскоре объясняла торопливо и подобострастно что-то по-армянски, кивая на Малявина. А судейский начальник что-то выговаривал, хмурился, морщил лоб. Потом полистал папку с бумагами с небрежным: ну, так я и знал. Сказал озабоченно:
– Ошибка вышла. Надо ехать домой и ждать тебе официального вызова.
Сказал так, будто речь шла о поездке в Эчмиадзин на экскурсию.
– Но я работу бросил!..
– Я тебе сказал, бывают ошибки. Тут у нас тысячи дел. Тысячи! А ты не узнал, кому поручено его вести, не нанял адвоката. Морочишь голову себе и нам.
– Когда же теперь? – спросил Малявин обреченно.
– Сказать не могу, не уговаривай. Июнь весь расписан. Теперь только в июле… Отпуска, понимаешь ли, людей не хватает, – закончил он решительно и ожег взглядом, будто намеревался добавить: «Разве на вас, мерзавцев, судей напасешься?»
У него смелости не осталось, чтобы по-настоящему рассердиться на страшную канитель, и он пошел, сморщив лицо, едва сдерживая подступившие слезы. Пошел длинным коридором, затем по лестнице на первый этаж, где приостановился, соображая: что делать дальше?..
У окна на казенной скамье сидела пожилая женщина в черном платье и черном платке. Иван видел ее в канцелярии, когда спорил с секретарем. Женщина сидела, устало горбя спину и сложив на коленях руки. Ему показалось, что смотрит она доброжелательно, будто хочет о чем-то спросить. Почему приостановился, спросил:
– У вас тоже дело затерялось?
– Нет. Из дела пропала бумага… Свидетельство о смерти мужа.
Он стоял молча и почему-то не уходил со смутным предощущением какой-то разгадки.
– Приезжий?.. Говоришь, из Уфы? И что за дело у тебя к ним? – спросила она без затей, с недосказанным сочувствием, которого стоит каждый попавший сюда впервые.
Малявин коротко пожалился, что обманули, когда приезжал в командировку, а теперь прислали повестку и снова…
– И ты денег не дал секретарю, да?
– А сколько надо?
– Сколько не жалко. Я давала ей двадцать. – Женщина едва приметно искривила губы в усмешке, которую относила к себе самой, что ведь дожилась!..
Малявина словно ожгло: «Всех-то делов!» Он зачертыхался, заохал и плюхнулся на скамью.
– Сколько лет тебе?.. Двадцать три? – удивилась женщина. – Как моему Сашико… Я думала, тебе меньше.
Последние ночи Малявин спал на лавке в воинском зале ожидания вместе с призывниками, потому что денег осталось только на билет до Куйбышева. И теперь простенький ужин, чистые простыни и даже запахи летней кухоньки, где ему постелила эта совсем вроде бы незнакомая армянка, стоили многого.
Разбудила она – семи не было. Принесла завтрак: сыр, жаренный с яйцами, лаваш, стакан мацони, что ели они каждое утро. Обыденно, как спрашивала до этого: «Где ночуешь?» – спросила:
– Денег на билет у тебя, Вано, хватит?
– Хватит, – твердо и решительно ответил Малявин, потому что тяготился нежданно обвалившейся добротой этой, судя по всему, совсем небогатой женщины.
Когда Сашико, с которым быстро сошелся и успел вечером вдоволь наговориться, подвез к вокзалу на своем милицейском «Урале», то Малявин, почти не смущаясь, попросил одолжить десять рублей: «А то вдруг на плацкарту не хватит до Уфы».
Сашико взялся шарить по карманам. Достал две трешницы.
– Больше нет с собой, – сказал он и покраснел, словно его уличили в чем-то постыдном.
Сержанту Сашико действительно было стыдно не иметь денег на карманные расходы. Его не раз назначали дежурить у выезда на аэропорт, где мог бы срывать рубли, но никак не удавалось свыкнуться с этими подачками-откупами, а когда деньги чуть ли не всовывали в карман, его отвращало лицо матери, особенно строгое после смерти отца, который подлых денег не брал.
Поезд медленно полз вдоль черноморского побережья на Адлер. Малявин удивлялся с мальчишеским простодушием не виданным до сей поры пальмам, платанам, диким джунглям ущелий, яркой сочной зелени и самому морю, подступавшему порой прямо к железнодорожному полотну, оно накатывало грациозно на берег, охлестывая снова и снова галечник, бетонные волноломы. Эта бесконечная неостановимая работа волн будоражила и удивляла.
А пассажиры в вагоне так же неостановимо ели жареных кур, домашние котлеты с резким чесночным запахом или пили чай с булками и разными сладостями, за что Малявин их ненавидел… У него едва хватило денег на билет до Куйбышева, но его сейчас волновал не столько вопрос, как добираться дальше до Уфы, сколько запах котлет. Глядя на сытых улыбчивых пассажиров, Малявин решил никогда больше не улыбаться. Знакомые девушки начнут расспрашивать: «Почему Ваня всегда серьезный?..» Кто-нибудь скажет: «Он пережил жуткую трагедию». Те ахнут, начнут приставать с расспросами, трогать пальчиками шрам, допустим, на щеке. А он, молодой, красивый, будет смотреть печально мимо них.
Выдумывать дальше и жалеть себя Малявину помешал кавказец с нижней полки.
– Эй, братан, спускайся. Кушать будем.
Иван заотнекивался и отвернулся к стене. Однако кавказец растормошил, заставил спуститься. А на столике лоснится курица, свежие овощи, сыр опрятно белеет рядом с зеленью. Чернявый крепыш, радушно улыбаясь, стакан в руки толкает:
– Давай, брат, за знакомство…
Полстакана чачи, этого крепкого виноградного самогона, маханул Малявин, не раздумывая, и впился в курицу зубами и губами, перемалывая по-собачьи мелкие косточки. Кавказец назвался Володей, а Рамазан – фамилия или прозвище, сразу не разберешь, подсовывал колбаску копченую, сыр, в стаканы чачи подливает.
В тамбуре, под перестук вагонный да под сытую хмельную радость, разговор вяжется бесконечный. Про командировку, про суд несостоявшийся.
– От же падлы! – негодует раз за разом Володя, сочувствие проявляет. Потом сам детство сиротское вспомнил, как убегал из детдома к родственникам. Теперь приходится вкалывать с утра до ночи, чтоб у себя в Аджарии домик небольшой, двенадцать на двенадцать, построить.
Когда допили бутылку чачи и вторая на столе появилась, начал Володя Рамазан про шабашку свою казахстанскую рассказывать. А Малявин встречь ему – про шабашку на кондитерской фабрике и что ему рублей четыреста не хватает теперь, чтоб долги погасить…
– Пустяк четыреста рублей! – вперебивку гудит Володя. – У меня в бригаде народ по куску имеет за месяц.
– Не может такого быть! – удивляется Малявин и натужно смеется: нас, мол, не проведешь. А у самого глаза замаслились, ему понравиться хочется Рамазану, мастеровитость свою доказать, из-за чего начинает слегка привирать… Что и не столь важно. Важно, что Володя согласен взять с собой на настоящую шабашку, где через месяц можно получить тысячу рублей и сразу расплатиться с этими долбаными долгами.
– И суд мы твой купим с потрохами! Плюнь на них.
– Ты знаешь!.. Мы с тобой! – сбивчиво от избытка чувств восклицает Малявин и лезет обниматься.
Ване кажется, что он обрел старшего брата, которого ему сильно всегда недоставало…
Глава 22
Раб клейменый
Аркалык – город-призрак, задуманный с размахом под большие бюджетные деньги, корячился в жаркой пыльной степи неухоженным полудурком. В нем отвращало все: умершие еще до посадки деревья, типовые многоэтажки и неуютный, полупустой, а оттого необычайно огромный железнодорожный вокзал, грязная площадь перед ним, транспаранты с метровыми буквами… И даже пиво – теплое, отвратное пиво, прокисшее еще на заводе в неумелых руках. Ко всему Володя Рамазан смотрит угрюмо, покрикивает. Чемодан свой сует: неси к автобусу и не вякай. Про дела тургайские разговаривать не хочет, отмахивается сердито: «Увидишь на месте…» Малявин забеспокоился, но решил, что коль назвался груздем… нужно терпеть.
Полдня ехали в душном автобусе, ехали с множеством пересадок на попутных машинах, забираясь все дальше и дальше на юг, в глубь Тургайских степей, куда перли нескончаемым потоком технику, стройматериалы, чтобы разодрать вкривь и вкось остатки земной девственной плоти. О чем, конечно же, тогда не задумывался и по-телячьи просто верил в зеленую травку, богатые урожаи, хорошую погоду, добрые слова. Что заработать деньги несложно, нужно лишь умело вкалывать, если надо, от темна до темна, на то она и шабашка.
В этом он не сомневался, старательно вживался в работу, опасаясь лишь одного, что упрекнут: слабоват, мол, ты, парень. Ничего не видел, не слышал в первые дни, измочаленный раствором, кирпичами, совковой лопатой и непривычной тридцатиградусной жарой с настырным хлестким ветром, и понять не мог, почему напарник нудит и волынит, почему ходит с дрыном помощник Рамазана Тимур, а стоит ему отлучиться, все сразу усаживаются перекуривать.
Неожиданно кончился цемент и выпал выходной – первый за два месяца, как пояснили работяги.
Полдня Малявин провалялся на койке в недостроенном общежитии с затрепанным журналом в руках и все не мог решиться на простенький поступок: пойти к Володе Рамазану за жизнь потолковать. Когда вошел в небольшой опрятный домик, где жил Рамазан со своими помощниками, они только что отобедали.
Бригадир поднялся из-за стола с улыбкой, стал усаживать рядом с собой за стол.
– Рассказывай, Ванек, как поживаешь?.. Баранинки вот попробуй. Как в звене, не обижают?.. Ну да ты парень не промах. Может, тебе сигарет с фильтром выделить?
– Нет, не надо. Я вроде бы привыкаю к «Приме», Тимур выдает каждое утро. Зашел я за паспортом.
– Зачем он тебе? – спросил Рамазан строго, без улыбки.
– Нужен. Мало ли что…
– Нет! Осенью получишь вместе с расчетом. У нас такой порядок. Понял?
– Так не пойдет, Володя! Я тебе что – пес цепной?
– Тихо, пацан! Ти-хо-о… – произнес Рамазан негромко, врастяг, с хорошо понятным подтекстом, что выразилось на лице, ставшим жестко надменным, словно не было никогда улыбчиво щедрого «братана».
– Да ты… – приподнялся из-за стола рукастый мужик лет сорока, густо заросший волосом, узкоглазый, с расплющенным носом.
– Сядь, Ахмед! Пацан молодой, норовистый, поэтому прыгает. А так он сообразительный, с дипломом. Звеньевым хочу пробовать… Ты уловил это, Ванек? Подумай и к звену присмотрись. А пока свободен.
Он угукнул, поднялся из-за стола, так и не попробовав баранины, но не уходил, стоял с туповатым упрямством.
– Чего еще?
– Ты, Володя, аванс обещал. Триста рублей. Мне б долги разослать первейшие, неотложные.
– Ладно, получишь, успеешь. Отработать надо сперва. Про мой должок не забывай.
Пустяк для Рамазана те полсотни рублей, что дал в поезде, как и триста, что Малявин просил, но привык, сам не раз похвалялся уменьем держать работяг за горло. «А чуть кто дернется, прижму так, что заверещит».
Когда вышел Иван из бригадирского домика, день этот солнечный показался мутным, и засвербило, заскребло в том месте, где, по прикидкам, душа должна находиться. Постоял в раздумье: в общежитие идти не хотелось, и видеть никого не хотелось, и пошел он от новой застройки к центру поселка.
Шел, оглядывал вереницы казенных домов и домишек, удивляясь, что возле них ни деревца, ни кустика, даже привычных сараюшек нет. Все окрест уныло, пыльно, безжизненно, словно живут здесь не люди, а механические роботы, отчего он представил себя таким же роботом, который шагает по выжаренной солнцем равнине неизвестно куда и зачем…
У магазина сидели двое, и у них тоже были пыльные скучные лица. Одного в звене звали Толяном Клептоманом, второго – Леней, реже – Сундуком. Они не окликнули Малявина, продолжая смотреть в никуда. Он молча подсел на корточки. Прикурил сигарету, спросил с напускной веселостью:
– О чем стонете, мужики?
– У нас сорок семь копеек и две пустые бутылки, – откликнулся Толян.
Малявин выгреб все, что осталось. Хватило в итоге на три бутылки.
Распивать уселись в подвале строящейся школы. Лучше места не сыскать. Полумрак, прохлада. После первой бутылки разговорился угрюмоватый молчун Леня Сундуков. Он аж зубами скрипел, когда поминал Рамазана.
– А все Шейх виноват! – бурчал он с обидой. – Заманил, гад такой!..
Шейхом звали они Шайхутдинова Рината – рослого черноусого татарина, который удачно поработал здесь в прошлом году. И заранее нашел подряд на строительство магазина. Взялись с охоткой, за месяц залили фундаменты, вывели под верх коробку из кирпича, надо бы перекрываться, и они чуть не избили прораба, когда он сообщил: «Нет плит перекрытия и до осени не будет».
Теперь уже Толян с труднопроизносимой кличкой Клептоман, и Леня Сундуков, и Шейх – все понимали: надо было дать денег прорабу, занарядить второй объект для подстраховки… А они взялись бастовать, обивать пороги в райцентре и жаловаться. Полмесяца провалялись в бараке, протухая и пьянствуя от безделья, пока совсем не кончились деньги. Осталось их вместе с Шейхом пять человек, а денег не только на обратную дорогу, на курево не осталось. Тут-то и наехал на них Рамазан, в светлом костюме, при галстуке, этакий красавец мужчина, прямо комсомольский вожак или лектор общества «Знание».
– По штуке в прошлом году заплатил мужикам за шесть месяцев. Он и нас нае… горит, – сказал Леня тихо, спокойно, словно не о нем самом шла речь. Он всегда говорил мало.
– Что делать – рабы! – откликнулся Толян и вновь принялся ругать рамазановскую шайку.
– Бунт надо поднять, и баста! – сказал Малявин решительно, осмелев после выпитого вина.
– С кем?.. Нас пятеро, ты шестой, – прикинул Толян. – Остальные – пьянь да рвань. Разве что двое оренбуржцев? Да волгоградский мужик Нефедов… Так и то мало.
Но засвербило, припекло. Стали прикидывать, что можно придумать, и не заметили, как допили третью бутылку, которую хотели оставить землякам: Шейху, Семену-Политику и башкирцу Шурке-Шурухану.
Непроглядно темны казахстанские ночи.
Покурить, пошептаться теперь выходили из барака на улицу, потому что постукивал бугру кто-то из залетных бичей. Девять человек были готовы идти в побег хоть завтра, но далеко ли уйдешь без денег, без документов? Идти к начальству, в милицию – бесполезно, Рамазан с ними не первый год водку пьет.
Вот тогда и пошло-поехало от тоски и беспросветности – «раб клейменый советский». Малявин слышал рассказы про рабство проклятое казахстанское и каждый раз вскидывался с укоризненным: «Да что ж они, пентюхи такие! Да им бы!..» Теперь сам придумывал разные варианты, с азартом объяснял, а мужики вместе с Шейхом беспощадно доказывали, что ни фига не выйдет и уверенно заканчивали: «Изобьют! Пойдешь жаловаться – тебя же оболгут, что, мол, поймали на воровстве. Такое случалось не раз».
По ночам Малявину снился побег. Как он бежит, задыхаясь по степи, а сзади свет фар, и некуда спрятаться: ровная, будто стол, степь во все концы. В другой раз он бежал по шпалам за уходящим поездом, и не хватало самой малости, чтобы уцепиться за поручень. Но вот уцепился, вот влез, а в тамбуре стоит Рамазан…
В тот злополучный день он прокручивал разные варианты похищения документов и так увлекся, что не заметил подошедшего Тимура.
– Какого сачкуешь… такой?! Без раствору все встали! – заорал тот прямо в лицо и глянул в упор своими желтыми ястребиными глазами.
Малявин аж откинулся назад от испуга и принялся часто-часто шуровать совковой лопатой, набрасывая в открытый зев бетономешалки песок. Сердце частило. Ему показалось, точнее, он угадал подсознательно, что Тимур дознался о заговоре.
Обычно погонялы не ужинали в столовой, а лишь приводили звенья и расплачивались за всех разом, после чего шли в свой домик, где дежурный работяга им варил мясо, а не то звеньевой Ахмет готовил бараний плов. Но в этот раз Тимур не ушел, остался сидеть за пустым столом.
– На правеж поведет, – шепнул Малявин Шейху. – Предупреди мужиков, чтоб молчали, если трясти начнут.
Очень хотелось занести грязные тарелки в посудомойку и рвануть через черный ход в степь, а там – будь что будет. Едва пересилил нервный озноб и Тимуру, когда он подозвал, испуга своего не показал.
– Что же, Ванек, не заходишь? – начал Рамазан спокойно, с улыбочкой. – Я тебе деньги приготовил, как ты просил. Вот они. Бери! – Он кинул на стол стопку червонцев и откинулся на спинку стула.
Не ожидал он такого. Сделал пару шагов к столу, за которым сидел Тимур, а рядом на кровати – Боря-Босяк, добродушный с виду бугай, отбывший лагерный срок за поножовщину. Протянул руки, чтобы сгрести деньги, но Тимур кулаком ударил по кисти.
– Ты сначала скажи, что задумал с Шейхом?.. Кто еще с вами?
– Да ты сам знаешь, – ответил Иван с наигранной простотой. Попытался улыбнуться. – Так что отпустите по-доброму, мы ничего не просим. Только паспорта.
– Кто это «мы»? – спросил Рамазан.
– Я и Ринат Шайхутдинов. Отпусти. Тебе, Володя, будет спокойнее. – Его не перебивали, и он, осмелев, попросил жалобно: – Верни паспорта… И хоть по полсотни на каждого.
– А это видел? – Рамазан изобразил руками хамский жест и хохотнул горлом, словно ворон перед ненастьем. – Ахмет, топай сюда. – Через приоткрытую дверь Малявин увидел вторую комнату, стол, заставленный едой, посудой, рядом – Реваза. Поговаривали, что он был чуть ли не чемпионом России по вольной борьбе. Реваз просунул в дверь голову, крикнул:
– Ахметка мыться пошел!
– Тогда, Боря, ты начинай, – приказал Рамазан с улыбкой, будто речь шла о веселой игре.
Боря-Босяк поднялся, вразвалку двинулся, как трактор. Малявин попятился к стене, в угол. Здоровенный, угрюмовато-сосредоточенный, Боря надвигался неотвратимо…
Сбил на пол и стал молотить ногами. Сквозь боль Малявин разобрал крик: «Завязали, мужики! Мокрухи не надо».
Очнулся в непроглядной темноте. Сбоку доносился мощный храп, словно соревновались двое. Вытолкнул изо рта прокисшую кровь, осколки зубов. Было страшно облизывать языком раздувшиеся губы, отставшую изнутри кожу, острые края передних зубов. Один глаз залип, не открывался: похоже, его вымолотили напрочь. «Но убивать не будут», – эта мысль принесла облегчение после пережитого страха.
Перекатился несколько раз со спины на грудь, стараясь размять затекшие кисти рук. Связали торопливо. В детстве не раз играл в шпионов и, на зависть многим, как бы ни связывали крепко и замысловато, все одно выпутывался из веревки. В коридорчике, где бросили на пол, стоял кухонный стол, и об один из углов он принялся сталкивать вниз веревку. Растер кожу до ссадин, но выпутался. Первым делом потрогал глаз – не глаз, а здоровенную опухоль. С трудом приподнял веко. Глаз мутновато слезился, но жил, это его приободрило.
Потом долго сидел на полу, отходил, оттирал пронизанные тысячами иголок кисти рук. Нащупал у стены бак с водой. Макнул в него пару раз голову и чуть не заорал, так крепко припекло от солоноватой воды. Когда боль утихла, шум в голове поунялся и темнота перестала казаться такой непроглядной, взялся за дело. Это пришло как бы само, вместе с кусками досок, которые нашарил в коридоре. Малявин решил, что открывающуюся наружу дверь, надо подпереть, основательно и неторопливо, в распор.
Страх вновь накатил, когда под рукой заскрипела дверь в комнате Рамазана. Володя Рамазан – хлебосольный фартовый парень – спал, отвернувшись к стене, под тонким байковым одеялом. Спал совсем тихо, по-кошачьи. На столе среди грязной посуды ножа не было, валялась только вилка из нержавейки, и ему сразу вспомнилась, вроде бы и не к месту: «Два удара – восемь дырок!» – фраза из старого комедийного фильма. Положил вилку на пол и стал привязывать один конец веревки к кроватной грядушке, возле ног, а вторым обхлестнул кровать и Рамазана. Затем уперся ногой в боковину, потянул бельевую веревку на себя до упора, затянул дважды узлом. Рамазан захрипел, задергался, но он втиснул ему в рот грязные носки, ломкие от пота. Глаза Рамазана влажно светились, зрачки торчали горошинами, он одурел от испуга и непонятности происходящего, захрипел, задергался на кровати, как дождевой червь. Малявин приставил к горлу вилку: «Тихо! Проткну!» Придавил до крови, и Рамазан затих.
Под подушкой лежали складень ручной работы с выщелкивающимся лезвием и ключи от сейфа. Это был даже не сейф, а ящик, сваренный из листового железа. Первым делом он выкидал все паспорта и трудовые книжки на вторую кровать. Стал искать деньги, вышвыривая на пол разные бумаги, папки, пустые коробки. Денег нашел совсем немного и решил попытать Рамазана, где остальные, хотя бы те триста, что он предлагал, как наживку, вечером.
А тот выплюнул носки и заорал вдруг по-звериному. Рамазан крутился, извивался всем туловищем так, что железная кровать ходуном заходила. Малявин ухватил его за волосы, втиснул в рот кусок одеяла, но в соседней комнате уже раздались голоса. Бухнули в дверь раз и другой, закричали возбужденно, зло, заматерились сразу на нескольких языках.
Документы Малявин завязал в простыню и побежал к выходу мимо двери, которая трещала и кособочилась. Подбежал первым делом к машине. Обломком кирпича выбил стекло, распахнул дверцу, сунул руку вниз под рулевую колонку и, как волосы из дерьмовой головы, выдрал пучок разноцветных проводов. Но и этого ему показалось мало. Открыл капот, ударил пару раз по карбюратору.
В тот же миг зазвенело разбитое оконное стекло. Он инстинктивно присел и, увидев высунувшуюся голову, метнул кирпич с дурным рыком: «Бей их по головам, мужики!» Подхватил узел и побежал к общежитию.
В старом бараке, отведенном под общежитие, гаркнул истошно, как некогда в армии: «Подъем! Живо!..» – и принялся колотить резиновым сапогом куда попало.
– Все на улицу! Свет не зажигать! – орал он, срываясь на визг. – Лопаты где? Где штыковые лопаты?!
Когда бригада сгрудилась возле него, стал суматошно объяснять про паспорта, деньги, что нельзя ждать утра, нужно быстрей собираться. Показывал на домик, где горел свет, метались огромные тени, светили карманным фонариком возле машины.
– Завести пытаются, да вот хрен им! А так мы отобьемся. Да, мужики?..
– Мочить буду! – рявкнул рядом Шурка-Шурухан, потрясая лопатой и растравляя злость этим криком.
Следом откликнулись еще несколько человек:
– Будем драться!
Шейх зажег в угловой комнате свет, взялся разбирать документы, сердито выкрикивая:
– Сундуков!.. Где Сундук? Зуфаров! Черт побери, мо-ой!
Девять человек с сумками и штыковыми лопатами, которые придавали им уверенность, вскоре стояли с одной стороны, и человек пятнадцать – с другой. Аркалыкский каменщик Шамот бубнил:
– Мы от хозяина не пойдем… Зря вы, мужики. Достанут!
Возле трассы откололись еще двое и повернули обратно.
– Николай, Жорка! Стойте!..
– Не-е, не пойдем! У них связи кругом, замочат наглухо.
– Ссыкуны! В гробу мы видели вас, негры поганые! – закричал озлобленно Семен-Политик и замахнулся лопатой.
Оренбуржцы рванули трусцой в сторону поселка, где ждала их назавтра расправа, о чем они знали, но свободы страшились.
– Разве с такими сделаешь революцию? – посетовал Семен, словно пробовал ее делать.
Постояли, поразмышляли, куда двигаться дальше… Поворот на Амангельды тонул в непроглядной темени, а на востоке небо порозовело, и они, не сговариваясь, двинулись на восток, унося на плечах шесть штыковых лопат. Малявин шел чуть впереди, белея узлом, потому что в потемках и спешке не нашел свой дорожный портфель. Шли они торопливо и мечтали о большой прибыльной работе, больших деньгах, с которыми начнется новая, правильная жизнь.
У первой же развилки стал прощаться волгоградец Нефедов.
– К черту все! Буду домой пробираться.
Молча жали руку; его не за что теперь осуждать, он уходил от бесконечного подлого рабства.
Малявин достал из кармана немного бумажной мятой мелочи и отдал ему десять рублей. Заметил, как дрогнули, скривились у Нефедова губы…
Изо дня в день бригада моталась по тургайским дальним хозяйствам, пересаживаясь с попутки на попутку, случалось, шагали пешком десяток-другой километров с надеждой, что где-то их ждут. Но масть не ложилась – хоть плачь! С каждым днем убывала, истаивала надежда. Прогоны дальние – «полста километров не крюк», дорог множество разных, пыльных и жарких, со стервятниками на телеграфных столбах, спокойно взирающими на человеческую суетню, а как выбрать дорогу самую нужную?
На третьи сутки после побега от Рамазана приблизились к конторе совхоза «Маяк», переночевали здесь же во внутреннем дворике, на пыльной траве под молоденькими топольками. Утром перехватили директора прямо на улице, накинулись со своим: «Строители нужны? Работа есть?..»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































