Текст книги "Убитый, но живой"
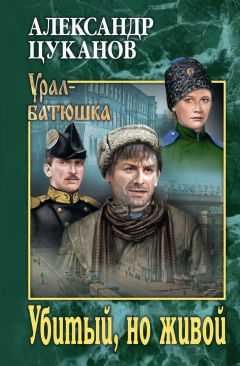
Автор книги: Александр Цуканов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Глава 28
Челябинск – рязань
Под колесный стук
Трое суток глух
Мой конвойный,
Мой конво-ойный.
Хочешь, песни пой,
Хочешь, плачь навзрыд.
Лишь один ответ:
«Не положено!»
А мне маму жаль,
А себя ничуть.
Кинь письмо, мой друг,
На перроне в круг
Сарафановый.
Там всего пять строк:
«Мама! Жив пока.
И по горло сыт.
А куда везут,
То не ведаю».
Утром они делили в вагонзаке хлеб, оставляли покурить хоть на две затяжки, заступничали в меру сил и норова, поучали Юрку перед расставаньем, ибо знали, что его на Липецк отправят с другим этапом, с пересадкой в Ульяновске или Рузаевке. И над всей трепотней и дележом висело почтительное: «А как ты, Назар, считаешь?» Он оглаживал мягкую светлую бородку, оглядывал их, несмышленышей, и неторопливо про нравы и обычаи лагерные пояснял, советовал, как выжить.
А днем в челябинском отстойнике щуплый хромоногий зэк в черной телогрейке без воротника вдруг подступил вплотную и заорал:
– Ха-а! Кругляш? Живой… И все стучишь, падла?
– Нет! Ты спутал меня, – ответил Назар, поднимаясь со скамейки.
– Я спутал? Да я три года лишних хапнул по твоей наводке! Ишь, бороду навесил, гнида. Замаскировался.
Поднялись и подошли двое в черно-сером.
– Чем подтвердить можешь?
Назар-Кругляш уже стоял у двери. Хромоногий схватил его за рукав: «Пошли разберемся!» И отлетел в сторону с неожиданной силой, какую и подозревать трудно в этом благодушном с виду, невзрачном мужичке.
Оглушительный грохот заполнил полуподвальную камеру, и все растерялись, застыли на своих местах, а Назар-Кругляш, стоя к двери спиной, барабанил кружкой и ногами, да так сильно, звонко, словно в колокол бил.
Когда его вывел надзиратель, какой-то грамотей пояснил, что у Кругляша кружка не простая, а с наплавным оловянным донцем. Во что Малявин поверил.
Тюрьма челябинская его удивила, как может удивить человека, вылезшего из затюрханной коммуналки, приличный особняк или что-то подобное. Чистота и порядок повсюду, без загаженных темных углов, где тебя поджидает дубак или зэк-беспредельщик. Светло-зеленые, желтые, синие стены с идеально ровной окантовкой панелей, в душевой блекло-голубой кафель – фантастика, образцово-показательная тюрьма. Здесь он впервые по-настоящему помылся горячей водой с мылом без окриков: «А ну, шевелись!»
В небольшой камере на шестерых человек больше всего его обрадовал матрас, пусть тощий, комкастый, но после голого железа, как сказка. Тем более что никаких кровососущих, живщих во всех остальных казематах. Малявин слегка огорчился, когда на шестой или седьмой день надзиратель выдернул с вещами на этап.
Во внутреннем дворике долго держали на морозе перед посадкой в «воронок». Собранные из разных камер и разных мест арестанты нудили, ругались, стучали подошвами по асфальту. Он тоже переминался с ноги на ногу в летне-осенней одежонке, простуженно кашлял, мотал сопли на кулак и вспоминал свитер, который отобрал лобастый зэк на первом этапе.
Двое в телогрейках с продольными полосами сидели на корточках у бетонной стены в странном оцепенении. Вдруг узколицый с белой просекой глубокого шрама на лбу и брови зэк с особо строгого режима глянул пристально на Малявина.
Тот испуганно замер.
– Пристраивайся. – Он кивком показал место слева от себя. – Покури.
Протянул распечатанную пачку «Примы».
– У меня свои, – ответил Малявин настороженно, ожидая подвоха, и полез в карман за махоркой, которой щедро отсыпали в челябинской камере.
– Ушлый, падла…
Слово «падла» зэк-особняк произнес протяжно, с ухмылкой, как похвалу и спросил:
– Сколько ж тебе?
– Еще не судили.
– Лет сколько?!
– Двадцать четыре… завтра исполняется, – уточнил Малявин зачем-то, словно бы ища сочувствия.
– Да-а, сын у меня помоложе. Моему стручку двадцать. Но похож, сильно похож.
– Не пишет, что ль?
– Пишет. Два письма в год при хорошем поведении… И куда ж тебя прут?
Малявин пояснил и, несколько поосмелев, спросил:
– А вас откуда? Куда?
– На крытке здесь парились. Теперь в зону. А куда, то начальник лишь знает.
– Сало у меня есть. Будете? – вскинулся Малявин с радостью, что хоть чем-то мог подогреть.
– Нельзя мне, – ответил узколицый. – Желудка нет.
– Что, совсем нет?
– Да, совсем. В здешней больничке остатки отшматовали… Может, ты, Семен, будешь?
Напарник его, как бы вынырнув из забытья, спросил:
– Че надо?
– Сало возьмешь?
– Кашки бы молочной! Или яичко… А сало жевать нечем. – Он на миг раззявил беззубый рот, пояснил: – Дистонит. Ни одного.
Подали команду: «На выход! По двое разобрались!»
Узколицый сунул в руку что-то продолговатое и узорчатое.
– Держи, сверчок, на память от деда Прохора без вихора, а с проплешиной.
Эту красивую ручку без стержня, изготовленную необычным, известным лишь крытникам способом из капроновых разноцветных ниток, отобрал у Малявина внаглую надзиратель в Ростове, а он ему так старательно объяснял, что не ручка дорога, а то, что подарил ее зэк Прохор на день рождения. Обидел, обидел ни за что надзиратель, но Малявин не стал с ним лаяться, он был ученый, у него при каждом шаге противно пощелкивали два ребра с правой стороны.
В поезде (а ехать до Рязани двое суток, судя по хлебным пайкам) Малявин раскис. Его то знобило, то бросало в жар, а мед с молоком и ватное одеяло в вагонзаке не выдают, и с сочувствием сложно, особенно когда набьют десятка полтора арестантов в камеру-купе.
Верхнюю полку отвоевать ему не удалось, нашлись орлы покрепче, пошустрее. Он сидел возле решетки, прислонившись спиной к перегородке, и страдал. Курево кончилось, а поделиться никто не хотел, да и цеплять начали, уже на пол решили столкнуть, пришлось огрызнуться ему в мать-перемать. И все одно рослый челябинский «баклан» не давал покоя:
– Эй, якутянин, ты не паровозы там чистил? – подкалывает он, свесив голову со второй полки. – Молчишь? Бичи – они все гордые, им трудяги не в жилу. Мишка, а у него, кажись, бушлат кожаный.
– Не-е, дерюжный, – скалится тщедушный Мишка.
– А почему блестит?
– Так он ведь сало ист…
Они хохочут. Ввязываться себе дороже. «Бакланы», когда кучкой, – герои, а вот разбросают в Рязани по камерам, там будет видно, кто чего стоит.
Сквозь дремотное забытье услышал, разобрал: «Когда в Уфу ездили, помнишь?» Заговорили про ресторан «Урал», в котором не раз бывал…
– Эй, в соседнем! Уфимские, вы с какого района?
– С Толбазов, – ответили разом несколько голосов.
– Елки-палки! Ребята, я ведь с Нижегородки, а мать у меня в Холопове живет. Это ж рядом!
Молчат толбазовские, им непонятна эта восторженность, эта радость. Малявин догадался, что молодые пацаны недавно с воли и попытался расшевелить их своими: «Как там?.. Как?» Потому что не полтора календарных года, а будто целое десятилетие минуло с той поры, как уехал он из Уралославска на шабашку.
– Холоповских знаете, небось? Сашку Борца, Зубаревых?..
– Нет. Мы с ними махаемся, – ответил один из земляков, и Малявин даже представил его скошенный чубчик, рыхлое прыщеватое лицо с едва обозначившимися усиками. Но проглотил это глупое, идиотское «мы махаемся», чтобы хоть на короткий миг вырваться из этапной одинокости, когда каждый раз заново приходится обживать тюремный угол и каждый раз, пусть ненадолго, оставаться одному против всех, когда не знаешь, что произойдет в следующую минуту.
– Давно с воли?
– Пять дней как арестовали за драку, – ответил толбазовский верховод, которого Малявин прозвал Махачом.
– Так подошлите пожрать хоть чего-то домашнего. Да и сигарет…
Поезд сбавил ход и остановился, похоже, на каком-то полустанке, и стали отчетливо слышны приглушенные голоса в соседней камере-купе: «Так ведь последний кусок колбасы… Сами что в тюрьме курить будем?.. Отдайте ему махорку».
Махорка нестерпимо отдавала плесенью. Она несколько лет пролежала в толбазовском сельпо.
– Вот так землячки у тебя! – укорил пожилой сокамерник, пригасив махорочную закрутку.
– Ну и жлобье! Ну и кишкодавы! – бурчал Малявин обиженно и ждал, когда уйдет помначкара, чтобы обматерить их… Но стали водить на оправку.
– Слышь, земляк?..
– Чего тебе? – откликнулся Махач.
– Спасибо за махорку… Тут кой-что передать нужно. Как вашу камеру начнут водить на толчок, ты первым выйди да чуть прижмись к решетке нашей. Идет?
– Сделаем, какой базар…
Он играл под ухаря.
«Вот и отлично», – решил Малявин и хорошенько раскурил толстую махорочную закрутку. Как только толбазовец прислонился к решетке, вонзил в его руку горящий окурок.
Махач дико заорал и так резко отпрянул, что солдат-первогодок выдернул из кобуры пистолет, передернул затвор от испуга. А это ЧП – это учтенный боевой патрон, о котором начкар обязан написать рапорт по прибытии в часть, предварительно вставив пилюлю помощнику, а тот…
Тот отыгрался на Махаче в переднем тамбуре.
Когда того вели обратно, он что-то канючил, шмыгал носом и едва сдерживал подступившие слезы, так, похоже, и не уяснив самое важное: «Надо делиться». Особенно здесь, где ты всегда одинок, где всего не хватает, поделись, а завтра поделятся с тобой. Это Малявин отчетливо понял только теперь.
Неожиданно он проснулся и сразу понял, что находится на свободе. Чтобы удостовериться окончательно, пожамкал в горсти простыню, подбил повыше подушку, шепча: «Свобода, свобода…» Он не знал, что произошло и как здесь очутился, но знал, что вот-вот придет Лиза.
Она вошла строгая, в темном монашеском платье, волосы гладко зачесаны и заплетены в косу, в руках что-то, похожее на картину или большую книгу.
– Ты не узнала меня? Это же я, Малявин!
– Здравствуй, Ваня! – сказала тихо, печально.
– Что с тобой, Лиза?
– У меня умер папа.
– Жаль. Он так хотел внука… Но ты не плачь, ведь я теперь с тобой.
– Я не плачу. Это ты плачешь.
И правда, он даже почувствовал солоноватый вкус слез.
– Тогда обними меня, Лиза. Я не заразный, у меня бронхит. Простыл в поезде, когда ехал к тебе.
– Мне нельзя.
– Почему?
– Мне запретили с тобой целоваться.
«Может, это не Лиза? Ведь Лиза любит меня, а я – ее. Лиза меньше ростом, и волосы у нее темнее… Это же дылда какая-то! И пахнет от нее чем-то…»
– Да отпусти ж ты халат!
Это была точно не Лиза.
– Левую теперь руку давай. Рукав придержи. Ну что это за вена, никак не попаду!..
Только теперь Малявин разглядел решетку на окне, забранную снаружи «намордником».
– Так я в тюрьме?!
– А то где ж? С этапа – и прямо сюда, в лазарет. И чего ты разнюнился? Придется за бромом сходить. Градусник пока подержи.
Она вышла, а он заново пожамкал в горсти простыню, подбил повыше подушку. Он так и не поверил, что раньше был сон, а теперь – явь…
За три этапных месяца Малявин оголодал и завшивел, как и положено этапнику-первоходчику, который мытарится в вагонзаке на гольном хлебе и хамсе, а затем неделю-другую до следующего этапа, в самых отвратных, чаще всего полуподвальных камерах, на баланде и каше синюшной, потому что зэк – это нелюдь, а этапник – вдвойне.
После тюремной больнички попал в камеру к местным рязанцам, а у них домашние передачки, хлеба досыта и каша остается. Но вскоре выдернули на этап, не дали разговеться и отлежаться.
Он не полез в короткую, словно поросячий хвост, очередь, как это делал обычно, поэтому досталась расплющенная буханка мяклой чернушки.
Этап не заладился с первого часа. Сломался, не подошел второй «воронок», всех пихали в одну будку, вбивали туда сапогами.
– Гражданин лейтенант! – прямо-таки заверещал Малявин, увидев начальника конвоя со стопкой дел. – Из больнички я! Помру, не вынесу давки…
Начальник оглядел парня. Спросил привычно: «Фамилия?.. Первая ходка?» Прикинул, что на передаче обратно в СИЗО потеряет минут двадцать, а время и без того поджимало.
– В собачнике кто? Крытник? – спросил он у сержанта, выгадывая паузу, чтобы отважиться на очередное нарушение тюремного режима.
Сноровисто, чтоб не поймать пинка, Малявин втиснулся в узкий автозаковский отсек, предназначенный для сторожевых собак, женщин или особо опасных преступников. Прижался к зарешеченной двери, всматриваясь в кромешную со света темноту и вслушиваясь в истеричный голос.
– Дуремары! Паяцы!.. Испоганили Россию. Пропили, разворовали. Ублюдки! И когда же вы насосетесь? – выговаривал Крытник продуманно, зло, будто спорил с кем-то.
На этапах и в пересыльных камерах Иван часто слышал, как ругают правительство, и особенно люто – «коммуняк проклятущих». Ругают с матюгом, рисовкой. А этот небольшого роста тщедушный Крытник не матерился, жаргон не употреблял и выступал весьма необычно.
Солдаты стучали в железную дверь, одергивали, грозились замочить, а он буровил свое. Даже когда выволокли в тамбурок, буцкая кулаками, он продолжал кричать: «Люди русские, поднимайтесь! Вставайте! Нужно уничтожать эту мафию… Мы погибаем!» Только после удара прикладом карабина Крытник умолк, будто перерезали провод. Его швырнули обратно в отсек. Малявин с испугом смотрел на мертвецки застывшее лицо, напоминавшее маску, и хотел отодвинуться, но некуда было.
– Доходяга, гнилуха такая, а туда же – на самого Брежнева покушался! – выговорил в злом запале сержант, запирая дверь собачника.
– Слышь, это они про тебя? – спросил негромко, почти шепотом, когда и так было ясно, что про него.
Заключенный, которого начкар называл Крытником, откашлялся, сплевывая на пол сгустки крови, окинул ненавязчивым коротким взглядом, будто увидел впервые.
– Был шанс, но сорвалось, – ответил Крытник с устоявшимся равнодушием, как говорят о неудачной рыбалке.
– Сколько ж впаяли тебе? – спросил Малявин напористо, как спрашивали его первым делом в камерах, на этапах.
– Двенадцать. Два из них – крытка.
– Ого!.. И куда ж тебя ныне?
– В Саровский спецлаг…
– Так он же, говорят, для ментов? – поторопился показать осведомленность.
Тот агакнул и пояснил с притаенной осторожностью, что работал в Комитете госбезопасности.
– Эх ты! Знал, что и как, и не сумел… – Малявин даже слегка обиделся на него.
– Сдохнуть бы поскорее… – едва слышно пробурчал Крытник, но с таким затаенным страданием, без малейшего намека на браваду, что ознобом пробрало. – Голова болит – мочи нет… Чая нет у тебя? Чайку бы пожевать, а то прямо голова трескается.
Крытник приподнялся и забухтел хрипло:
– Мужики! Мужики, чаю подошлите, как пересадят в вагон, а то помираю. Я взамен шарф отдам хороший, шерстяной. Слышь, мужики, я буду париться в крайней одиночке.
– Заткнешься ты или нет? – рявкнул солдат и ударил окованным прикладом в дверь.
Малявин скривился от грохота, прижался к стене. Крытник опустился рядом на пол.
– Ты, парень, думаешь, что я – того, чокнутый. Нет… Вернее, раньше не был, а вот после года одиночки и битья по голове теряю контроль. Хочу сдержаться, а не могу. И жить больше не могу. Да и незачем. Никаких прав у русского человека. Даже умереть – ведь священное право – и то не дают, изверги! Я семь дней голодал, а на восьмой принесли кишку с грушей и порцию манки вдули мне в пузо… Ты небось по двести восьмой, за хулиганство?
Малявин обиженно отмолчался, не стал возражать, а после паузы выдал в отместку:
– А комитетчиков настоящих в собачниках не возят…
– Что ты плетешь, суслик? Я три языка освоил, семь лет прослужил на оперативной работе в Сирии, затем в Бельгии. И не спорь со мной, не спорь!.. Чтоб спорить, нужно обладать информацией!
Малявин испугался, что Крытник опять завопит. Но нет, он откинулся, прижался затылком к холодному металлу и веки прижмурил, пережидая, когда утихнет боль. Какое-то время ехали молча. Когда «воронок» подпрыгивал на колдобинах, в соседнем, набитом до предела отсеке всхохатывали и залихватски матерились зэки.
– Тебя как зовут?.. Иваном, говоришь. Это ныне в редкость. Я вот помню в школе, когда рассказывали историю России, сплошь бунты и восстания, мы, пацаны, искренне возмущались, как это они не могли кучку князей да дворян одолеть? Как набросились бы разом!.. Но двести или триста лет назад русскому простолюдину жилось свободнее, чем ныне. Могли удрать на Урал, в низовья Дона или еще куда-то. А теперь, дружок, никуда не убежишь. Могут лишь сослать. Ныне падалью пахнет. России больше нет и не будет. Потом, возможно, возникнет что-то новое, что будет называться Россией, но Россией не будет. Впереди нет просвета.
Ване хотелось возразить, да не знал, как к нему обратиться, потому что привычное: «друг», «земеля», «товарищ» не вписывалось, не ложилось, а спрашивать, как зовут, не хотелось. Поэтому сказал обезличенно:
– Под себя равняешь. Под свой срок. А хоть в кашу, хоть в завтрашний день – человек верит всегда. Без этого нельзя.
– Эх, суслик! Понахватался вершков. Я что, по-твоему, ради выгоды своей решился на такое? Нет! Я в народ русский верил. Я думал, что если застрелить этого дуремара… Застрелить, как бешеную собаку во время прямой трансляции по телевидению, то народ всколыхнется, вырвется из обморочной одури.
Тогда Ваня напористо бухнул про социализм, который сам по себе неплох, но дуракам достался и что на Брежнева все сваливать глупо. Как и на Сталина, который сделал много хорошего.
– Это сколько же тебе лет? – неожиданно спросил Крытник, и он, едва пересилив свое всегдашнее желание накинуть год-другой, сказал, что двадцать четыре.
– Не ожидал!.. Джугашвили Иосифу было почти столько же, когда он писал паршивые стишки, комплексовал из-за поврежденной руки и оспин на лице. Этакий обыкновенный романтично настроенный юноша, податливый, легко увлекающийся. То семинария, то попытки поступить в университет, то вдруг увлечение революционной фразой… Позже он столь же легко менял товарищей, убеждения. Впрочем, какие убеждения, если в нем стойко, навсегда засело уголовное, воровское начало? А произошло это в тифлисской тюрьме. Там в те годы были жесткие нравы. Однажды, когда Еська отказался покатать на себе верховода уголовников Мацоку, его слегка побили, а товарищи «политики» не заступились, потому что перед этим возник горячий спор о роли рабочего класса в революционном движении. После Еська начал охотно шестерить, а затем и на товарищей по камере покрикивать, которые не перечили. Тогда он впервые уловил преимущество пусть маленькой, но волчьей стаи и воровских заповедей, где обмануть фраера, мужика – доблесть. Видимо, поэтому он так легко согласился сотрудничать с полицией.
– Не может быть! Где доказательства, документы? А?..
– Только косвенные. Архив управления полиции был уничтожен сразу после Октябрьского переворота. И не случайно! Но я видел копию с бухгалтерской ведомости на получение денег платными осведомителями, где значилась фамилия Джугашвили. Люди, которые могли бы подтвердить, все погибли в двадцатых-тридцатых годах при весьма странных обстоятельствах, одного из бывших надзирателей тифлисской тюрьмы обнаружили повешенным в сортире ресторана «Бухарест». Джугашвили обладал цепкой, прямо-таки феноменальной памятью, но упустил, забыл, видимо, как исповедовался в тюремной больнице человеку по фамилии Дедадзе.
Меня с этим человеком свел случай… Впрочем, когда собака ищет след, то находит его всегда неожиданно. Так вот, идейный ты наш сукин сын! У меня была сложная работа в одном немецком портовом городке. Я устал психологически, так мне все осточертело, что решил я в нарушение инструкций плыть обратно морем на теплоходе. В двухместной каюте попутчиком оказался странный старик по фамилии Дедадзе: в свои восемьдесят лет он предлагал померяться силой на руках и клялся, что доживет до ста лет. Выходец из России, он был для меня желанным собеседником, потому что помнил имена наставников в реальном училище, дореволюционные цены и даже расписание поездов из Тифлисса. Но, как многие старики, страшно боялся проспать остановку в западногерманском порту Киль, куда наш теплоход прибывал рано утром.
Мы с ним и беседовали душевно о всякой всячине под коньячок. Неожиданно старик вспомнил, как в 1905 году попросили его друзья политики перевезти чемоданчик с запрещенной литературой. А при обыске там обнаружили еще и пару наганов. Дедадзе было бросился бежать, а пуля-дура догнала. Очутился он в тюремной больнице…
Воронок остановился. Двигатель заглох. Сразу стал слышен спор солдат, гудки тепловозов. Кто-то ругнулся зло, сказал: «Прошлый раз полчаса торчали на переезде!» Запахло табаком.
– Курнуть бы… – проговорил Малявин, не решаясь спросить напрямую.
Крытник протянул пачку сигарет в твердой упаковке.
– Нарочно обломал? – спросил Малявин, разглядывая сигареты с обломанными фильтрами.
– Тю-ю! Не знаешь, что фильтры заставляют ломать ретивые надзиратели?
– А что они ищут? Записки?
– Не положено по инструкции… Но одного выводного я допек, он мне так пояснил: зэки, мол, народ ушлый, палят спичкой фильтр, а когда он спечется, остекленеет, оттачивают так, что хоть вены вскрывай.
– Дурь, на дурь помноженная… Но ты про Дедадзе своего не дорассказал?
– Так все. Сошел старик в Киле, обменялись мы адресами. Беседу эту я напечатал под чужой фамилией во французском еженедельнике… Потом, правда, не раз вспоминал этого веселого здоровяка-грузина, который говорил с устоявшимся презрением: «Еська – христопродавец! Я ведь пожалел его тогда. Думал, хоть и подлый человечишко, а все живая душа. А каков ведь поганец!.. Ну его, давай лучше за девок выпьем, чтоб они нас до самой смерти любили». А как он хохотал оглушительно, смачно или напевал тихонько: «Варта лалу лалу джан…» После нескольких безответных открыток получил официальный ответ на немецком языке: «Тимур Анзорович Дедадзе скончался 12 марта 1977 года от кровоизлияния в мозг. Кремация состоялась…»
Малявин был обескуражен, сбит с толку и принять до конца такое не мог, не хотел, поэтому возразил, досады своей не скрывая:
– По-твоему, Сталин стукач и душегуб? Но чем Брежнев тебе помешал?
– Неужели в самом деле не понимаешь? Брежнев и прочие шакалы – это лишь развесистая клюква, а корни ее в христопродавстве Джугашвили, Бронштейна-Троцкого, Калинина и прочих, которых Ленин умышленно собрал. Честные и совестливые за ним не пошли.
– Ленина хоть оставь в покое!
– А чем он лучше остальных? Обычный наполеончик… Раскольников, который бабку-процентщицу убил. А потом и сестру ее рубанул. Человек талантливый, но ведь фанатик. И плевал на народ русский, который толком не знал и не понимал. Ему идею свою требовалось любой ценой воплотить.
– Все у тебя плохие! А сам-то, сам? – вскипел Малявин.
Крытник ничего не ответил, но его, похоже, крепко зацепило это «а сам-то?»…
Сергей Барсуков, бывший майор Комитета госбезопасности (во что ныне он сам верил с трудом), все так грамотно рассчитал, многое предугадал…
Ему повезло с однофамильцами на станции Сковородино, в этом небольшом пристанционном поселке, где местные чекисты и милиция прочесывали тщательно все общежития и гостиницы перед приездом генсека. Петр Петрович Барсуков пытался расспрашивать незнакомых людей про сестру и свояка Гришку, которых не видел лет десять – задавил их своей скороговоркой, московскими подарками, «Столичной» так, что поверили старики в новоявленного племянника.
Еще в Москве Барсуков выяснил день встречи Брежнева с бамовцами, но ему нужны были подтверждения здесь, на месте, и он с утра пораньше уехал в Тынду.
Штаб комсомольской ударной стройки размещался в полуквадрате новеньких синих вагончиков. Командира не было на месте, а один из заместителей, худощавый мальчик-мужчина лет тридцати с невнятной, как у большинства инородцев, фамилией Артузов, так разволновался, оглядев удостоверение Барсукова, так старательно улыбался и охотно отвечал на вопросы, что впору его оформлять штатным осведомителем.
– Только жене. Честное слово, больше никому ни слова, – уверял комсомольский начальник.
– Вас же предупреждали!
– Да, но ведь…
– Никаких «но». Вы и время назвали?
– Нет, я лишь сказал, что выезд из Тынды в восемь утра.
– А это что у вас за ярмарка? – переключая внимание Артузова, спросил Барсуков.
– Это? Это для передовиков производства, – радостно засепетил комсомольский вожак, угодливо клоня жидковолосую головку с аккуратным пробором. – Японские товары переданы через ОРС. Вот список награжденных. Это служит дополнительным стимулом, особенно в дни, когда к нам на БАМ…
– И ваша фамилия в списке? – не удержался, пугнул Барсуков ловкого мужчину-мальчика.
– Да. Понимаете ли, работаем без выходных, с утра до ночи.
– Работайте. Провожать не нужно, – остановил комсомольца.
Вечером у помощника дежурного по станции Сковородино Барсуков узнал, как и когда изменяется проход других поездов. Получалось, что встреча с Брежневым состоится в 14.30, это сходилось с тем распорядком, в котором жил последние годы, впав в безоглядное детство, Ильич номер два.
Ночь Барсуков провел без сна. Самовнушение и комплекс дыхательных упражнений не помогали. Попытался читать Достоевского и не смог, лезла неотвязно в голову разная дребедень. Самыми утомительными казались последние два часа перед обедом. Раньше намеченного срока он вышел к станции, в деревянном грязном сортире в последний раз проверил пистолет, «сбрую», прислушиваясь к урчанию в пустом желудке.
В парке неподалеку от станции случайно наткнулся на скромный, заросший кустарником памятник командиру партизанского отряда Сковородину и даже присвистнул от удивления, потому что в поезде гадал, мудрил над названием станции, выискивая этимологическую основу названия, а все оказалось так по-советски просто.
Позади вокзала толпились молодые парни и девушки в зеленых спецовках. Здесь же инструктировали тех, которые будут допущены к генсеку. На площади телевизионщики разматывали кабели, устанавливали камеры. Сам вокзал внутри отремонтировать не успели, но снаружи выкрасили, вылизали, как и заборы, привокзальную площадь, перрон. Даже кособокий продовольственный магазин прошуровали ярко-желтой краской, и он стал походить на старуху, которая накрасила губы и нацепила коротенькую юбчонку.
Вокруг сновало много милицейских чинов с жирными звездами, неторопливо прохаживались комитетчики, но его ни разу не остановили, может быть, потому что шел споро, уверенно, не оглядываясь по сторонам. И все же Барсуков завернул петлю, словно был втиснут в регламент и шел на встречу со связником. Вышел на улочку, обсаженную деревцами, что тянулась вдоль подъездных путей, прямо возле бани. Она, как ни странно, работала в этот день, и Барсукову вдруг нестерпимо захотелось помыться, похлестаться веничком, аж спина зазудела. Оглядывая потных красномордых мужиков (они покуривали, обсыхали в холодке), прошептал с нарочитой злостью: «Погоди, попарят тебя ребята из “семерки”».
Через первый заслон Барсуков прошел легко с единственной фразой: «Повнимательнее здесь, грузовик вам обзор перекрыл…» И так же решительно, со строгой озабоченностью на лице, подошел к оркестру, узнал, все ли в порядке. Поинтересовался относительно запасных барабанных палочек у дирижера. А когда стали выводить на перрон бамовцев, сунулся к старшему со своим окриком:
– Не торопитесь! Пусть задние подтянутся.
Прошел вместе с ними на заранее отведенное место.
Стояли на солнцепеке долго, около часа, и, когда подошел укороченный спецсостав, бамовцам было непросто изображать радость на лицах. Жарил вовсю оркестр, уже не раз прокричали «Ура!», изнемогли от улыбок лучшие комбуры Амурской области, а генсек все не выходил.
Вот вывели его на специальный трапик, переброшенный от вагона на перрон, а Брежнев все клонил голову на грудь, никак не мог ее приподнять, что Барсуков видел отчетливо. Их разделяло метров пятнадцать-двадцать, а он из браунинга бельгийского производства с двадцати шагов всаживал всю обойму в центр мишени. Удобный момент. Телохранители не перекрывали обзор… Но словно заклинило. Да и не работали телевизионные камеры, которые остались в глубине привокзальной площади. «Я должен пристрелить его во время трансляции, чтоб страна видела», – так он задумал и не хотел менять принятого решения.
Бамовцы расступились по команде, и Брежнев, поддерживаемый крепко с двух сторон, двинулся к зданию вновь отстроенного вокзала. Народ на перроне тут же сомкнулся, отсекая Барсукова от генсека, окруженного телохранителями. Тугой резиной монолитился народ, но Барсуков упорно пробивался вперед, шепча в затылки: «Спокойней, не напирайте, товарищи. Спокойней».
Впереди оставались лишь несколько рослых парней в зеленой бамовской униформе, и буквально в пяти шагах от них стоял Брежнев с бумажкой в руках и привычно что-то гундосил, как псаломщик. Сбоку пискнул зуммер карманной рации, и он мог бы еще присесть и выстрелить снизу между ног, но промедлил… Его взяли в тиски с двух сторон, жестко сдавили обе руки на излом.
– Тихо! Без глупостей! – вышепнул жарко в самое ухо рослый парень в зеленой бамовской спецовке.
Барсуков обмяк, расслабился, словно не было оперативной работы, долгих тренировок…
– Но теперь я благодарен этим парням из Седьмого управления. Я так и на суде сказал.
– Почему?
– Да потому, что кретин стал бы героем, великомучеником. И все дуремары мне бы спасибо сказали.
– А народ?
– А что народ? Народ безмолвствует.
Автозак остановился. Загомонили этапники. Лязгнула металлическая дверь…
Малявин плохо понимал то, что говорил Крытник-Барсуков, готовый драться с ним за свой социализм, за любимых вождей, и одновременно жалел его: в лице костистом, высушенном тюрьмой, следствием и страданием, во всем его облике проглядывала та решимость, без которой не сладить ни одно стоящее дело.
Отомкнули решетку собачника, приказали ему выходить первым.
– Прощай, суслик, – буркнул Крытник, готовый на смерть и муку ради красивой идеи, как большинство кабинетных идей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































