Текст книги "Убитый, но живой"
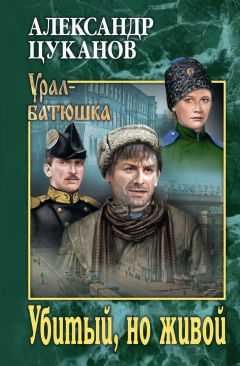
Автор книги: Александр Цуканов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 33 страниц)
Председатель комиссии ответил, что оставить-то, мол, можно, да проку от него никакого.
– Будет прок, если вынести решение, что на производстве малых двигателей плохо работают с выпускниками, с молодежью. Парня же перевести на другое производство да в хороший техотдел, где его могут научить делу, поднатаскать.
Члены комиссии закивали одобрительно и с некоторым даже облегчением, что все так хорошо обкрутилось. И мать осталась довольна. Только сам парень был безучастен. Ему – ничего не нажившему – нечего было терять, он прикидывал и раньше, что нужно тикать с этой каторги и, если не получится приткнуться в денежный кооператив, сунуться в небольшую шарашку, где за эти же деньги можно спокойно валять дурака, пока не призовут в армию. Деньги его особо не заботили: если бы не нужда в каждодневной трешке на карманные расходы, он предпочел бы совсем не работать.
Малявин пометил в блокноте фамилию председателя комиссии – Ашоков, рядом фамилию парня – Зубако, хотя оба были ему несимпатичны. Про Ашокова знал из газетного очерка, называвшегося «Несгибаемый Азамат», но сейчас, глядя на сухого, морщинистого старика, все одно не мог поверить, что это и есть тот самый Ашоков – герой войны, чудом выживший после ранения в голову. Как не мог поверить, что из этой флегмы, как окрестил парня, одетого в импортную куртку с множеством карманов и замков, с нелепо окрашенными в два цвета волосами и взбитым чубом, может выйти что-то путное, а тем более цеховой технолог. «На остров бы необитаемый этого сучонка!» – подумал было Малявин, но тут же осадил себя. Больше того, даже попробовал представить себя восемнадцатилетним, после чего возник такой мощный наплыв ощущений, что ему стало жарко. Он сказал невпопад:
– Не в прическе же дело!
– Что вы хотите сказать? – обернулся полный розовощекий мужчина, один из членов комиссии, предлагавший поначалу гнать парня к чертовой матери.
– Да вот смотрю на джинсовую форму, на его прическу и себя вспомнил с волосами до плеч и в неимоверно расклешенных брюках.
Кто-то из сидевших вдоль стола мужчин хохотнул раскатисто, с захлебом, а полненькая блондинка с ярко-красными губами сказала, сощурив глаза:
– Ох, как вы шутите, Иван Аркадьевич!
Малявин ничего не ответил. Ему делалось как-то тягостно, если возникал восемнадцатилетний учащийся техникума Ванька Малявин – нечистоплотный и злой парень. Блондинка, кокетливо улыбаясь и поигрывая глазами, что-то спросила, но Малявин не разобрал среди начавшейся разноголосицы, а переспрашивать ему не хотелось эту женщину, притворно удивившуюся тому, что до армии он был самым обыкновенным охламоном, словно она забыла, что в семнадцать лет (это угадывалось в лице, глазах, проглядывало в одежде, ужимках и позволяло ему думать именно так) была всего лишь смазливой шлюшкой с грязно-серым начесом на голове, в мини-юбке из трикотина и с приторным ароматом дешевых цветочных духов, сквозь который все одно просачивался запах застарелого трихомоноза. Но как бы она оскорбилась, завопила, напомни ей Малявин такое, потому что старательно перевоплощалась и уже сжилась с ролью вальяжной дамы, жены одного из солидных командиров производства, а значит, тоже немного начальницы, которая может себе кое-что позволить…
Только в начале седьмого Малявин смог позвонить Шаболовым, тайно надеясь, что встречу перенесли, что они вдруг одумались. Он так и спросил сразу, когда Володька алекнул. А Шаболов ответил:
– Как же отменишь, если они уже поднялись в квартиру? Но без Димы я начинать не буду… Ты подъедешь? – спросил Володя Шаболов, и в голосе его пискнуло волнение.
Вперебивку зазвенел голос его жены Марины:
– Привет, Малявин! Ты побыстрей, а то у меня коньяк припасен настоящий, армянский, лимоны к нему.
Иван мгновенно представил Шаболиху (так ее звали шутя) – верткую, модно и броско одетую, пахнущую французскими духами, но не какими-нибудь там «Клема», так полюбившимися советским торговым работникам, и даже не «Мадам Роша», а чем-нибудь сверхмодным, вроде «Гюрзы»; как глазки у нее поблескивают от предвкушения больших денег, которые она потом спрячет непременно на кухне в банке из-под крупы или вермишели, чтобы потом сразу выложить, как только удастся сторговать приглянувшуюся им дачу в кооперативе «Березка».
Но, как это часто бывает зимой, пронзительно подвывал стартер, и не хватало малости, чтобы двигатель завелся. Благо подвернулись два паренька, толкнули под горку, за что он подбросил их до Дворца спорта.
Когда поднялся на четвертый этаж к Шаболовым, было около семи. Дверь открыла Марина. Впустила и тут же, наклонившись к нему близко, как для поцелуя, прошелестела:
– Уже договорились – один к двум. Считаем деньги. Раздевайся быстрей и проходи.
Хотела юркнуть в ярко освещенную комнату, но Малявин придержал за локоть и так же, наклонясь к ней и невольно окунаясь в будоражащий сладкий запах ее макияжа, волос, прошептал:
– Я пока посижу здесь, а ты им скажи, что братишка младший пришел.
Он повесил куртку, сдвинул телефон и уселся прямо на тумбочку, стал разглядывать покупателей, сидевших к нему спиной. Точнее, спиной сидел блондинистый мужчина в кожаном пиджаке, а второй – с богатой черной бородой, росшей от самых подглазьев, – сидел полубоком. Все пятеро расположились вокруг журнального столика, придвинутого к дивану. Сидели они у дальней стены с двумя большими окнами, глядевшими на проспект, название которого менялось с приходом к власти каждого нового главы государства, а ныне он и вовсе остался без названия и жители предлагали назвать его на все времена – «проспектом имени Вождя».
Деньги и пачка узких зелененьких сертификатов переходили из рук в руки. Марина считала медленно полусотенные купюры, боясь ошибиться, шевелила при этом губами и так старательно вела счет, что у нее на лице проступили красные пятна.
– В пачке сто тридцать шесть купюр, – сказала она, пересчитав деньги трижды.
Бородач даже не взглянул на нее, показывая тем, что он истинный кавказец и такие дела решает с мужчинами. Смотрелся он совершенным абреком из-за густой черной бороды, резких жестов, акцента. И только костюм из толстого сукна в крупную клетку с узким галстуком приглушал его диковатый разбойный вид. Бородач повернулся к Шаболову и, постукивая ребром ладони по инкрустированной столешнице, стал объяснять, что уезжал в Ригу, а этому вот, он кивком показал на своего напарника, оставил деньги на хранение, и теперь не хватает. Он так коверкал слова, огрубляя их и нажимая горлом, что понять его было непросто.
– Дай сюда! Снова буду считат, – потянулся бородатый к пачке полусоток.
– Ты сам клал их в дипломат, я не трогал. Сразу четырех штук не хватало, выходит! – стал несколько запоздало оправдываться блондинистый в кожанке, поднимая голос до крика. – Считать надо было лучше!..
Малявин ощутил секундную спазму и даже подернул плечами, как от озноба. Голос показался знакомым… или же сама интонация под блатного, привыкшего чинить разборки. Во всем этом ощутил он фальшь, наигрыш.
Дмитрий Лунин поднялся, стал прохаживаться по комнате, поглядывая на Шаболова так, словно выговаривал: «Теперь-то видишь, с кем связался?»
А блондинистый, будто угадав затаенное, повернулся к Лунину, взялся пояснять, что Жора просто обсчитался и волноваться не надо.
– Все бывает… Но сюда-то вас на веревке не тянули, – ответил Лунин спокойно, без нажима, хотя его возмущало это неприкрытое торгашество.
– Правильно, – поддержал его Шаболов, – или как сразу договорились, или давайте прощаться.
Сидел он понурый, пожевывая-покусывая верхнюю губу и зациклившись на этих двухстах рублях, из-за которых разлаживалась сделка. Он уступил, если бы не упрямство жены и ее твердо сжатый кулачок – им она грозила, давая понять, что нельзя уступать.
Хмурые лица мужичков забавляли Марину Шаболову, как и то, что они не понимали простейшего: не солгать, так и не продать. Она любила и, как ей казалось, умела торговаться с шуточками, с подковыром. Если бы не этот кавказец разбойного вида, который ее взглядом обносил, будто стул, она бы выколотила недостающие деньги, припрятанные покупателями до случая, для торговли, о чем ни Лунин, ни Володька не догадывались.
Они смотрели неотрывно, как подбивает о столешницу пачку денег бородатый кавказец, равняя их, как стягивает черной резинкой – такой обычно прихватывают женщины волосы в пучок. Бородач подержал деньги на ладони, как бы в нерешительности, словно не знал, что с ними делать, – сказал:
– Здес шэст восемсот! Давай, шытай снова…
– Я уже трижды считал, – ответил Шаболов, а Марина поддакнула: сколько, мол, считать – и придвинула к себе пачку сертификатных чеков.
– Последний слово. Три с половиной ваши – мой шест восемсот!
– Нет, нам нужно ровно семь тысяч, – с наигранным возмущением ответила Шаболова, а про себя подумала, что они потом эти двести рублей пропьют в кабаке, да еще посмеются над ними.
– Нас нэ понымат, – сказал бородач, протягивая деньги напарнику в кожане, а тот ему – дипломат. А следом выкрикнул что-то схожее с русским «была не была!» Заторопился: – Хорошо. Дай тры четыреста. Хвалу, друг, не уступил! Бэри монэты…
При этом бородач так размахивал руками, что столкнул со стола дипломат. Тут же поднял его, ощерясь в улыбке и приговаривая: «Вах, вах, вах!..» А его напарник все держал над столом пачку – только теперь уже в левой руке. Шаболов взял перетянутую черной резинкой пачку, а бородач придвинул к себе ярко-зеленые, похожие на пятидесятирублевки, ассигнации Внешторгбанка и раскрыл на коленях дипломат.
Малявин все рассчитал. Он стремительно вошел в комнату, молча ухватил блондина за левую руку и рывком развернул его на себя.
– Алик?! – вдруг выдохнул он, тараща глаза с той крайней степенью удивления, какую невозможно подделать. – Алик, черт побери! – сказал уверенно и сердито.
Мужчина приподнял правую руку к лицу, словно защищался от удара, подался назад, бормоча: «Ошибся ты, парень, ошибся…» Но Малявин нападал, поэтому быстрее прорвался сквозь шок, замешательство, ухватил резко Алика за лацканы пиджака и потянул на себя, словно хотел вцепиться зубами в это ненавистное лицо.
– Вот так встреча, ростовский хмырь!
Сильно ударить головой Алику-блондину помещала кожанка, собранная у горла в гармошку. И все же он боднул Малявина в нос. Вырвался. Чуть не упал, зацепившись за стул, и кинулся к выходу. Но Малявин в два невероятно огромных прыжка настиг его у дверного проема, навалился сзади, уцепив жестко левую руку, и ее же рывком безжалостно заломил вверх, к самому загривку. Почувствовал, как обмяк, сломался от боли «ублюдок» – иначе называть его он не мог, – выдернул из рукава, с нашитой там липучкой пачку настоящих полусотенных купюр, хотел отбросить деньги Шаболову… Тут-то и ударили, как ему показалось, ломом в спину и этим же ломом по железу.
Когда второй выстрел вбил его в стену, он все одно не мог, не хотел верить, что стреляют «взаправду». Заваливаясь на дверной косяк и оползая вдоль него, Малявин успел увидеть перевернутый стол, Володьку Шаболова, роняющего на стол и на пол куски резаной зеленой бумаги, бородача с пистолетом в руке, а рядом Лунина, скорчившегося от удара в пах, и даже увидел широко раскрытый рот Маринки, но самого крика уже не слыхал.
Не слыхал, как кричала она, сглатывая слезы, пока Шаболов вызывал по ноль-три «скорую помощь».
– Ваня, Ванечка! Мы продавали один к одному!..
И как затем орал в трубку Володька, дозвонившись Идрисову:
– Ты с кем свел нас, ублюдок? Они Ваньку убили, нас ограбили… – Крыл его матом.
Маринка висла на руке, вырывала трубку, чтобы крикнуть:
– Марат, запомни!.. Запомни, что мы сговаривались продать оптом один к одному. Один к одному!
После этого Маринка зашлась в истерике. Она стучала кулачками, билась всем телом об пол, запорошенный зеленой бумагой, и рыдала безутешно, неостановимо от жалости к ним всем, к себе… Она оплакивала красивую дачную мечту, умершую теперь навсегда.
Оперативная группа, которую возглавлял майор милиции – мужчина рослый, с широкоскулым округлым лицом, а главное, деловито-спокойный, – прибыла минут через двадцать после звонка Шаболова. Майор расспрашивал, давал указания помощникам, разглядывал пол, стены. Он уже сообразил, что история банальная, если исключить вооруженное нападение: один на двоих портфель-дипломат, который нужно уронить, чтобы сбить внимание, и партнер успел надежно «подставить куклу», а третий в машине с работающим двигателем ждет внизу. Так делают обычно опытные профессионалы, и если не случай, некоторое везение, то поймать их почти невозможно. Истории с мошенничеством случались нередко, и майора удивляла каждый раз человеческая глупость, особенно таких вот – сорокалетних, грамотных, имеющих множество книг в шкафах и вдоль стен, занимающих приличные должности. Он так и сказал, не сдержавшись, в сердцах:
– Какого дьявола вы связались с этими уголовниками?!
Но что мог ответить ему Шаболов?.. Он гнулся на стуле, обхватив голову руками, и дивился, как сразу не разглядел эти хари, их сущность бандитскую, не отбрил вместе с ними Идрисова… «Насмехался над Ольгой. А сам растерялся и даже не жахнул бородатого стулом по голове», – укорял себя Шаболов, но особенно за то, что уговорил приехать Малявина, которого, как куклу, заматывали в бинты. Тот не издал ни звука, и похоже… Даже мысленно Шаболов не хотел подпускать это слово, а оно просочилось. И стало ему еще горше от понимания, что ничего изменить нельзя.
Едва такси въехало, обогнув длинную девятиэтажку, во двор, Ольга Петровна сразу увидела «рафик» с красной полосой, и лицо у нее затвердело, как от мороза. Она знала, она была уверена, что вызов – из сорок седьмой квартиры, поэтому сунула таксисту трешницу без раздумий и побежала к подъезду. У входа чуть было не столкнулась с милиционерами, которые несли передом носилки, а сзади их нес рослый санитар.
– Это из сорок седьмой? Да?.. – спрашивала она, сразу заболевая от этого мучительного незнания.
Мужчины прошли мимо нее молча, одышливо покхекивая, а когда приостановились у задней дверцы, то Ольга Петровна разглядела сквозь запотевшие очки, что это не ее Дима, а кто-то другой, и обрадовалась… Тут же стало стыдно, что она подумала о Малявине «кто-то другой», но все равно это не шло ни в какое сравнение с тем, что она ощутила, лишь предположив, что на носилках лежит ее Димушка.
Из подъезда вышел мужчина в белом халате. Ольга Петровна поймала его за рукав.
– Живой? – спросила, смаргивая набегавшие слезы.
– Два огнестрельных… Но позвоночник, похоже, не задет. Пока живой, – ответил пожилой мужчина с бледно-серым лицом тихо, без ободрения и улыбки, как это делают обычно врачи, успокаивая родственников.
– В какую вы его? – спросила Ольга Петровна.
– Наверное, в областную, в реанимацию, – ответил он и сунулся мимо нее в кабину «рафика», потому что не хотел и не мог объяснять из-за усталости к концу суточного дежурства, прилипчивого насморка, февральской промозглости, множества вызовов, расспросов, от собственных пятидесяти двух лет…
Обиженная его торопливостью, она выговорила:
– Вы человеческий врач или ветеринарный?!
После этого как бы растормозилась и теперь уже знала, что нужно делать, как спасать Малявина. Побежала по лестнице в сорок седьмую, готовая отдать кровь, свои золотые безделушки, доставать дефицитнейшие лекарства. Ольга Петровна почувствовала себя виноватой перед Иваном за ту обрадованность и что не может жалеть его так же, как своего мужа Диму, к которому чувство любви в устоявшейся размеренной жизни притупилось за последние годы, но вдруг прорвалось, сверкнуло по-прежнему ярко, затмевая все остальное.
– Что же вы сидите? – закричала она с порога Лунину и Шаболову, не обращая внимания на майора, на лейтенанта милиции, строчившего что-то на разграфленных листах.
Шаболов вскинул голову, удивленный ее наскоком и приездом, хотя ей никто не звонил. А Лунин вышел навстречу, прижал к себе, как бы успокаивая, чтобы с ней не случилось истерики, сказал:
– Оленька, милая, что мы можем теперь? Раз так вышло…
Она приняла эту его заботу, глянула в лицо, отмечая неестественную бледность и отстраняясь от него. «Что случилось с тобой?» – хотела спросить, но Дима догадался, ответил:
– Ударил ногой этот мерзавец-бородач. – Дмитрий не хотел поминать, но не сдержался, пожаловался. И тут же добавил: – Теперь почти прошло, отпустило.
– Володька, у тебя мать так и работает в облздраве? – спросила на всякий случай Ольга Петровна. – Тогда звони ей немедленно. Надо узнать, кто оперирует хорошо. Двух-трех хирургов фамилии и телефоны… Не маститых, а дельных, толковых. Да еще узнай, где лучшая операционная!
– Я и так знаю. В четвертой, в обкомовской. Там в прошлом году установили шведское оборудование, – ответил досадливо, потому что не хотел вкручиваться в эту суету, и чуть было не сказал: «У меня такое несчастье, а вы!..» Но тут же сообразил, что, спасая Малявина, спасает и себя. Буркнул: – Позвоню. С хирургами мать поможет договориться… А с обкомовской сложнее.
– Ты звони, звони давай! А мы от соседей еще в одно место звякнем, – заторопилась она и потянула Лунина к двери.
– Надо звонить Степану Ильичу…
– Но ты же знаешь!..
– Да, знаю, что вы рассорились, что ты ни разу к нему не обращался. Но, Дима, дорогой, представь, что Малявин умрет. Ты себя казнить будешь. А еще его дети и прочее все…
– Я телефона даже не знаю, – ответил Лунин, стараясь преодолеть всегдашний зажим, ту неприязнь, которая возникала невольно, если разговор заходил о родном брате отца – Степане Ильиче. Еще в шестьдесят втором году, когда Дмитрий уехал по распределению на Север, он предложил матери поменяться квартирами: двухкомнатную большую квартиру в центре на его однокомнатную в новом доме. «Временно. От силы на год-два», – уверял Степан Ильич.
Но в шестьдесят пятом, когда Лунин приехал с молодой женой и сыном в Уфу, родной дядя, только что утвержденный завотделом в райкоме партии, наотрез отказался перейти в свою однокомнатную. Лунин, вернувшийся с Крайнего Севера, где отношения между людьми были грубоваты, где жестокость уживалась с сентиментальностью, а в отместку за подлость могли подстрелить из ружья, был потрясен откровенным цинизмом, обманом единокровного человека. Подобное на северном прииске, где он честно оттрубил три года, не позволил бы себе распоследний ханыга.
Его Оленька знала эту историю доподлинно, на себе испытала, что значит жить вчетвером на шестнадцати метрах, и все же настаивала, давила на кнопку соседского звонка. Затем через знакомых узнала домашний телефон Степана Ильича, ставшего, по меткому определению родни, непотопляемым вице-губернатором.
Когда Дмитрий представился, возникла пауза, и ему показалось, что Степан Ильич вот-вот швырнет трубку… Но нет, в трубке зарокотал оттренированный басок:
– Что ж, здравствуй, племянничек.
Просить всегда нелегко, а тут втройне, и все же Лунин сказал, что нужно сказать, и даже поднажал на то, что Иван – не просто Иван, а председатель профкома крупнейшего в области машиностроительного объединения. По одобрительному поддакиванию понял, что Степану Ильичу теперь непросто отказать. И, возможно, лишь страхуясь привычно, выгадывая минуту-другую, он спросил о здоровье свояченицы, так и не решившись назвать ее как когда-то просто Катей. Дмитрию захотелось рвануть ворот, рубануть: «Умерла семь лет назад не без вашей помощи…» – но преодолел искушение, ответил, как надлежало, и выслушал трафаретное соболезнование.
Степан Ильич давно помышлял помириться с родственниками, и однажды возник весомый повод – женитьба сына, но из семьи брата ни один не откликнулся, хотя каждому его личный шофер развез и вручил красочные приглашения. А тогда он был в самой силе, мог устроить детям и внукам брата хорошее жилье, автомобили без очереди, путевки льготные в любой конец земли и многое, многое другое, о чем они не помышляли, надувшись по-мышиному из-за той разнесчастной квартиры, которую он все же вернул им…
Теперь, после замены первого, просидевшего в этом кресле без малого двадцать лет, ему стало не до квартир и прочих земных благ, ему хотелось лишь продержаться еще три года вторым, чтобы уйти с почетом в пенсионеры республиканского значения с множеством мелких, но очень значимых льгот. Однако хорошо развитым верхним чутьем породистого чиновника почувствовал, угадал, что не досидеть. Впрямую Степан Ильич не был замешан в денежно-подарочной карусели, он не откусывал от огромного пирога с хищной нетерпячкой, ему хватало привилегий, которые давало положение – должность второго лица области.
А во время отпусков и заграничных поездок первого он даже обретал неограниченную власть над тремя миллионами сельских и городских жителей области, производством, финансами…
– Чистюля ты, Степан Ильич… Да больно грамотей. Ох и грамотей! – говорили члены бюро обкома с откровенной издевкой, когда он «выступал», оспаривал их решение, и смотрели на первого – человека деспотичного, тщеславного. Он мог и умел осадить с матерком, мог зло высмеять или же просто стравить аппаратчиков между собой, однако нападки на второго не поощрял, словно выжидал. Ему, похоже, был нужен один мало-мальски взбрыкивающий человек, чтобы все походило на правду, и он помогал Степану Ильичу создавать реноме правдолюбца. Рядом с председателем облисполкома – человеком откровенно безграмотным, едва осилившим восьмилетку, а все остальное – заочно, или эмвэдэшным генералом Петровым, взимавшим оброк с ликеро-водочного завода, но не пренебрегавшим мешком картофеля, доставленного на дом бесплатно, Степан Ильич выглядел очень приличным человеком. И, случалось, выручал из беды людей, помогал им, встревал в дела местной цепкой мафии… Но иллюзий не питал, знал, как мгновенно все может перевернуться, если подбзыкнет первый. Один неверный шаг может стать концом карьеры.
Степан Ильич – один из немногих в обкоме, кто ждал по-настоящему перемен, прихода нового первого, потому что знал отлично промышленный потенциал области, сам считался когда-то толковым инженером. Знал, с чего нужно начать, если развяжут руки, но, стоило ему разворошить этот муравейник, он вдруг с ужасом понял, что процесс стал саморазвивающимся, вышел из-под контроля, и требуется неимоверно могучая сила, чтобы повернуть его в нужную сторону… Болезнь зашла слишком далеко, да и сил, как оказалось, уже нет. Они ушли на аппаратную жесткую борьбу… Был готов, а все же крепко прищемило сердце, когда с иезуитской услужливостью передали слова нового первого, брошенные спехом, после одного из совещаний, что «Лунин не тянет».
– Пусть везут вашего парня в четвертую. Я договорюсь, – после некоторого молчания произнес Степан Ильич.
Он терпеливо выслушал суховатую благодарность племянника и трубку не положил, а все ждал, что Дмитрий скажет слово искреннее, родственное или попросится в гости. Тогда бы он шиканул в последний раз, попросил завгара выделить на часок старую «Чайку», а не то и бронированный «ЗИЛ»…
Но Дмитрий ничего больше не сказал, да и не мог сказать, потому что давно воспринимал Степана Ильича лишь как однофамильца.
Едва Малявин осознал себя, свою телесность, он сразу же наткнулся на глаза. Глаза густо-ореховые, с искрой, смотревшие пристально, выжидающе. А другие – желтые, с поволокой, похоже, от усталости и долгого горестного ожидания. Он даже понял обращенный к нему вопрос:
– Когда и где вы познакомились с человеком, мошеннически ограбившим Шаболовых?
Вопрос, произнесенный мысленно от скуки не один десяток раз, задал мужчина лет тридцати с мощной шевелюрой, выделявшейся ярким черным пятном на фоне белых стен, халатов, простыней. Мужчина повторил затверженный вопрос, затем сказал:
– Если вам трудно… можете не отвечать. – А сам все ждал, вглядываясь в пепельное лицо, ему верилось, ему хотелось, чтоб Малявин дал конкретные зацепки, а еще бы лучше адреса.
Но Малявин, если бы мог, то сказал бы: «Дайте воды». А не мог. Губы, язык, да и все тело было замороженными, и, ощущая легкое покалывание в ступнях, он решил лежать тихо и ждать, когда тело оттает совсем…
Второй раз Малявин очнулся, ощущая под собой раскаленную печку. Его корежило на ней, скручивало, как бересту, а крикнуть не получалось, губы спеклись от лютой жары. Выпростав ступню из-под одеяла, он толкнул стул, стоявший рядом с кроватью, и обрадовался, что сумел устроить такой грохот. Вбежавшей медсестре ничего не мог сказать, лишь смотрел напряженно, просяще, и она догадалась, стала поить его с ложечки.
Он даже очень удивился, что может выговорить женщине: «Спасибо». А еще лучше – сказать это без усечений: «Спаси Бог, спаси Бог…» Едва слышно, а затем уже громче он стал настойчиво проговаривать телефон Луниных и объяснять, что они сразу поедут к жене, где нет телефона, что это очень важно…
– Да ведь три часа ночи, – возразила медсестра.
– Они ждут, вы позвоните, позвоните, – требовал он, угадав, что женщина не может ему отказать.
Когда она вернулась, спросил: что, мол, ответили?
– А ничего, плачут и благодарят… Вот и все, – пояснила женщина грубовато, как бы отсекая дальнейшие попытки вести разговор в четвертом часу ночи. Она сидела на стуле, сжимая коленками кисти рук и чуть покачиваясь, а рот ее непрерывно растягивался в спазматической зевоте, а она даже не прикрывала его ладошкой и неторопливо, тягуче размышляла о завтрашнем дне…
– Да вы идите… Прилягте. Мне нормально. Идите.
– Может, нужду справить, так не стесняйтесь, я подложу? – спросила с едва приметной улыбкой медсестра – эта простодушная женщина, которая устала, хочет спать, которой осточертела больничная жизнь и эта мизерная зарплата на полутора ставках, но все одно она – милосердная сестра.
«Что произошло? Как и почему?» – это стало не главным, могло подождать, над ним нависал, домогаясь ответа, бесконечно длинный и очеловеченный вопрос:
– Где и когда вы познакомились?.. Где?..
Если бы Малявин мог, то усмехнулся, вспомнив ту давнюю ереванскую историю, которая вдруг вывернулась из-под него… Он упал в тот самый момент, когда, казалось, ничто не предвещало беды, когда он освободился от многолетнего страха, присущего всем, кто становился рабом «итэушной» системы с диктатом ублюдочной силы. Он только обрел Бога и сам стал частицей его… Поэтому лишь что-то, отдаленно напоминавшее злость, возникло, когда он вновь вспомнил, как два мерзавца, выпестованных десятилетиями «перековок», прострелили его ни за что ни про что.
А потом ему вдруг пригрезился огромный ажурный блин, похожий на солнце и такой горячий, что пальцы припекло, они болели от этой раскаленности, и все же он схватил густо смазанный маслом, быть может, последний свой блин…
Иван Малявин не знал, что подступило мартовское утро, разгорался последний день Масленой недели, называвшейся когда-то Прощеным воскресеньем, а ныне – днем работников торговли. Праздником, совершенно удаленным от души человеческой, как и все остальное в этом – совсем не вдруг – перекосившемся мире, где не стало прощения, покаяния, милосердия и еще много чего важного, без чего жизнь для миллионов людей стала не в жизнь, не в радость, а в тяжкую повинность. И как бы он ни старался, благодать и радостное успокоение не приходили, не давались ему. И помолиться он сам не умел, и некому было помочь ему в этом, а душа так просила причастия и покаяния, рвалась от замурзанного тела.
Иван Малявин лишь шептал, осознав смысл простого «спасибо» – шептал и шептал:
– Спаси Бог, спаси Бог…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































