Текст книги "Убитый, но живой"
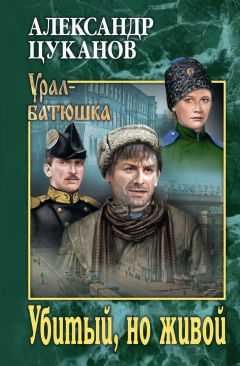
Автор книги: Александр Цуканов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Но пытался проскочить в узкую щель своего: хочу, мне надо! Два дня старательно поил прораба водкой, а на третий пришел рано утром к нему домой. Женщины пускать не хотели.
– Он же весной чуть не умер! – сказала та, что постарше. А Малявин закашлялся и попросил водички, потому что не мог смотреть им в глаза. Но твердо знал, что прораб первым делом спросит: «Опохмелиться есть?»
Так оно и вышло. Он лежал одетый на грязной постели и молча смотрел, как танкист, щуря глаза, в смотровую щель. Он слышал разговор и теперь презирал его, и надеялся, что прорвется кто-нибудь из нормальных строителей. Выйти из дому, не похмелившись, он не мог, и лежать так не мог, а жена и родная сестра, жившая с ними, не верили, что, не похмелившись, он может умереть, так же как может умереть, выпив водки.
Малявин выждал, когда угомонятся, уйдут из-за спины женщины в темном.
Первые полстакана прораб выпил, едва сумев оторвать голову от подушки, а через пять-десять минут он сидел и листал наряды, которые Малявин надеялся подписать в полном объеме. Но даже вполпьяна, совсем больной, прораб читал их и на одном, только ему ведомом чутье вычеркивал завышенные объемы:
– Ишь ты, сукин сын!.. Наливай.
Когда прикончили бутылку, прораб нетвердой рукой вывел на каждом бланке свою подпись и заново рассказал, сколько он видел за двадцать лет работы разных шустряков, которые хотели его подвести под тюрьму. Малявин слушал плохо и прикидывал, что по пятьсот рублей должно получиться, и радовался, уже подсчитав, что на заводе столько же выходило за четыре месяца.
С этим шел к дому Джалилова, где заканчивали ладить большой кирпичный сарай-конюшню для его кумысных кобылиц. Бригады не было, и, судя по брусьям, что он привез недавно на стропила, не работали весь день. Посидел на подмостях, подождал, смутно надеясь, что кто-нибудь подойдет.
Они пили портвейн и толковали про него. Он это понял, когда вошел. Про зарплату сентябрьскую говорить не стал, расхотелось. На топчане спал пьяный Шейх, едва держал над столом голову Ленька. Толян лупоглазо таращился с паскудной улыбкой. Шурухан, красный, распаренный, угнув голову, смотрел с ненавистью. Так же был настроен Семен, самый маленький по комплекции, он, как ни странно, самый трезвый.
– Бугорок, дай нам денег на вино! – потребовал Шурухан и уставился, не мигая своими рысьими глазками.
– Завтра все отдам, а сегодня нету, – ответил негромко, отрешенно, потому что враз понял: все, конец коммуне трудовой! Конец розовым мечтам, которые сразу стали грязно-серыми, как сарай, сложенный из силикатного кирпича с двумя маленькими оконцами, пропахший табаком, потом, винищем, в нем жили третий месяц, а казалось, очень давно. Малявин прилег на кровать, не снимая ботинок, и хотел, чтобы оставили в покое, и деньги имел бы с собой – отдал. Подумал: «Черт с ним, с аккордом, сделаю процентовку, закрою по нарядам двухквартирный дом».
– Присвоил наши денеш-шки, – прошипел Семен, поднимаясь из-за стола. – Сам тратишь…
– Только в дело.
– А домой послал две сотни? Отвечай, гад!
– Давай адрес, я весь твой пай отошлю.
– Поищи других баранов, жлобина. Дай добром денег, а не то!..
– Что «не то»? – Малявина понесло. Он вытащил наряды, отдернул табель и стал его рвать, выкрикивая: – Видел? Видел? Получишь, скотина, по выходам, за полмесяца, по фактической!
– А сам ты много работаешь?.. На машине по бабам раскатываешь.
Семен нарывался, он это понял и собрался уйти, но Шурухан схватил за куртку.
– Стоп, парень! Ты ответь: дашь денег?
– Врежь ему! – закричал Семен и ударил сзади ногой.
Пусть больно, обидно, но надо уйти, он это понимал, а переночевать мог бы в котельной… Поэтому всего лишь сказал:
– Эх, говно ты, Семен! Не мужик, нет…
– Это ты мне? Я в зоне срок отмотал, я таких козлов!..
Семен схватил со стола грязную вилку, такую же Малявин приставлял Рамазану к горлу, спасая их всех и себя, когда сделал пару шагов, развязно покачивая плечиками, не удержался, провел «правый прямой» с поворотом корпуса, как учили когда-то. Шурухана, кинувшегося сбоку, лишь подсек, сбил на пол: много ли пьяному нужно? Жалко стало, взялся поднимать с пола, а он вдруг вцепился в волосы, потянул резко на себя с хриплым рыком. Малявин повалился на колени и ничего сделать не мог, лишь перехватил его здоровенную ручищу и заблажил от боли, изрыгая матерщину. А Шурка безжалостно тянул, гнул к земле.
Он лежал, ткнувшись лицом в запорошенный окурками пол: «Хоть убейте». Слышал, как прыгает петушком Толик-Нолик, укоряет: «Зачем обидели Ваньку?!» Как Ленька Сундуков, мотыляясь от стены к стене, мычит жалобно: не надо, мужики, не надо… Когда они угомонились, затихли, он поднялся с пола, утерся рукавом и, стараясь ни на кого не смотреть, вышел на улицу. Здесь на самодельной скамейке сидел Шурухан. Спросил его:
– Скажи мне – за что? Ведь не из-за денег же? А я тебя уважал, Шурка…
Шурка-Шурухан мотнул головой, бормотнул что-то неразборчиво и заплакал, чего Малявин совсем не ожидал от этого бритоголового, заросшего рыжей щетиной, мужика. В нем плакало вино, но это было похоже на настоящие слезы.
Когда вернулся с деньгами и водкой, все валялись в сарае, словно подстреленные одной автоматной очередью. Зашла Наталья, оглядела строителей социалистического рая, ничего не сказала, не спросила, она слышала спор и крики через перегородку.
Малявин налил водки ей и себе. Выпили молча. Она зажевала хлебом, брезгливо оглядывая загаженный стол.
– Пойдем на нашу половину? Поесть соберу…
– Нет! – ответил он и тут же, испугавшись, что подумает как-то не так, начал сглаживать тон, чего делать вовсе не следовало.
– Дурак ты! Я разве не могу позвать просто… просто поболтать, покормить, да?
Смутился, потому что действительно подумал плохо, сам же и подставился, совершенно не умея понять ее. Чтобы прорваться сквозь возникшую отчужденность, он сказал, что закрыл наряды за сентябрь и чистоганом у каждого выйдет рублей по пятьсот. Но и это не обрадовало, она покивала, сказала: «Хоть бы получить на этой неделе», – и взялась будить Рината, а когда растолкала, то молча, по-прежнему отводя глаза, потащила на свою половину сарая.
На следующий день Малявину удалось получить сентябрьский заработок и он уезжал, сдав оставшиеся деньги, что лежали на книжке, документы, расписки Ринату. Уезжал с крутой обидой. Он не мог их понять, как, наверное, не понимали крестьян залетные комиссары, разные «тысячники», кричавшие: «Мы добра вам желаем!» Малявин любил повторять подслушанное где-то, что только в стране дураков оценивают людей не по уму, а по количеству съеденных макарон. И не предполагал, что двадцать три и тридцать три года разделяют не десять календарных лет. Тут иное. Шестимесячный щенок овчарки больше и сильнее иной дворняжки, но это щенок. В двадцать с небольшим горит в крови юношеский максимализм, потенция, мощное: я все могу, стоит захотеть! И прет наружу дуроломная сила, а настоящая мужская сила прибывает после тридцати. Зато убывает резвость. И похмелье от водки, как и от самой перекрученной жизни, все угарней, все гаже. Тем паче когда перевалит за сорок…
Они решили сделать общие деревянные нары, а Малявин притащил бросовую панцирную сетку и поставил на чурбаки. Он вечерами читал «Курс теоретической механики» как увлекательный детектив и вычерчивал на бумажках разные схемы, а они резались в карты и кричали: смотри, мол, свихнешься от своих учебников! Мужики торопились хватануть по стакану водки, а он осаживал их, старался аккуратно нарезать колбасу, хлеб. Они бурчали:
– Чего возишься, можно и так отломить.
– Мудришь ты все, – чаще других укорял Шурухан.
Когда прощались, он зла, похоже, не таил, улыбался, тискал руку, и все же выговорил:
– Молодой ты, Ваня, еще, необломанный.
Ленька Сундуков, как бы согласный с ним, молча пожал руку.
Ринат, страдальчески морщась, пытался уговаривать:
– А то плюнь! Оставайся, Иван. И Семен, я знаю, не против, просто у него характер дурной.
– Чего ты уговариваешь? Пусть катит, – подала неожиданно голос стоявшая сбоку Наталья, это прозвучало совсем неожиданно.
– Не лезь в разговор! – гаркнул Ринат, обычно тихий, добродушный. – Деньги за дом, Ваня, тебе вышлем, как адресок пришлешь. Ты не боись.
– Да я-то не боюсь. Аккорд жаль, две с половиной тысячи теряем.
Обнялись, оба долговязые, поджарые, с резко очерченными скулами, только Ринат покрупней, мужиковатей.
Семен пришел к остановке, но сидел отдельно. Под левым глазом у него расцветал багрово-сиреневый синяк, подмазанный из Наташкиной пудреницы. Малявин все поглядывал, надеялся встретиться взглядом, чтобы подойти и сказать: «Брось, Семен! Не держи зла». Но Семен-Политик старательно смотрел мимо.
Вместе с Малявиным уезжал домой в Уфу Толян-Клептоман, который много говорил, скалился, похохатывал, похожий на балалаечника. Им предстояло ехать вместе до Аркалыка, и там, пока будут ждать поезд, он вытащит у Малявина из сумки трико и электробритву – на долгую память, как бы оправдывая свою странную кличку. Но это будет позже…
А когда уселись в автобус, Малявин долго смотрел на Наталью, на четверых парней, оставшихся от семнадцати, что приехали в начале апреля в Тургай за длинным казахстанским рублем. Оглядел вереницу одинаковых домиков, среди которых выделялся лишь большой директорский дом с синими железными воротами, типовой магазин, столовую, клуб. И даже кладбище с мазарами из силикатного кирпича и полумесяцами из нержавейки казалось ему типовым, стандартным, как и вся здешняя жизнь, кем-то властно подогнанная под один шаблон.
За пыльной завесой едва виден «Радушный»… Он думал, что прощается с ним навсегда. Нет, во снах он не раз будет летать в сизом прокаленном мареве над степью и встречаться с Семеном, Ринатом, Шуруханом, и еще не раз будет угощать его курицей Рамазан, а потом бить вместе с Борей-Босяком жестоко и беспощадно…
Глава 24
Алдан. Гок. Золото
Иван Малявин замерзал насмерть в продувном холодном «пазике», потому что перехитрил сам себя, отправил вещи посылкой – чтоб с барахлом не таскаться. Ему хотелось выскочить из автобуса да прошуровать с километр, чтоб не замерзнуть окончательно, и он притопывал ногами, обутыми в легкие кожаные туфли, ступней почти не ощущал и мог лишь гадать, сколько часов трястись до Тынды. На географической карте эти двести километров от Транссиба до поселка Тындинский казались ничтожным пустячком, когда он определял свой маршрут от Аркалыка до Алдана, о котором не раз рассказывал отец. Он упомянул как-то об октябрьском снеге, морозах, но значения этому Иван, как и многому другому из того, что ненавязчиво проговаривал отец, тогда не придал. В Казахстане светило яркое солнце, в иные дни припекало по-летнему до двадцати градусов…
– Сколько ехать до Тынды? – спросил Малявин соседа и подшмыгнул носом.
– Еще часа два, не меньше, – ответил мужчина в штормовке и глянул пристально, как-то по-милицейски, разом подмечая, что парень одет не по сезону. – Что, инеем покрылся?
– Так ведь холодина! Не ожидал…
– Похоже, новоявленный бамовец, да? – Лицо мужчины в полумраке едва угадывалось, но Малявин усмешку в вопросе различил.
– Нет. Я в Якутию еду. Да вот дурака свалял, посоветовали почтой вещи отправить в Алдан до востребования.
Простодушное «дурака свалял» или что иное повлияло, но мужчина в штормовке выдернул из-под сиденья рюкзак и, покопавшись в нем, вытащил свитер, носки.
– Надевай, горе-путешественник! Корочки-то свои сними, ноги поставь прямо на рюкзак.
Петр Бортников, начальник геодезической партии, шумиху комсомольскую вокруг БАМа и самих комсомолят не признавал. Больше того, презирал. Он недавно рассорился вдрызг с новым начальником геологоразведки, который окончил партшколу, выучился грамотно писать рапортички, но путал нивелир с теодолитом. Девять полевых сезонов Петр Бортников отрабатывал различные варианты бамовской трассы, и каждый новый был труден грунтами с линзами плывунов или попадал в узкие долины, где нужно бить ложе в скальных грунтах, наталкивался на необъяснимые причуды рек вроде Олекмы и Чары. Он излазил участки западнее Тынды, знал с предельной дотошностью скверность здешних мест, где нужны не хороводы вокруг костра, а толковые спецы, истинные работники. А на лозунговый огонь мотыльками летели кто ни попадя, многие с простым, как три рубля, «заработать на машину», что повсюду не просто, а уж здесь, в Восточной Сибири, в устоявшейся неразберихе, тем паче. О чем он взялся рассказывать Малявину, спросившему про БАМ.
– Ни один путный работник в такое трам-па-ра-ра не поедет. Да их и не зовут.
– А я поехал бы.
– Ну, ты!.. Ты еще пацан. У тебя свербит. Тут много таких энтузиастов, не умеющих колышек грамотно затесать.
Малявину стыдно стало после таких слов Бортникова, будто впрямую к нему относилось.
– А я слыхал, что трассу бамовскую начали строить еще до войны? – решил он показать свою осведомленность.
– Нет, еще раньше. Первые изыскания на деньги сибирских купцов провели в 1908 году и наметили три варианта дороги в обход Станового нагорья до Нижнеангарска… А перед войной проложили участок Тындинский – Сковородино, вдоль него мы сейчас едем. Враги народа, кулаки и подкулачники отсыпали полотно и укладывали рельсы вручную. А это полмиллиона шпал, четыреста тысяч метров рельс и миллиарды!.. Миллиарды совковых лопат грунта, щебня. Эти работать умели. Если б их еще хорошо кормили… – Петр Бортников понизил голос до шепота. – Я прошел в числе первых по этому участку с нивелиром. Здесь в земле – тысячи нераскаянных русских душ?!
– И все цело?
– Нет. В сорок втором году уже иные «враги народа» сняли шпальные секции и перевезли их под Камышин. А ложе осталось. Местами, конечно, просело. Но ведь вручную и за один год, а ныне со всей техникой за четыре года не можем управиться. Но обязались японцам с первого января поставлять уголек из Беркакита.
– А где ж этот Беркакит?
– На границе с Якутией, ты мимо поедешь… Вот только на чем?
– На автобусе?
– Эх ты, якутянин новоявленный! Там билеты за неделю берут, а чтоб стоя ехать, бьются врукопашную похлеще, чем в Невере. Об гостинице в Тынде не помышляй. Глухо. Повезет, если завтра дальнорейсовики подберут, а то закочумаешь. Подумай, может, вернешься?
– Шутите, Петр?.. Как-нибудь доберусь, деньги у меня есть.
Только утром, простояв несколько часов на продувном пятачке у автовокзала, пытаясь поймать попутку, Малявин оценил гостеприимство и доброту Петра Бортникова, этого язвительного геодезиста, и поклялся не только выслать обратно старенький ватный бушлат, но и положить в посылку подарок, пусть совсем незатейливый, главное, чтоб от души.
Так и стоял бы Малявин до вечера у трассы, идущей на подъем в гору, да нашелся добрый человек, подсказал, чтоб шел он к столовой, где останавливаются дальнорейсовики.
Брать не хотели. На деньги, что он вытаскивал, предлагая заплатить заранее, даже не смотрели. Едва-едва Малявин уговорил молодого «мазиста» взять до Алдана. И только отсидев ночь в ногах у свернувшегося калачиком водителя оценил по-настоящему наглость своего: «Возьмите до Алдана, ну чего вам стоит?!»
В старинном по сибирским меркам поселке Алдан старательскую артель Таманова знали и дорогу к бараку, где она квартировала, показывали охотно. Неказистый мужичок в телогрейке, из-под нее выглядывала рваная тельняшка, вызвался сопроводить.
– Родственник, что ль? – не удержался, спросил он, как спрашивают простецки бичи и проститутки, которым до всего есть дело.
– Нет, на работу устраиваться, – буркнул Малявин, неприязни своей не скрывая.
– Это в зиму-то? Охолонись, парень! К ним весной с большим заковыром берут.
– Работал, что ли, у них?
– Пришлось однажды. Больно строго… Не по нам это.
Барак стоял крайним в улице и как бы подпирал сопку не сопку, но что-то похожее на нее. Рядом загородка с бульдозерами, самосвалами, раскуроченной техникой и вагончиками, где двое усердно что-то ломали или чинили, вздернув на ручной кран-балке хитросплетение железяк.
– Слышь, мужики! Хохмача к вам привел, на работу хотит. – Сопровождальщик расхохотался, ожидая, что ремонтники его поддержат.
– Что ты ржешь, Семен? Нам работяги всегда нужны. Только не такие ханыги, как ты.
– А я в вашу богадельню, Порох, за сто тысяч не пойду.
– Ну и проваливай тогда… А ты проходи в барак, парень. Спросишь там Ивана Мороза.
Иван Мороз, хозяин барака, трудился в артели с первого дня ее основания «за папу и за маму», как шутили старатели.
Первым делом спросил он Малявина: «Есть хочешь?» – а уж потом про все остальное. Кормил Иван всех, кто приходил устраиваться, за общим столом и разрешал переночевать, но это не значило, что человека возьмут на работу. Чаще Таманов, а иной раз сам Мороз говорил: «Извини, земляк, нам ты не подходишь». Обычно люди безоговорочно соглашались. Изредка пытались протестовать или уговаривали посмотреть в работе. Пока новичок ел за общим столом, рассказывал о себе, выспрашивал других или угрюмовато отмалчивался, Иван Мороз определял, брать или не брать на работу, больше того, потянет ли на полный сезон в их упряжке. Определял почти всегда безошибочно.
После обеда, когда в барак пришел Таманов, он рассказал в привычной своей манере, с матерком о колготне со спецовками, а потом про Малявина, что пацан дерганый, суетливый, успел там-сям поработать и побригадирствовать в Казахстане… «Если не врет, конечно. А в остальном положительный, правильный парень. Долго не продержится».
– Сколько осталось у нас зимовщиков? Четверо да мы с тобой. А дел – о-го-го! Сам знаешь. Заготовку и закупку мы с тобой как-нибудь одолеем. А вот с ремонтом техники, с запчастями хреново. Еще нужны самосвалы, ведь придется грунт из Лихого распадка возить. Последние анализы показали содержание до двадцати грамм на тонну, а здесь мы два-три имеем. Но в распадке нет поблизости воды.
– Качать будем воду.
– Ляпаешь, не подумавши! Это почти два километра трубопроводов, мощные насосы. Это новая подстанция… Ладно, разберемся. Зови парня.
Малявин старательно подготовился к разговору, первым делом решил рассказать, как собрал в Казахстане «газон», но Таманов вбил сразу, без предисловия.
– Скажи, Иван, что ты умеешь делать хорошо, по-настоящему?
– Я окончил техникум по специальности «двигатели внутреннего сгорания», имею водительские права, работал на авиационном заводе…
– Мне не нужны анкетные данные и характеристики от профкома, – прервал Таманов. – Что умеешь? Трактор знаешь хорошо?.. Лебедки, генераторы? А насосы?..
– При желании разберусь, – ответил Малявин без азарта после некоторой паузы, сообразив разом, что ему здесь не светит ничего.
– Ведь стужа начнется через месяц. А я, как гляну на твои хлипкие руки, сразу думаю: этот парень, не приведи господь, кувалду на ногу уронит. Ты, сынок, пойми меня правильно. У нас хорошие заработки, но и вкалываем мы против иных впятеро. Мне нужен механик опытный, а если снабженец, так жох, чтоб выведать, высмотреть мог все не только в Алдане, но и по всему АЯМу, от Невера до Колымы. Так что переночуешь – и бывай здоров.
Иван Малявин с трудом улыбку вылепил и голову не опустил, выходя из комнаты, служившей Таманову кабинетом, даже съязвил, как ему казалось: «Спасибо за науку».
Десяти минут не прошло, как влетел к Таманову старатель по кличке Порох, по имени Сашка Лепехин и загудел напористо, как будто опаздывал к поезду:
– Заявление принес, Алексей Николаевич. Надо ехать. Прислали телеграмму. Забирают, е-мое, сына в армию.
– Жаль, я на тебя полагался, Саня…
– Отсрочку обещали ему, е-мое! Да и затосковал я, Николаич. Не вини, е-мое. И еще к тебе просьба: парня этого, Ваньку, прими хоть на месяц. Ему все одно ждать, пока вещи прибудут. Так уж лучше у нас, е-мое.
– Ты, Саня Лепехин не новичок, знаешь, что не принято у нас влазить.
– Знаю. Но все же Цукана сын, е-мое!
– Аркашки Цукана?.. Дела! Как он там?
– Да как многие, е-мое. Ванька рассказывает, что жена гнала его со словами: «Ни ты сам, ни деньги твои теперь не нужны». Как ушел Цукан после этого, так и сгинул, е-мое! Мне Ванька пересказал такое, у меня, веришь-нет, Николаич, душа в пятки ушла. Аркадий поспокойней, а у меня случись подобное, е-мое, я б не выдержал. Натворил бы делов…
– Пойдем! – скомандовал Таманов всем и себе в том числе.
Большая часть барака зимой пустовала. Да и летом он заполнялся наполовину, но Таманов чужих наотрез не поселял. В левой половине выломали лишние перегородки, устроили библиотеку с бильярдным столом посередине, а напротив столовую, где на зависть всем проверяльщикам, коих перевидала артель без счету, установили самое современное оборудование с электрогрилем, микроволновой печью, а сверх того – японский цветной телевизор. Не меньшей примечательностью – это все знали в поселке – была хозяйка, необыкновенной красоты женщина с заглазным поселковым прозвищем Хромоножка. Красивая настолько отчетливо, что распоследние ухорезы терялись, слегка робели перед ней. Когда узнавали, что Елизавета Максудовна, дочь бывшего наркома, четыре года харчилась в якутском лагере, где ей ампутировали в лагерном лазарете обмороженную ступню, начинали уважать по-особенному.
Ваня Малявин, едва переступив порог столовой, не сдержался, выплеснул свое удивление: «А мою девушку тоже зовут Лизаветой, она тоже красивая!» Чем рассмешил Елизавету Максудовну.
– Нашел красавицу, скоро пятьдесят…
Обычно немногословная, она стала расспрашивать Ваню, откуда он и как занесло в Алдан?
– Аркашкин сын?! – переспросила она удивленно. – Постой, постой!.. Я смотрю и думаю: что-то знакомое в лице. Нос. Правильно, и глаза отцовы…
Возможно, поэтому она так строго и неулыбчиво оглядела Таманова, когда он вошел с Лепехиным и Морозом.
– Не косись, пожалуйста, Елизавета. Не косись. Я не господь Бог, чтоб читать чужие мысли. Ему надо было сказать, что сын Цукана… Но от своего правила не отступлюсь. Это я тебе, Иван, говорю. С месячным испытательным сроком. А не пойдет работа – ауфидерзейн! Так, помнится мне, говорил частенько Цукан. Я думал, хоть ей, душеспасительнице нашей Елизавете, письмецо напишет, ан нет.
– Так ты, Ваня, говоришь, ушел осенью и с концами? – спросил с неподдельной озабоченностью Мороз, словно что-то мог изменить.
– Да. Я в ту осень призывался в армию. Мать одна намаялась, истосковалась, а тут отец вдруг с шампанским, большими деньгами… Короче, нахамил я ему сгоряча. Дурак, молодой тогда был! – сказал порывисто, сердито сдвинув брови, Малявин, и все сидевшие в столовой заулыбались. – Точно помню, как он сказал: «Ох, пожалеешь после об этом!» И вышел из дома. Я к окну. Мне показалось, когда он толкался в калитку и не мог ее открыть, то плакал. Тут я не удержался, стал одеваться и следом за ним. А он – как камень на дно. Бегом к электричке – нету! Побежал к магазину, затем по всей деревне кругами – нет нигде! Недели через две он снова приезжал, но меня дома не оказалось, а мать ему все вещи в сени выставила. Я надеялся, что даст о себе знать, уже четыре года прошло…
– А ведь мужик кремневый, правильный. Ты перед входом резную беседку видел, небось? – спросил Таманов Малявина. – Так это Аркадий мастерил после работы по вечерам. А кое-кто над ним подсмеивался, да? – Таманов голос повысил, словно могли ему возразить. – Вот кто не только умел, но и любил работать. А чтоб чужое взять или товарища подставить – никогда!
– А помните, мужики, как он паренька, который пачку халвы украл, отбил у торгашей и сюда вот привел? После деньги ему на билет собирал…
Чем больше они говорили про Аркадия Цукана, тем тоскливее становилось Ване Малявину оттого, что уже ничего поправить нельзя, можно лишь мечтать иной раз, уткнувшись в подушку, что отец отыщется, и уж тогда-то!..
Ивана Малявина как механика всерьез артельщики не воспринимали, держали на подхвате, а ему очень хотелось отличиться, поэтому и напросился самолично отремонтировать дизель-генераторную станцию. Поначалу страшила работа новизной, подспудным: а вдруг не получится? Неприхотливо и уныло обучали в техникуме, но кое-что вспомнилось, а чего не доставало, пришло угадкой, самотыком, через сбитые до крови пальцы. Поэтому, когда раскрутил пускач маховик отремонтированного дизеля, и забухтел он басовито с подвывом, Малявин не удержался завопил восторженно: «Ура!» Неторопливый пятидесятилетний артельщик Матвеев промерил на всех шести цилиндрах компрессию и одобрительно пробурчал: «Годится». Малявин кинулся его обнимать, а он оттолкнул, укорил: «Отрегулируй до конца, а потом танцуй». Смазал радость строгий старик, не принял горячности его, словно забыл начисто, что когда-то был молодым.
В щитовой засыпухе, оборудованной под мастерскую, где Малявин возился с двигателем, едва удерживалась нулевая температура, но после сорокаградусной стылости здесь казалось тепло, если подсесть к обогревателю. Ему в тот морозный январский день понадобился старый подшипник, из-за чего он и взялся ворошить разный металлический хлам по углам. В холодной дощатой пристройке у стены торчал кусок проволоки, и Малявин неосознанно потянул ее на себя. Вместе с проволокой выдернулся кусок доски, а под ней обнаружил небольшое углубление. Малявину в первый момент показалось, что там поблескивает округлыми боками бомба…
На следующий день невыспавшийся, поэтому злой Малявин с утра пораньше уселся в кабинете Таманова, обставленном простой казенной мебелью, лишь традиционная японская акварель с видом на гору Фудзияма нарушала угловатую простоту обстановки. Таманов, краснолицый, заиндевелый с мороза, не успевший озаботиться бесконечной «доставаловкой», насмешливо-улыбчивый, бухнул с порога:
– Разрешите войти, гражданин механик?
Но Малявин шутку не поддержал и даже не улыбнулся, а попросил запереть дверь изнутри на ключ.
– Брось темнить, Ваня. Выкладывай, что стряслось?
– Нет, надо запереться, – неуступчиво пробурчал Малявин.
– Тю, черт побери! На, вот ключ!
Выставив на стол бутылку из-под шампанского, он вновь удивился, какая она чертовски тяжелая.
– Золото в ней!
Таманов принял это за неудачный розыгрыш старателей, которые охамели от скуки и теперь подставляют парня.
– А что, грязней бутылку не нашли?
– Так она неизвестно сколько в земле пролежала! Я ее сам… Да вы, Алексей Николаевич, видно, не верите?!
Малявин окончательно обиделся и поэтому резко, будто чеку у гранаты, выдернул деревянную пробку, сыпанул из бутылки прямо на стол отмытый золотой песок. Самородочек, похожий на рыбий глаз, скатился к самому краю столешницы, и Таманов подхватил его сноровисто, повертел в пальцах, определив безошибочно сразу, что золото настоящее, тщательно отмытое и обработанное кислотой.
– Извини, Ванюша, жизнь такая, что все подвоха жду… Откуда богатство?
– Я старый подшипник искал, чтоб из обоймы стопорное кольцо на станке выточить. Нет нигде нужного размера. Стал копаться в пристройке – и вот тебе!.. Холодная, гладкая и такая тяжеленная, что я испугался, думал, бомба лежит.
– Когда ты нашел ее?
– Да вчера после обеда…
– А не пришел. Скажи честно, коль пошел такой разговор, хотел перепрятать?
– Хотел… Это же на две машины и сверх того!
– Не жалей, Ваня. Наоборот, радуйся, что вывернулся, спасся, можно сказать.
– Это почему же?
– Да потому! Тут, как на выборах, я на девяносто девять процентов уверен, что ездил бы ты не на жигуленке, а в «воронке», ожидая, когда лоб зеленкой помажут. Статья-то расстрельная – хищение в особо крупных размерах. А тем паче драгметалл! Тут никакого снисхождения, тут на полную катушку, поверь мне.
– А я бы потихоньку сдавал, грамм по двадцать-тридцать, – возразил Малявин, раскрывая невольно затаенное, о чем мечтал всю ночь, выдумывая невероятные подробности своего приезда в Москву на «Волге», как попытается усесться на заднее сиденье вслед за Лизой Жанна Абросимовна, а он захлопнет перед ее носом дверцу и скажет: «Надеюсь, что я вижу вас последний раз!»
– Тебя взяли бы самое большее после третьей или четвертой сдачи металла. Кто не стучит, тот в приемках не работает. Сразу вопрос: где взял?
– Намыл ручным способом…
– Где конкретно и когда? Где инструмент?.. Больше того, заставят место показать, заведомо зная, что ты врешь. В полсуток тебя подчистую раскрутят, потирая белые рученьки от удовольствия, от предвкушения рапорта о проделанной работе.
– А перепродать все разом где-нибудь в Москве?
– Ну, в Москве стук налажен похлеще нашего… Ладно, допустим, что ты удачно провез золотишко и нашел покупателей, но где уверенность, что они тебя элементарно не кинут, подсунув туфту, а хуже, башку открутят, узнав, что ты одинокий лох? Это первое. А второе – это само золото. Ты небось знаешь, что оно почти в двадцать раз тяжелее воды? Но не знаешь, что золото в каждой местности неповторимо, как лицо человека, по своим химическим примесям. Если оно засветится в Москве или Киеве, то криминалисты однозначно определят, что песок золотой привезен с алданского месторождения. После чего начнут крутить-перетрясать весь Алданский район – это они умеют, – пока не зацепят конкретного исполнителя. Пусть не расстрел, пусть всего десять лет лагерей… Даже год несвободы я не променяю сегодня на центнер золота. Смысла нет, Ваня, поверь мне. Потому что руками своими и головой я могу сотворить что угодно. Русский мужик топориком побриться может, подпоясаться и к небу взлететь. Поверь мне…
В дверь постучали с грубой настойчивостью. Туманов громко чертыхнулся, откликнулся грозным: «Ждите!» Пересыпал металл из бутылки в брезентовую инкассаторскую сумку вместе с остатками иллюзий Вани Малявина, для него эти шестнадцать тысяч грамм золотого песка были огромной денежной суммой и одновременно отголоском джеклондоновской романтики Севера про сильных несгибаемых мужчин, каким ему хотелось бы стать со временем.
Для Таманова шестнадцать килограммов «металла», как он привычно называл золото, были дополнительной тяжкой морокой: надо сдать его за сезон потихоньку, не торопясь, в общей сдаче металла, чтобы не засветиться. Он подспудно предполагал, что за этими тоннами отмытых песков могут быть трупы, кровь людская. Казалось, ему, перемоловшему через себя восемь лет колымских лагерей, восстание в лагере, два побега и разное непотребство людское, можно ничего не бояться, а он все одно боялся. Боялся за семью свою, за Екатерину Максудовну, Сергея Муштакова, Ивана Мороза, за тех, кто приедет весной.
– И последнее. Я знаю, Ваня, как хочется иной раз прихвастнуть, удивить чем-то товарищей, но ты потерпи. До осени непременно потерпи.
– Могила! Клянусь вам, никому ни слова. Я тут отсыпал в жестянку малость… Так я лучше верну, а то будет свербеть занозой. Правда ведь?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































