Текст книги "Убитый, но живой"
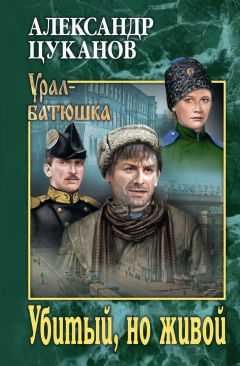
Автор книги: Александр Цуканов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Глава 9
Рукопись. Москва
Кожаная папка из толстой свиной кожи обладала магической силой. Казалось, кинь ее в костер или реку, чтоб избавиться навсегда, но через малый срок папка вновь окажется в старом серванте, завернутая в тряпье, как ни в чем не бывало…
В том суматошном сороковом, переполненном несуразными вопросами, Анна Малявина работала зоотехником в военведовском подсобном хозяйстве неподалеку от Холопова. В августе, точнее, в конце августа, ее включили в команду для выбраковки и приемки племенного молодняка. Куда ехать за скотом, держали в тайне, но прелесть тайн в их совращении, что понимал зам по тылу Меркулов, дружески шепнувший Анне Малявиной, что в Москве выпадает пересадка долгая, чтоб она собирала деньжат на покупки.
Поэтому в дорогу она тщательно выбирала белье поновей, носки без штопок, а под чай непременно чашку фарфоровую.
И вдруг:
– Анька! Ты, что ли, папку сюда сунула? Как начну вещи перебирать – сама в руки лезет, выбросить ее, видно, пора…
Хотела Анна ответить матери, что никак, мол, не успокоишься, все малявинское готова выбросить. Но стерпела, не стала заводиться, что случалось все чаще и чаще в последние годы.
Молча унесла папку в свою комнату и лишь пробурчала с потаенной обидой: «Ладно, саквояж хоть не выбросили со страху», – продолжая укладывать в одну половину носильные вещи, в другую – продукты. Посередине оставалось узкое пространство, разделенное перегородками, куда сунула справочник по зоотехнии, тетрадку, и тут же, непредсказуемо, по-хулигански возникла мысль взять с собой рукопись Георгия Павловича – только так она называла родного отца, а неродного, Шапкина – отцом, что сложилось в силу многолетней привычки, изменить которую невозможно, да и незачем.
Она вытащила из кожаной папки пожелтелые, особенно с одного края, листки разноформатной бумаги с мелкой малявинской скорописью, завернула в газету «Красный Урал» и сунула в узкое отделение посередине саквояжа, словно бы предназначенное для этой рукописи, которую она едва осилила до конца, но почему-то помнила отчетливо отдельные страницы и, случалось, пересказывала подругам в техникумовском общежитии по обыкновению ближе к ночи. Сокурсницы слушали внимательно, лишь иной раз перебивали неудержным возгласом: «Вот это любовь!» Была, правда, в большой их комнате одна дюже строгая Манюся, которая говорила, что это не любовь, а одна голая страсть. На что тихоня Катя Марченкова ей возражала: «Что за любовь без страсти? Мякина». Будто испытала и то, и другое. Растревоженные историей любви и смерти римлянки Порции, дочери неуступчивого сенатора Катона, они подолгу в кромешной тьме перешептывались: «Зачем пыталась зарезаться столовым ножом, узнав о гибели мужа?.. Уж лучше бы в реку». Тут же несдержанно возражали: «Дура, там же прислуга, догляд!» И совсем тихо:
– А ты бы смогла?
И тут же пугались от одной мысли до озноба, представив, что надо, потаясь от всех, выхватывать голой рукой из жаровни раскаленные угли и глотать их, через неимоверную боль, с верой, что еще малость, еще миг – и душа воспарит и где-то там, в заоблачной выси, соединится с душой любимейшего Марка…
До Москвы Анне Малявиной выпало ехать в купейном вагоне. Чистая скатерка, отглаженное белье, чай в подстаканниках – вся атмосфера вагона настраивала, подталкивала к вежливой предупредительности, улыбчивости. Мужчины наперебой предлагали помощь, острили в меру интеллекта, веселили историями, соревнуясь невольно между собой. Тон задавал майор Меркулов, и если забыть припудренный синяк под глазом у его жены – вместе стояли в очереди за макаронами перед самой поездкой, – то вполне приятный мужчина. Два младших командира – славные ребята тем, что жарко краснели от нечаянных прикосновений, и ей захотелось нарочно их раззадорить пустячными просьбами, кокетливой улыбкой уверенной в себе женщины, ухватившей тот короткий миг, когда можно властвовать безраздельно с невинным: «А почему ситро теплое?..» Ей льстила их готовность остужать ситро у водоразборной колонки, прыгать с мороженым в отходящий вагон, тратиться нерасчетливо, торопливо, без особой надежды на продолжение. Хотя всяко может статься, думал каждый из них потаясь. А она понимала такое и думала ответно: «Знаем мы вас, мужиков», – но все одно смеялась раскованно и не прятала глаз. И ехать бы так долго-предолго, так ведь нет, впилось уже торопливое предвкушение праздника, который начнется сразу с московского перрона для каждого из них вместе с выдохом: «Столица!» – произнесенным с восторгом и еще чем-то необозначимым, что возникнет позже в столь же восторженных вопросах, на которые нужно будет отвечать толково в Уфе, что на какое-то время сделает каждого из них значительнее, интереснее в разговорах с родственниками и знакомыми.
Поэтому, а еще из-за того, что боялась заехать к черту на кулички, Анна, умело улизнув от младшего командира Сережи, умолявшего взять в провожатые, пошла от Киевского вокзала пешком к Тверскому бульвару, где находилась редакция журнала «Красная новь» и где, конечно же, обрадуются этой рукописи и непременно напечатают, раз она так интересно написана. Поначалу люди, которых она расспрашивала, весьма удивлялись, советовали сесть на трамвай номер пять, она с вежливой настойчивостью уговаривала показать нужное направление.
Радостная, улыбчивая, она озиралась до хруста в шейных позвонках, потому что ей так много нужно разглядеть, запомнить витрины магазинов, дома, женские наряды, вереницу автомобилей, незнакомые запахи, лица людей, которые ее толкали поминутно, а она лишь улыбалась ответно и шагала, шагала без устали по московским улицам и вдруг вышла к памятнику Пушкину, который не раз видела на открытках. Обошла вокруг памятника, постояла, нашептывая с детства запавшие строчки, и словно знакомого встретила, сразу приободрилась. Страх перед чужим городом, терзавший ее с самого утра, совсем не исчез, но спазм прошел, и она без труда отыскала на Тверском бульваре дом под номером двадцать два, двухэтажный, неброский, как в старом центре Уфы.
Однако массивная входная дверь с витражом, витой бронзой и ее собственным отражением в стекле, сам холл с широкой деревянной лестницей, резными перильцами, картины на стенах, люстра с огромной жемчужиной светильника посередине, ковровая дорожка, на которую неловко ступать в пыльных туфлях, а особенно монолитная неподатливость филенчатых отлакированных дверей на первом этаже перед кабинетами, где творилось таинство, создавалась великая советская литература, ввергли Анну Малявину в испуг, она сразу ощутила нелепость своего прихода сюда в мятом после поездной колготы платье, с большим черным саквояжем в руках.
– Кто вам нужен, девушка?
Она вскинула голову. Бархатистый без нажима голос ей понравился сразу, и сам мужчина – в двубортном пиджаке, красногубый, с глубоко посаженными глазами – показался ей симпатичным. Он стоял на анфиладе второго этажа, посматривая на нее весело, чуть насмешливо.
– Так что же вы хотели? – повторил он приветливо, без раздражения, чуть наклонив голову с зачесанными назад прямыми светлыми волосами.
Анна – это вышло непроизвольно – выдала самую лучшую из своих улыбок, широко распахнула голубенькие глазки, ответила:
– Отцову рукопись привезла. Кому можно показать?
– Даже не знаю, как вам помочь… Впрочем, поднимайтесь сюда.
– А вы, случаем, не писатель?
– Случаем, да, – ответил он с улыбкой и неожиданным для Анны смехом, потому что так и не привык к недоверчиво-восхищенному: «Вы-ы писатель?!»
Анна торопливо, опасаясь, что писатель не дослушает, стала объяснять, что их семья раньше выписывала журнал «Красная новь», что она проездом в Москве, а отцова рукопись необычайно интересная, и хорошо, если бы…
Он не перебивал, приятно смотреть на эту миниатюрную крепенькую женщину, похожую на первый росный огурчик. Так бы и приобнял ради шутки. Недовольно скривил тонкогубый рот, когда водитель снизу пробасил:
– Александр Иваныч, готово. Можно ехать хочь в Моссовет, хочь в Переделкино.
Решение, как это случалось не раз, возникло произвольно.
– Вы, милая девушка, пришли слишком рано. Никого из редакторов еще нет. Ну да бог с ними. В машине расскажете про рукопись. Водитель отвезет меня в Моссовет, а надо, так и вас подбросит. Согласны?.. Вот и отлично.
Александр Иванович придержал в дверях Анну за локоток, распахнул дверь, а у машины даже перенял саквояж и, оглядывая его с интересом, спросил:
– Отцов?
Анюта поддакнула, усаживаясь на заднем сиденье, и тут же поторопилась добавить, как бы в оправдание: «Он давно умер».
Александр Иванович понимающе угукнул. Такой добротный сак ныне не сыщешь, их раньше, когда был пацаном, привозили из Германии. Поэтому и иметь его мог только человек весьма обеспеченный, но расспрашивать об этом не следовало. В машине, слегка робея от близости, цепкого, заинтересованного взгляда моложавого писателя, Анна попросила:
– Вы не могли бы прямо сегодня посмотреть рукопись?.. Завтра у меня поезд. Эта рукопись – единственное, что осталось от отца. – Она уже заглядывала в глаза, уже просила со слезой в голосе, поверив собственному вранью не вранью, но и…
– Твердо обещать не могу. Попробую полистать. А то задержитесь в Москве на денек-другой, гостиницу я обеспечу за наш счет.
– Нет, что вы! – Анюта замахала руками, взялась объяснять про поездку на Западную Украину, где ей предстоит отбирать лошадей, а кроме нее никто толком не разбирается.
– Что ж, ладно, тогда в редакции завтра в одиннадцать, – враз построжев, сказал Александр Иванович, которому стало скучно, к тому же он заранее знал, что рукопись окажется занудной, графоманской, как это выходило всегда.
На заседании Моссовета, где обязан присутствовать как народный депутат, Александр Иванович, поскучав с полчаса, послушав привычные заклинания, расстегнул потрепанную папку и попытался читать бегло, наискосок, помечая на полях описки, ошибки, но постепенно рукопись захватила, и к концу заседания он решил, что ее надо ставить в ближайшие номера журнала, подвинув некоторых пердунов. Тем более что никакого риска: римская история, свободолюбивые Бруты, диктатор Цезарь… И лишь подспудно тяготила одна шероховатость… Но домыслить не успел, увидел рядом одного из зампредов. Настиг его у выхода из зала, спросил об отводе земельного участка под писательские дачи. Зам хохотнул по-жабьи, растянув губастый рот, глазами выцеливая что-то у него на лбу. Ответил:
– Хорошие писатели у нас в почете. Решение положительное…
Эта странная улыбка-ухмылка с полузастывшим пристальным взглядом долго стояла перед глазами Александра Ивановича, заставляя перебирать в памяти взгляды, слова, рукопожатия других чиновников, с кем здоровался или переговаривался во время перерыва, кто узнавал из первых уст о переменах, отстранениях. Лишь сто граммов коньяка в литфондовском буфете приглушили неожиданно возникший страх, и, чтобы отвлечься по дороге в Переделкино, он взялся дочитывать рукопись.
«…Заговорщики толпились вокруг Цезаря, мешая друг другу, и он, опытный воин, легко отбил первые удары левой рукой, обмотанной плащом, а правой сам нанес несколько ударов, готовый прорваться сквозь гущу тел.
Марк мог бы дотянуться и ударить ножом в бок или спину, но почему-то не решался, медлил. Толкнули сзади или расступились перед ним – это не имело значения, он оказался прямо перед окровавленным, вопившим бранные слова Цезарем, так не похожим на всегдашнего невозмутимого собеседника и старшего друга, которого обязался убить.
Марк Брут прикрыл глаза левой ладонью, чтоб не видеть пронзительного взгляда Цезаря, и резко на выдохе ударил острым галльским ножом. Остальные набросились следом и втыкали ножи торопливо в распростертое тело диктатора. Когда заговорщики расступились, кто-то из сенаторов по-женски визгливо закричал:
– Да здравствует Марк Юний Брут! Брут-тираноборец!..
Он поднял голову – высокий, красивый и бесстрашный, как полагали, – и едва сумел выговорить трясущимися губами:
– Да здравствует республика!
– Слава! Слава! – нестройно откликнулись заговорщики, пятясь, отходя полубоком, так и не поверив до конца, что непобедимый Гай Юлий Цезарь мертв».
Александр Иванович тут же торопливо переложил листы, прочитал на первой странице: «Георгий Малявин. Убить тирана». Ему захотелось изорвать рукопись, пока нет никого, кроме шофера, который был осведомителем в НКВД, в чем сам признался и за дополнительную плату поклялся не передавать без его ведома никакую информацию. «А там черт его знает! – подумал Александр Иванович и невольно глянул через зеркало заднего обзора на водителя. – Главное, не подавать виду. Сам почерк, стиль письма и полновесное знание ясно показывают, что это написано в начале века, – успокаивал он себя и тут же возражал: – Да кто там будет с этим разбираться!»
На следующий день ранним утром он приехал невыспавшийся и злой на всех, в том числе и на девушку из провинции, которую нужно теперь ждать в скверике возле редакции и ловить удивленные взгляды сотрудников, особенно женщин, непременно сложивших про него очередную сплетню. А девушки все нет, это не на шутку растревожило, он подумывал о подлой провокации со стороны завистников и собрался уйти, но мелькнуло знакомое платье из штапеля в черно-синий горошек.
Он успел, перехватил ее у входа и решительно, торопливо, завел за угол здания, где выдохнул:
– Не показывайте рукопись больше никому! – Выговорил это строго, больше того, даже сердито. Анна Малявина совсем растерялась, так неожиданно это прозвучало, что обычного – почему? – не смогла выговорить.
Как не могла позже, в коневодческом хозяйстве на Волынщине, понять брошенное в спины: «Фашисты!»
– Да разве можно сравнивать! – вскинулась она, затеребила вопросами зампотылу Меркулова.
Он же скривился, но ничего не ответил, лишь глянул строго: не суйся, мол, куда не положено. Его самого мутило от разных историй, которых понаслушался здесь, на стыке Волынской и Львовской областей. Одно успокаивало, что кони хороши, без потертостей и лишаев, сразу видно – хозяйские кони. «Довезти бы еще…» – прикидывал он, стараясь не замечать разной нелепицы.
И довезли. И больше не ввинчивали назойливые «почему» и «для чего?».
Когда разъяснили, когда стала понятной, как ей казалось, та неприязнь, тот страх западных украинцев, смерть первенца в сорок втором, лютость в обмотанных колючей проволокой поселениях уральского Заполярья, где встретилась впервые с зэком и доходягой Аркадием Цуканом, она все одно говорила беззастенчиво: «А где они были при Сталине? Почему молчали?»
Одновременно и Хрущева, когда его начали поносить, Анна Малявина хвалила. Доказывала, что он правильный руководитель, да вот дуракам достался. Проговаривала его фразы из самостийных выступлений с выражениями «под зад коленом», «рожи понаели», словно угадывала что-то наперед. И переубедить ее, доказать ничего невозможно. Это превыше любви, семейного счастья, из-за этого могла рассориться с кем угодно… Но через час-другой сделать вид, что ничего страшного не произошло, что жизнь продолжается, что нужно ужинать, стелить постель, радоваться следующему дню, который к вечеру будет назван опять проклятущим, потому что пытаются подставить с фуражным зерном, подменить ключи от склада, всучить гнилую капусту, а стервоза воспитательница опять не поменяла мокрые подгузники Ванечке…
Она на удивление легко перенесла исчезновение Аркадия Цукана.
В пятьдесят седьмом году, вскоре после освобождения из лагеря, он поехал проведать родных в Усть-Лабинске, разузнать про житье-бытье и нельзя ли в родные места перебраться всем семейством. «Да не больно-то его там привечали, похоже, – говорила Анна Малявина и даже шутила: – Аж в Находке теперь наш находчивый Цукан». Кому надо и не надо показывала перевод на две тысячи рублей теми дореформенными деньгами, тут же раздав половину в долг, порой безвозвратный.
А Заполярный Урал – не булка с медом. Жесток, лют ветрами, которые сгоняют холод Арктики, как в воронку, и гонят его вдоль одряхлевших горных хребтов Урала до Каспийского моря. Жить приезжему человеку здесь можно лишь по великой нужде, или надо быть неисправимым идеалистом. Анна Малявина обладала и тем, и другим, и сверх того мечтала о собственной квартире с теплым туалетом и ванной, с блестящей кафелем кухней, где у нее, конечно же, будет идеальный порядок…
После исчезновения Цукана, с которым не удосужилась оформить гражданский брак, хоть он и предлагал не раз, ей не на кого стало надеяться, и она взялась отчаянно копить деньги, экономя на чем только можно, даже на собственном здоровье. Но из-за собственной влюбчивости и жалостливости Анна постоянно влипала в скверные истории. Она и в промразведке золота оказалась по нужде. Попала в очередной раз под сокращение… «Бабу одного из начальников надо было пристроить», – поясняла с нарочитой грубостью и могла подолгу рассказывать про козни, которые устраивались против нее. А так как рассказчицей была одаренной, то ее слушали внимательно, ей сочувствовали и негодовали вместе с ней. И тут же выплескивали свою историю про сволочей начальников с тем искренним негодованием, на какое способен русский человек, заведомо зная, что очевидцев поблизости нет.
Жили в балке, установленном на железные полозья, который перетаскивал с места на место бульдозер-сотка. В одной половине – мужчины, в другой – Анна Малявина с семилетним Ванюшей и пожилая неопрятная повариха Лидка по прозвищу Стекло. Начальник партии Бурятов ставил себе отдельную палатку, куда после каждого переезда работяги с торжественной деловитостью переносили несгораемый сейф, что растревоживало воображение впечатлительного Ванюши, как и пистолет, который, случалось, прочищал и смазывал Бурятов.
Он брал пацана на съем золота, если вскрышные работы велись неподалеку, терпеливо вел, подлаживаясь под неспешный ход. Сюда под вечер сходилась вся промразведка, даже иной раз повариха Лидка.
Моторист Федор, для всех – Дед, или простецки дядя Федя, а для начальника – «человек трудной судьбы», как говорил он не раз, давая понять, что листал личное дело, каждый раз спрашивал Бурятова: «Готовим съем? – после чего басил хрипло: – Шабаш!» Глушил мотопомпу и садился курить.
А все ждали. Ждали, когда он начнет смывать с резиновых матов шлих в лоток. Ждали всегда молча и так же молча наблюдали, как он размеренно и вроде бы с ленцой катает в проточной воде инструмент. Постепенно движения его все убыстрялись, и лоток в багрово-красных руках начинал крутиться волчком. Неожиданно Федор поднимался, подносил к глазам деревянный лоток с пригоршней словно бы пшена на дне и до завеса, на глаз, определял, сколько взяли металла за смену.
Когда выходило больше ста граммов, то работяги взбудораженно гомонили, наседали на Бурятова с просьбами повременить с переброской промывочного прибора, а он для порядку угрюмничал, толковал про план вскрышных работ, про то, что ему оплата и премиальные шли от задания по разведке на золото, а не от самого металла), но чаще всего соглашался. На следующий день съем, случалось, выходил втрое меньше, и тогда сразу вспоминали нечистую силу и долю старательскую, без понуканий снимались на новую точку, загодя обставленную вешками Бурятовым. В такие переездные дни вечером у костра, обустроив на скорую руку походный быт и как бы слегка отдохнувшие от промывочной ломовой работы, вспоминали старательские истории и разные случаи, когда съем золота шел за смену по килограмму и больше, а денег, полученных за такой сезон, хватало на год вперед. «Если по-умному, без разгула», – вставлял кто-нибудь из работяг непременно, веря, что в этот-то раз!..
Один раз проблеснула удача. Прямо из пробутора, из этого большого ячеистого корыта, где размывается грунт под струей воды из шланга, вытащили самородок величиной с голубиное яичко. Самородок торжественно передавали с рук на руки. Последним принял его моторист Федор и, что было так неожиданно, окликнул Ваню: «Иди-ка, малец, подержи его для фарту…»
Обкатанный текучей водой кругляш грязно-желтого цвета оказался настолько увесистым, тяжелым, что мальчик выронил его из рук на землю.
– Эх ты, сопля зеленая! Трам-па-рара… – врезал матюгом Федор.
Его уговаривал со смехом Бурятов, уговаривали старатели, что-то грамотно поясняла Анна Малявина, а он матерился и твердил угрюмо свое:
– Конец, не возьмем стоящего золотишка.
Он много лет проработал со старателями и твердо верил в приметы…
Заполярной ночью, когда солнце скрывается за горизонтом лишь на коротких полчаса, Федор по кличке Дед убежал в Таллалах, некогда крупный прииск, а в начале шестидесятых лишь захудалый поселок с несколькими десятками аборигенов, едва уцелевших после нашествия ГУЛАГа и большого спирта. Вечером его привезли из Таллалаха на бульдозере пьяного вусмерть.
В оставшийся месяц – а мыли до середины сентября, до настоящего снега – не попалось ни одного самородка больше горошины и ни одного съема, чтоб ахнули, сказали:
– Фартовый же ты, мужик, Федор!
Четырехзначная цифра в расчетной ведомости ввергла Анну Малявину в волнение. Кооперативная квартира с удобствами въяве встала перед ее глазами, и крупный город Уфа с театрами и музеями, где начнется новая, такая прекрасная жизнь…
Кооперативная квартира сразу отпала из-за дремучей неосведомленности и неумения Анны Малявиной готовиться загодя. На дом с огородом и палисадником, пусть даже на городской окраине, привезенных денег тоже не хватало. Бабушка Евдокия предлагала за эти деньги купить хороший пятистенок в Авдоне или Холопове, но Анна обиделась, вспылила: «Снова в деревню? Нет! Хватит, нагорбатилась…» И пошла по родственникам с протянутой рукой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































