Текст книги "Путь истины. Очерки о людях Церкви XIX–XX веков"
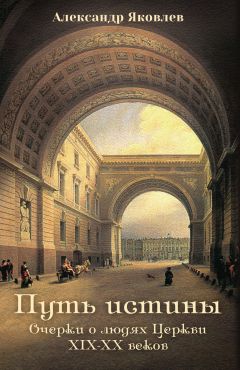
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Первые декреты Временного правительства об отделении Церкви от государства, о необязательности преподавания Закона Божия в учебных заведениях, о конфискации помещений церковно-приходских школ и о свободе выбора исповедания в 14 лет означали, что новое государство становится внеконфессиональным, отбрасывая часть исторического наследия России. Новый обер-прокурор Святейшего Синода – революционный бюрократ-мечтатель В. Н. Львов самовластно вмешивается в дела церковного управления, смещая иерархов и продвигая к кормилу церковного управления «демократическое духовенство». Осенью большевист-ская партия с легкостью смела власть самовлюбленных либеральных болтунов и установила свою диктатуру, открыто объявив себя атеистами и богоборцами. Уже 31 октября (ст. ст.) 1917 года проливается кровь священномученика Иоанна Кочурова, и это становится началом эпохи жесточайших гонений на Русскую Церковь.
Но в 1917 году еще сохранялись у людей иллюзии и надежды, иные пошучивали. Известен рассказ, как В. В. Розанов пришел с Дурылиным в Московский Совет и заявил: «Покажите мне главу большевиков – Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я – монархист Розанов». Дурылин едва сумел увести его (139, т. 1, с. 236).
Летом этого года в окрестностях Сергиева Посада М. В. Нестеров пишет двойной портрет отца Павла Флоренского и С. И. Булгакова, назвав его «Философы». В переданном на холсте глубоком, сосредоточенном молчании двух русских мыслителей угадываются вопросы, волновавшие тогда всех: в чем воля Божия относительно страны и Церкви? как надлежит поступать православным по отношению к наступающему злу?..
Сергей Николаевич Дурылин, к тому времени член Братства Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа при Пудовом монастыре, входит в Кружок ищущих христианского просвещения, а в своей маленькой комнатке в Обыденском переулке жарко спорит с друзьями о будущем России и будущем Церкви. В качестве гостя он присутствует на заседаниях Поместного Собора, а весной 1918 года приглашен вместе с отцом Павлом Флоренским и М. А. Новоселовым принять участие в работе Соборного отдела о духовно-учебных заведениях (116, с. 32). По инициативе горячего апологета Православия М. А. Новоселова в апреле 1918 года на его квартире открылись по благословению Патриарха Тихона Богословские курсы, на которых владыка Феодор (Поздеевский) читал курс Священного Писания, сам Новоселов – патристику, а Дурылин – церковное искусство. Вскоре он переезжает в Сергиев Посад и принимает активное участие в работе Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. В 1918-1920-х годах он работает вместе с отцом Павлом Флоренским (бывшем секретарем этой Комиссии), с которым был знаком ранее и чье влияние на себе ощущал сильно, особенно высоко ценя «Столп и утверждение Истины». В труднейший и голодный 1918 год затевается издание серии книг религиозно-национально-философского содержания «Духовная Русь» с участием А. Ф. Лосева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, князя Е. Н. Трубецкого. В ней Дурылин намеревался издать две свои работы: «Религиозное творчество Лескова» и «Апокалипсис и Россия» (171, с. 68–69).
В те дни шли аресты «бывших»: дворян, чиновников, священников, простых обывателей. Тюремный быт для большинства граждан Советской России становился обыденностью, и только к расстрелам по приговорам «троек» и «трибуналов» было невозможным привыкнуть. В Москве было голодно и холодно, горсть пшена и кусок сахара оказывались немалой ценностью. Как писал поэт: «Не домой, не на суп, а к любимой в гости – две морковники несу за зеленый хвостик». Нам трудно себе представить тогдашнюю жизнь в ее невообразимом сочетании ужаса, страха, тягот и лишений с дерзновенными мечтаниями, напряженными духовными поисками и тихим стоянием в вере, то было время «скудости и богатства, темноты и духовного счастья».
Между тем все сильнее раскручивается кровавый и безжалостный маховик репрессий против народа и Церкви: убивают царя, разгорается жестокая гражданская война, Православие клеймят «устаревшим пережитком царского строя», священников изгоняют из храмов, объявив «классовыми врагами», и даже убивают, церковные святыни подвергаются поруганию. Все это происходит где при активном сопротивлении или ропоте народа, а где и при его молчании или содействии. Рушится миф о «народе-Богоносце».
Каждый человек в эти роковые дни принужден был сделан свой выбор, сделал свой выбор и Сергей Николаевич Дурылин: он едет в Оптину пустынь и просит старцев Анатолия и Нектария о благословении на принятие монашества. Ему хотелось укрыться за высокими стенами монастыря от ужасов жизни, хотелось молить Бога о прекращении вражды, о единении людей; желалось всегда быть с чистыми сердцем мальчиками, навечно остаться в жизнелюбивом аскетизме отрочества. (Позднее он записал в дневник: «После 20, 23 лет – будет много умного, интересного, волнующего – но вся эта “овчинка” житейская не стоит “выделки”, требующей столько труда, боли и тоски…» – 48, с. 303.) Старцы благословили его на иной путь – служения людям в качестве священника. По свидетельству протоиерея Сергея Сидорова, Дурылин, кроме иеросхимонахов Анатолия и Нектария, пользовался глубоким уважением у монашествующего старца архимандрита Феодосия (ИЗ, с. 67). Решение о принятии священства было истинно мужественным поступком: встать в ряды воинства Христова в те годы означало не только отказ от житейских благ и обычного житейского благополучия, но и готовность в любую минуту отдать свою жизнь за Христа.
3
Переехав в Москву, Дурылин готовится к перемене своей жизни под опекой отца Алексея Мечева в известном всей церковной Москве храме Николы в Клениках. 2 марта 1920 года он рукоположен в сан иерея (целибатом) и начинает свое служение в храме святителя Николая на Маросейке, где проводит внебогослужебные беседы.
Новый священник быстро получает известность своими «назидательными беседами». Отец Сергий два раза в неделю занимается с детьми; участвует в составлении службы Всем святым, в земле Русской просиявшим; составляет тропари канона святым Калужским (песнь 4, тропарь 7) и Тамбовским (песнь 9, тропарь 1) и второй святилен, обращенный к Софии Премудрости Божией (ИЗ, с. 667).
Церковную жизнь России тех лет неверно было бы свести лишь к мученическому стоянию за веру. «Это была жизнь скупости во всем и какой-то великой темноты, среди которой, освещенный своими огнями, плыл свободный корабль Церкви, – много позднее вспоминал С. И. Фудель. – В России продолжалось старчество, то есть живое духовное руководство Оптиной пустыни и других монастырей. В Москве не только у отца Алексея Мечева, но и во многих других храмах началась духовная весна, мы ее видели и ею дышали. В Лавре снимали тяжелую годуновскую ризу с рублевской “Троицы”, открывая божественную красоту. В Москве по церквам и аудиториям вел свою проповедь Флоренский, все многообразие которой можно свести к одной самой нужной истине: о реальности духовного мира» (195, с. 69).
Стоит привести и свидетельство «с другой стороны», свидетельство непримиримого врага Церкви – вождя обновленческого движения Александра Введенского: «В церковной жизни увеличивается религиозность. Массы новообращенных заливают дворы Господни… Новая церковная интеллигенция занимается организацией церковных сил… В 1919–1920 годы, несомненно, наряду с притаившейся… струей контрреволюции в церкви шумели весенним побегом воды подлинной религиозности» (цит. по: 91, т. 2, с. 215–216). Вопреки демоническому злу во многих крупных городах России образовались христианские студенческие кружки. В Москве их организатором был Владимир Марцинковский, привлекая не только православных, но и католиков, баптистов, протестантов, евангелистов. В кружках изучали Евангелие и Ветхий Завет.
Дурылин был воодушевлен этой обстановкой духовного возрождения тем более, что находился среди его активных деятелей. Перестраивалась жизнь прихода, вновь был поднят вопрос об имяславии, пересматривались некоторые вопросы в церковной истории России. Впервые за два века открыто, с участием мирян обсуждались кардинальнейшие вопросы жизни Церкви. Сторонники имяславцев имелись в среде духовенства, среди монашества и в кругу молодых москвичей – ревнителей Православия, среди которых особенно активен был философ А. Ф. Лосев. Близкий к Дурылину М.А. Новоселов самостоятельно занимался глубоким исследованием этого вопроса. Тогда формулировались основные идеи, позже вошедшие в документ под названием «Большое имяславие», в котором, в частности, утверждалось: «Похулено и осквернено сладчайшее Имя Иисусово, и вот постигла Россию великая разрушительная война, падение и расслабление великого народа, безумие и окаянство жесточайшего сатанинского десятилетия…» (цит. по: 171, с. 117).
На все прочее отец Сергий не обращал внимания. Быт его известен по воспоминаниям: жил в четырехметровой холодной комнате, при постоянных «стуках» – люди шли одни за другими, просьбы, слезы; недоедал, недосыпал, был плохо одет. Сам он будто ничего этого не замечал, но трудно было при такой непрактичности и неприспособленности просто выжить. У отца Сергия украли, например, материнский плед, служивший одеялом; он не раз падал в обморок от голода. Одна из молодых прихожанок, двадцатилетняя Ирина Комиссарова, стала подкармливать его: приносила со службы ведро ржаной каши, на которую собиралась ее знакомая молодежь, и отец Сергий кормился этой кашей.
Весной 1921 года отец Сергий совершает решительный поступок: без благословения отца Алексея Мечева переходит служить в Боголюбскую часовню у Варварских ворот Китай-города и становится там настоятелем. Поселившись во внутренних помещениях Варварских ворот, он служит там со своим другом отцом Петром (105, с. 668). Мы не знаем, что побудило отца Сергия оставить храм Николы в Клениках. Связей с отцом Алексеем, его сыном Сергеем и маросейской общиной он не порывал. Но как не вспомнить один из заветов Оптинского старца Нектария: «Самая высшая и первая добродетель – послушание. Это – самое главное приобретение для человека… И жизнь человека на земле есть послушание Богу» (32, с. 145).
А душу священника Сергия Дурылина смущают сомнения, позднее запечатленные в отрывочных записях: «Смотришь на липкую октябрьскую черноземную грязь, на старые заборы, на завалившиеся избы в деревнях, на заплеванные хмурые полустанки, из каждой щели которых глядит белесая вошь, слышишь “мать твою” во все предметы видимого и невидимого мира, видишь широкие скулы… бесцветные глаза, задыхаешься от густого… облака махорки, плывущего над Россией, обоняешь отвратительный рвотный запах самогона…»; «Дело в том, что человек бесконечно одинок, неописуемо одинок… И это одиночество… он пытается истребить, сливаясь с другими в любви, в знании, в искусстве, в Боге. Напрасный труд! Чем теснее слияние, тем глубже одиночество…»; «человечеству верилось до сих пор – и все было хорошо: и святые святы, и папы непогрешимы, и мощи благоуханны, и чудеса несомненны… Но вот пришел какой-то роковой рубеж времен… и не верится. Нс этим никто и ничего не поделает. Всему человечеству не верится» (47, с. 256, 258). Тайна души человеческой открыта Богу, не нам, но можно представить, как трудно было отцу Сергию бороться со своими сомнениями.
Его тонкую натуру коробила не только грубость жизни, но ставший открытым отход от веры в Бога при формальном соблюдении обрядов; так, по привычке, ходили иные люди в храм, не веря ни в Воскресение, ни в Жизнь вечную… В глубине души в нем жила та любовь к искусству, которую он не мог отбросить, и музыкальные созвучия Шопена или строчки Иннокентия Анненского по-прежнему заставляли трепетать сердце. Он был замечательный писатель, но сознавал, что писательство – дело страстное и потому для лица духовного ненужное. Он вошел в церковный алтарь, но и из алтаря оглядывался на полотна Рафаэля, романы Диккенса и Клода Фаррера, знал, что должен заменить Пушкина Макарием Великим, – и не мог…
Летом 1921 года еще одно страшное бедствие обрушивается на русский народ – голод в Поволжье. Голодали целые губернии, вымирали деревни. В августе 1921 года Святейший Патриарх Тихон обращается с посланиями к главам отдельных христианских Церквей с призывом во имя христианской любви «немедленно высылать хлеб и медикаменты». Был создан Всероссийский Церковный комитет помощи голодающим, и во всех храмах начались сборы денег для оказания помощи. 6 (19) февраля 1922 года Патриарх выпускает послание, в котором допускает жертвовать на нужды голодающим драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления. Но богоборческая власть увидела в этом послании повод для нового витка борьбы против Церкви: 13 (26) февраля ВЦИК постановил изъять из православных храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и имеющие богослужебное назначение. Едва Патриарх осудил это, назвав святотатством, как вся пропагандистская машина большевиков обрушилась на него и на Церковь, обвиняя «церковников» в равнодушии к бедствию народа.
Война государства против Церкви и Православия приобрела небывалый размах. Во всех газетах появлялись статьи и фельетоны с клеветой и нападками на священников, монахов и архиереев; тысячи агитаторов выступали на собраниях и митингах, клеймя «жадных и корыстных попов». Советскими законами священнослужители были лишены гражданских прав, не могли получить продовольственные карточки, дети священнослужителей не принимались в вузы и на работу в советские учреждения. ВЧК (с 1922 года – ОГПУ) установила через своих «секретных сотрудников» контроль за деятельностью церковных общин; власти всех уровней принимали различные меры для стеснения деятельности священников, активно занимавшихся проповедничеством и имевших авторитет. Например, в декабре 1920 года Секретный отдел ВЧК принял решение «о нежелательности появления Патриарха Тихона на церковных службах», и органы юстиции крайне редко давали санкцию церковным общинам Москвы на приглашение Святейшего Патриарха для службы в приходском храме (4, с. 169). Глава ВЧК Ф.Э. Дзержинский в декабре 1921 года предложил Политбюро ЦК ВКП(б) проведение «политики развала» Церкви, для чего предлагал использовать тонкие методы «лавирования» (19, кн. 1, с. 9) – так было положено начало расколу Церкви и появлению под контролем чекистов «обновленческого движения». 11 марта 1922 года Л. Д. Троцкий, возглавивший в Политбюро борьбу с Церковью, предлагает создание секретной комиссии для руководства изъятием церковных ценностей. 19 марта 1922 года В. И. Ленин пишет «строго секретное» письмо членам Политбюро, запретив им снимать копии. Это письмо по поводу событий в Шуе, где рабочие возмутились изъятием церковных ценностей и попытались воспрепятствовать этому, было опубликовано лишь в начале 90-х годов. Письмо имело директивный характер не в отношении целей – они давно были известны, а в отношении методов борьбы с верой: предлагалось действовать «с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления», требовалось подавить сопротивление «с такой жестокостью, чтобы они [духовенство] не забыли этого в течение нескольких десятилетий» (19, кн. 1, с. 141, 142). Поднимается волна массовых арестов духовенства, вскоре на скамью подсудимых власти посадят Святейшего Патриарха Тихона, митрополита Вениамина и еще многих священномучеников; положено начало концентрационному лагерю на Соловках, где позднее соберется Собор русских архиереев.
20 июня 1922 года священник Сергий Дурылин был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. По обыкновению, начались хлопоты, и наиболее авторитетные из его знакомых во главе с академиком архитектуры А. В. Щусевым обратились с ходатайством к народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому. Для знакомых отца Сергия советский нарком виделся могущественной личностью, они не знали, что в партии до сих пор ему ставят в вину былое «богоискательство», что его якобы свободные диспуты о вере со священником Александром Введенским – спектакль, о деталях которого «диспутанты» договариваются заранее за чашкой чая на квартире наркома. Луначарский отлично понимал, когда, за кого и о чем можно ходатайствовать перед могущественными ОГПУ и Политбюро; знал, что по инициативе Ленина готовится высылка за границу наиболее видных философов и писателей, настроенных откровенно оппозиционно к Советской власти. Он поставил условие: Дурылин должен снять с себя сан – лишь тогда он сможет помочь. И отец Сергий снимает с себя священнический крест и становится мирянином Сергеем Николаевичем.
Быть может, провидели это Оптинские старцы, не благословив его на монашеский путь? Старец Нектарий в революционные годы твердо говорил: «Я тебе заповедую монашество больше всего хоронить. Если к тебе револьвер приставят, и то монашества не отрекайся», «отречься от монашества – отречься от второго крещения, а значит, и от Христа» (32, с. 158).
Но по рассказам близких к Дурылину людей, он «никогда не снимал с себя сан», а просто воспользовался слухами о снятии сана и не опровергал их (49, с. 41).
Он отсидел еще полгода во Владимирской тюрьме; в 1923 году его отправляют в ссылку в Челябинск, и по благословению отца Алексея Мечева за ним едет та Ирина Алексеевна Комиссарова, которая некогда кормила его кашей и которой предстоит стать его женой.
Но это начало новой жизни Дурылина. Ему предстоит стать доктором филологических наук, профессором, старшим научным сотрудником, видным историком литературы, театра, живописи и музыки, он напишет много хороших книг, в том числе биографию великого русского художника М. В. Нестерова, будет награжден орденом Трудового Красного знамени и медалями, о нем появится статья в Большой Советской Энциклопедии, его друзьями станут замечательные актеры Малого театра, хотя немало видимых и невидимых бед и напастей придется ему пережить. Он принужден был служить, но служил не Советской власти, а своему народу и любимому искусству. Мог ли он забыть слова апостола Павла: Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же… (1 Кор. 12, 4–5).
Представление о характере его духовных терзаний дают отрывочные дневниковые записи, сделанные в ссылке в 1926–1927 годах. То он винит Церковь в недостаточности ее служения людям: «Мучит меня эта мысль. Никак не отвяжусь. Книги Толстого, вроде “Так что же нам делать?”, все-таки остаются неопровержимыми свидетельствами огромной недостачи “продуктов любви” в жизни, в мире… Тут у него великая правда и великая правота». То осуждает дореволюционных профессоров духовных академий, самодовольно, «за кулебякой с визигой», «опровергавших» Толстого, Ницше, Канта, Дарвина в никем не читаемых академических журналах. То клеймит пьянство и корыстолюбие деревенских попов: «Пьют отцы наши духовные горькую чашу, и не только пьют сами, но и народ спаивают…». Он противопоставляет привычное, формальное богослужение духовенства и «высокоодухотворенное» театральное представление актеров МХТа. И вдруг взволнованно поражается: «Толстой эпохи “Анны Карениной” вспоминает наряду с Пушкиным и Ломоносовым – Филарета! Стало быть, это имя для него так же значительно и великолепно, как для Пушкина…, для Гоголя…, для Тютчева…, не говоря уже о славянофилах» (48, с. 314, 342, 348, 400, 441). Это самопризнание сокровенности имени московского митрополита Филарета показательно…
В эти годы ссылки, по всей видимости, Сергей Николаевич отчасти вынужденно, отчасти сознательно уходит от внешнего мира в свой сокровенный, внутренний мир, отрытый для него Лермонтовым.
Любил с начала жизни я
Угрюмое уединенье,
Где укрывался весь в себя,
Бояся, грусть не утая,
Будить людское сожаленье;
Счастливцы, мнил я, не поймут
Того, что сам не разберу я,
И черных дум не унесут
Ни радость дружеских минут,
Ни страстный пламень поцелуя…
При внешней бессобытийности тех лет в нем происходит интенсивная внутренняя работа, в немалой степени отраженная в дневниковых записях. Дурылин философствует, у него «своя философская мысль, свои онтология и гносеология» (В.П. Визгин). Он выстраивает для себя систему категорий для понимания явлений жизни и культуры: бытие – бывание – бытование – небытие. 3 июля 1930 года он вспоминает своего старца Анатолия, смотрит на его фотографию: «… лицо о. Анатолия всегда было в бытии (= радости и свете), а наши лица погружены почти всегда в унылое бывание, а то еще и хуже: в пошлое, тоскливое бытование» (48, с. 767). И мы в нашей земной жизни существуем в бывании, но можем и должны подняться к бытию, страшась опуститься в бытование или пасть в небытие… Так он думал, так старался жить.
В 1930-1940-е годы Дурылин писал статьи, рецензии, книги, научные доклады, но сейчас их трудно читать: скучные, ровные строчки, будто выписанные по шаблону. Нет и следа той взволнованной и поэтической искренности, переполнявшей его дореволюционные статьи… Их писало время (редакторы и цензоры), а не Сергей Николаевич, который скрывал свое сокровенное. «…И звуков небес заменить не могли / Ей скучные песни земли» – эти лермонтовские строчки нередко встречаются в записях Дурылина.
Он принципиально избегал всех официальных проявлений советской действительности. Например, не ездил на заседания ученого совета Института искусствознания под предлогом утомительности дороги из подмосковного Болшево, когда же за ним посылали машину – опаздывал из-за «пробок» на железнодорожном переезде. Однако тихо и упорно отказывался переехать из своего угла в Москву. Он не примерял на себя маску «советской лояльности», просто ушел в сторону. В дневник он записал фразу своего друга Н. К. Метнера, вернувшегося в Советскую Россию после пятилетнего отсутствия и увидевшего на Никитской улице вывеску: «Улица Герцена». «Ничего не сказал, только спросил: “А Никитский монастырь тоже теперь переименован в монастырь Герцена?”» (48, с. 378).
Небольшой деревянный дом Сергея Николаевича в Болшево и сейчас производит впечатление «неотмирного». В его комнатах будто застыла давняя тишина и отголоски давних разговоров. Не случайно, конечно, Ирина Комиссарова смогла использовать для постройки дома деревянные материалы от разрушенного в начале 1930-х годов Страстного монастыря (двери, оконные рамы, доски).
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Дурылин был не один в своем стремлении отъединиться от подавляющей советской действительности. Человек его поколения и его круга – писатель М. М. Пришвин уехал из Москвы в подмосковную деревню Дунино. 7 января 1940 года он записал в дневнике: «Прошлый год еще “Комсомольская правда” имела лицо, а теперь все кончено: все газеты одинаковы. И этот процесс уравнения, обезличивания шествует неумолимо вперед, и параллельно ему каждое живое существо залезает в свою норку и только там, в норке, в щелке, в логове, о всем на свете позволяет себе думать по-своему» (131, с. 9). Тем не менее оба старых интеллигента не бедствовали, были официально признаны властью, публиковали книги, оба имели орден Трудового Красного знамени и – скончались в один год, в 1954 году.
В 1944 году дочь его друга молодости протоиерея Сергея Сидорова (расстрелянного к тому времени в застенке, но до ареста не изменившего отношения с Дурылиным) приехала к нему на дачу в подмосковное Болшево, «…помню ощущение довольства и сытости, столь необычное для меня в обстановке тогдашнего недоедания и неустройства. Помню обед на залитой солнцем террасе, белые салфетки, милую тихую его жену. И самого Сергея Николаевича, маленького, суховатого, немногословного и очень уверенного в себе», «незаурядного, талантливого человека» (156, с. 171).
Жестокая эпоха придавила и скрутила Дурылина, оборвав его деятельность в философии и литературе, и он, видимо, терзался невозможностью полнее раскрыть свои таланты. «’’Жизнь пронеслась без явного следа”. Строчку эту помню с ранней юности. Помню. А думал ли, что это будет итогом? Для юности – жизнь горит звездой, которая вся – моя. В зрелых годах – это лампа, в которую надо подбавлять керосину, чтобы она не потухла. В старости – это свеча (дай Бог, чтобы не сальная, а восковая), которая вот-вот потухнет…» (48, с. 509).
В записях для себя, опубликованных почти сорок лет спустя после его кончины, Сергей Николаевич Дурылин вспоминал старца Анатолия: «Он никогда и никому, сколько знаю, не приказывал и не повелевал никем, хотя знаю десятки людей, только и желавших, чтоб он приказывал им. Я сам был одним из них долгие годы. Вероятно, если б сказать ему, что он высоко ценит свободу человеческую и свободное деяние человека, он засуетился бы, замял бы разговор с детскою стеснительностью, с улыбкой пощады и даже вины какой-то. А он действительно ценил эту свободу… Где свобода, там и борьба. От этой благой борьбы он не избавлял тех, в силы коих верил…» (47, с. 315). Эту трудную проблему – свободы в христианстве – Дуры-лин решал своей жизнью.
4
До сих пор не прекращаются споры по вопросу, снял ли он с себя сан – многие отрицали этот факт. Б. Селиверстов считал, что Дурылин сана не снимал, но прекратил служить из-за женитьбы на Ирине Алексеевне из мечевской общины (ИЗ, с. 668). С. И. Фудель объяснял иначе: «Человек, полный веры, наверное, ничем не жертвует, отходя от мира, с тайным вздохом о своей жертве, так как, наоборот, он все приобретает: он становится теперь у самых истоков музыки, слова и красок. Если священство есть не обретение “сокровища, скрытого в поле”, а некая “жертва”, то, конечно, тоска о пожертвованном будет неисцельная и воля в конце концов не выдержит завязанного ею узла. Так я воспринимаю вступление Сергея Николаевича в священство и его уход из него… Мне кажется, что Сергей Николаевич принял на себя в священстве не свое бремя и под ним изнемог. Как сказал апостол, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить (Флп. 3, 16). Нельзя жить выше своей меры, выше того, чего достигла душа» (195, с. 45, 52).
А в письме находившегося в ссылке митрополита Кирилла (Смирнова) от 12 (25) апреля 1934 года мы вдруг видим упоминание об «одаренном человеке» – «о. С. Дурылине» (4, с. 869), а уж маститый иерарх должен был знать давние-давние новости.
Сергей Николаевич Чернышев, сын Коли Чернышева, в детские годы прожил несколько лет в Болшево, в доме Дурылина. Он рассказывал, что Сергей Николаевич и Ирина Алексеевна даже в праздники не ходили в церковь, расположенную в сотне метров от их дома, но – по утрам в комнату Сергея Николаевича почему-то нельзя было входить, у него всегда были свежие просфоры, а на внутренней стороне двери висела его епитрахиль…
Для написания портрета «неизвестного священника», возможно в 1927 году, Сергей Николаевич Дурылин принужден был вновь надеть рясу и священнический крест. Тяжелая дума на его лице. О чем? Быть может, вспоминал он в те минуты слова святителя Феофана Затворника: «Бог везде доступен. И сам Он не ближе к Афону, чем к Елатьме. Всяко делайте, как душа!..».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































