Текст книги "Путь истины. Очерки о людях Церкви XIX–XX веков"
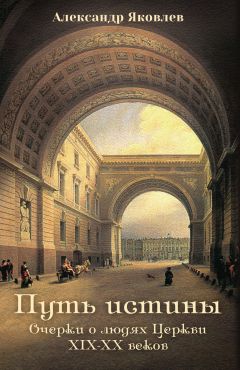
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
В своих беседах, проповедях и интервью митрополит Антоний часто говорил о пути к Богу, о поисках Бога, о важности и трудности молитвы, о страданиях людей, болезнях и смерти; он раскрывал перед слушателями содержание догматов христианской веры, сущность православных таинств, толковал тексты Евангелия; он указывал им на высокое достоинство и призвание человека, на бесконечную ценность человека для Бога. В центре богословских рассуждений владыки постоянно были Бог, Церковь и человек. В одной из бесед в своем лондонском приходе осенью 1999 года митрополит Антоний убежденно говорил: «Церковь действительно – богочеловеческое общество. Первый член Церкви – Господь наш Иисус Христос. Сила, которая каждого из нас приобщает к этой тайне Христа, – Дух Святой, и во Христе и Духе мы делаемся детьми Бога и Отца» (8, с. 807).
Дар проповедника милостью Божией проявлялся в том, что самые сложные проблемы владыка излагал простым и ясным языком, пояснял самыми житейскими примерами; сказанное он подкреплял мнениями преподобного Серафима Саровского, преподобного Макария Оптинского, святителя Феофана Вышенского или святого и праведного Иоанна Кронштадтского, а то и цитатами из Верхарна или Лермонтова, ссылками на современных писателей. Иногда он повторялся, иногда удивлял резкостью суждений или неожиданностью сравнений.
Сам владыка был неизменно доброжелателен и готов к восприятию нового. Он говорил, что «везде можно найти очень много ценного – не открываясь всему, а вглядываясь во все. Как говорит апостол Павел, все испытывайте, доброго держитесь (1 Фес. 5, 21). Но если мы не будем “испытывать”, то есть, не будем всматриваться, стараться понять то, что вне нас, мы, конечно, сузимся настолько, что перестанем быть воплощением Православия. Потому что Православие так же просторно как Сам Бог» (7, с. 86).
Слово митрополита Антония звучало непривычно для современного общества, ибо призывало изменить не взгляды и убеждения, а образ жизни людей, предлагало новые для них идеалы и ценности Православия: Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Иисусе Христе. Духа не угашайте (1 Фес. 5, 16–19).
Но при всем этом богословствование митрополита Антония, неизменно основанное на Священном Писании и учении Отцов Церкви, оказывалось поразительно актуально, созвучно текущему дню. Сам владыка объяснял это так: «Наш долг – погружаться в опыт и мысль Церкви в прошлом и быть открытыми на современность, потому что Бог современен всякой человеческой исторической эпохе. И для того чтобы строить Царство Небесное, не надо оглядываться на прошлое – надо вместе с Богом строить из того, что есть, настоящее, которое вырастет в будущее» (8, с. 369).
Владыку волновала судьба Церкви в СССР, под гнетом коммунистического режима, но все же главным он полагал преобразования в душах людей. Митрополит Антоний с готовностью откликался на приглашения послужить в московских храмах. Он служил в храмах святого Иоанна Воина, святителя Николая в Кузнецах, пророка Ильи в Обыденском переулке, святителя Николая в Хамовниках и других. Он переписывался с протоиереем Всеволодом Шпиллером, обсуждая вопросы «молодого епископата», церковно-приходской жизни, различия в религиозном сознании людей, недавно пришедших в храм и традиционно церковных, конфликты внутри Русской Церкви, «самостоятельности и независимости» отдельных Церквей. В «колоколенке» Николо-Кузнецкого храма отец Всеволод устраивал ему встречи с архиепископом Ермогеном (Голубевым), церковными диссидентами отцом Глебом Якуниным и отцом Николаем Эшлиманом, из бесед с которыми для владыки Антония становились более понятными проблемы русской церковной жизни. Он писал отцу Всеволоду 25 августа 1967 года: «…Мне совершенно ясно, что внутреннее церковное положение в России чрезвычайно сложно, что люди искренние, честные и до конца преданные Церкви могут расценивать его очень различно». Оба с большим вниманием относились к осмыслению существования Русской Церкви под омофором Святейшего Патриарха Алексия, вовсе не стоящей в «мертвой неподвижности», а напротив, живущей «трепещущей Духом жизнью, наполненной глубочайшим, чисто православным новым духовным религиозным опытом сегодняшнего дня» (213, с. 309–310, 330).
Владыка Антоний не просто любил Россию. Он знал и понимал ее историю, историю ее Церкви. В одной из бесед, говоря о святости, он привел такой пример из истории Советской России в начале 1920-х годов: «Святой – это человек, который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом. Скажем, канонизация Патриарха Тихона в этом отношении характерна. Он чудес не творил, но сам был чудом. Это человек, который, оказавшись перед лицом совершенно небывалых событий, неслыханных ситуаций, сумел вглядеться в них глазами веры, с углубленностью, и прочесть в них смысл, и направить Церковь по пути истинно церковно-христианскому, евангельскому» (8, с. 368).
О внимании к текущим проблемам церковной жизни в СССР дает представление переписка митрополита Антония с протоиереем Всеволодом Шпиллером, настоятелем Николо-Кузнецкого храма в Москве. Они были близки не только духовно. Оба – дети русских эмигрантов, провели детство и молодость в Западной Европе и – главное – принадлежали к той старой русской культуре, которая выжигалась и вытаптывалась в СССР. В письме от 25 августа 1967 года владыка Антоний передает свое беспокойство в связи с тем, что «внутреннее церковное положение в России чрезвычайно сложно и что люди искренние, честные и до конца преданные Церкви могут расценивать его очень различно», особенно с учетом того, что и русская эмиграция давно разделилась на различные течения, иногда непримиримо враждебные друг к другу. Отец Всеволод отвечает 16 декабря 1967 года, что «горячо разделяет» с владыкой надежду на «победу подлинной церковности над многовековым обмирщвлением». Очень показательно, что два глубоко православных и церковных человека сходятся во мнении, что серьезной угрозой для
Церкви в России являются уже не гонения атеистического государства, а проблемы внутренние, причем эти проблемы не созданы отдельными людьми, а были порождены в ходе церковной жизни в течение веков. «Конечно, нужно ясно сознавать вред, вносимый в Церковь подменой подлинной церковности лжецерковностью», – утверждает отец Всеволод. Неправославный экклезиологический субордиционализм вносит в Церковь «казарменно-дисциплинарный» принцип подчинения, преодоление этого принципа «означает преодоление вносимой им в Церковь лжи» (208, с. 310, 322–323). Сам владыка Антоний никогда не подменял принцип порядка принципом субординации, всегда был прост и доступен.
В каждый свой приезд в Советский Союз митрополит Антоний стремился внести свой вклад в русскую церковную жизнь, но в условиях жесткого государственного контроля возможно было немногое. Он приходил по приглашениям на встречи в частных домах, а при возможности – и в духовных академиях. Его уже хорошо знали по регулярным беседам на волнах Би-Би-Си, которые перепечатывались на машинке и широко ходили по рукам в «самиздате».
В одном из «Непридуманных рассказов» Л. С. Запариной описан вечер 13 сентября 1978 года, проведенный митрополитом Антонием в одном из знакомых ему московских домов. Присутствовало человек 10–12. Владыка вел себя невероятно просто, без всякого «благолепия». Завязался непринужденный разговор. Один из собеседников с волнением стал говорить о таинстве Причащения, что он всякий раз ощущает себя недостойным. Владыка ответил, что святыню осквернить нельзя, как нельзя осквернить огонь: «Не важно, что бросается в огонь – чистые дрова или мусор. Все одинаково превращается в огонь». От разговора о Причастии беседа перешла к тому, что есть молитва, в чем ее важность, и вновь присутствующие увлеченно внимали проникновенным разъяснениям митрополита Антония. «Я решила попросить Владыку помолиться вместе с нами, – рассказывала Л. С. Запарина, – так как знаю по опыту, что Владыку надо видеть именно в молитве. Описать его в молитве невозможно: абсолютная сосредоточенность, абсолютная поглощенность, абсолютная простота, трепетная любовь. Какой-то особенный, глухой голос и какая-то удивленная интонация, как будто Владыка сам не может поверить в невероятное чудо: в дар молитвы, в возможность, которую мы имеем обращаться прямо ко Господу. Традиционные, всем известные молитвы он говорит так, словно они возникают впервые, и слушаются они тоже так, как будто мы их раньше не слышали… И в трепетной, напряженной тишине каждый слышит ответ в своем сердце» (56, с. 290).
«Вряд ли можно вообразить сейчас, каким взрывом было явление слова Владыки в той Москве, – вспоминала О. А. Седакова. – Многие тогда думали, что все дело в знании: надо поскорее и поточнее узнать, как правильно все делать, сколько раз, как именно. На одной из встреч кто-то характерным образом спросил Владыку: Сколько раз в день нужно читать Отче наш? И услышал, со ссылкой на кого-то из подвижников, что человек, один раз в жизни в самом деле призвавший Господа, уже не погибнет. Такая мера обескураживала» (77, с. 763, 767). Как не заметить, что столетием ранее святитель Филарет предлагал путь христианской жизни в условиях европейской культуры с непременным условием: «хотя однажды в день» упразднить себя «от всякого внешнего земного занятия, попечения, пристрастия» и ввести душу «в благоговейное безмолвие пред Богом» (179, т. 4, с. 317).
Владыка Антоний стремился к общению с русской молодежью, жадно слушавшей его беседы и засыпавшей его вопросами. Он отвечал без устали, с готовностью, щедро делясь своими знаниями, размышлениями и пастырским опытом. В своем выступлении в 1978 году в Московской Духовной Академии владыка как-то поделился сокровенной мыслью: «Если бы только мы отдались в Божию руку и дали Богу двигать нашей рукой, писать свою скрижаль таинственную нашей рукой, но Его движением, не было бы того уродства, которое мы создаем на земле…» (6, с. 116).
В то же время митрополит Антоний нисколько не идеализировал церковную ситуацию в России. В интервью 1990 года он отмечал: «Чего, конечно, не хватает Русской Церкви – это образованности рядового верующего в вопросах веры»; «Политический конформизм – это болезнь Русской Церкви издавна… Церковь не может быть принадлежностью какой бы то ни было партии, но она вместе с тем не беспартийна и не надпартийна. Она должна быть голосом совести, просвещенной Божиим светом» (7, с. 73, 75). Он не приноравливался к духу времени, хотя был законопослушным епископом Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Возрастала степень его общественного признания. В 1973 году богословский факультет Абердинского университета присудил митрополиту Антонию почетную степень доктора богословия «за проповедь слова Божия и за оживление духовной жизни в Великобритании». 3 февраля 1983 года митрополит Антоний стал доктором богословия Московской Духовной Академии «за совокупность научно-богословских и пастырских трудов», в 1996 году он получил то же звание от Кембриджского университета, в 2000 году – от Киевской Духовной Академии. Владыка был награжден нескольким орденами Русской Православной Церкви, братских Православных Церквей, Англиканской Церкви.
Последний приезд митрополита Антония на русскую землю состоялся в июне 1990 года. Он принял участие в работе Поместного Собора Русской Православной Церкви, избравшего Святейшего Патриарха Алексия II.
Шли годы. Возрастал объем работы главы Сурожской епархии (от обязанностей экзарха Московской Патриархии в Западной Европе владыка Антоний отказался в 1974 году). Митрополит пытался быть бодрым и деятельным, по-прежнему служил по воскресеньям в лондонском соборе Успения Божией Матери и Всех святых, принимал людей, желающих с ним поговорить, но уже не по 14 часов в день, а все меньше и меньше. Но тем больше ценились его беседы, в которых владыка вновь и вновь задумывался над самыми важными для православного человека вопросами. Как сказал позднее митрополит Смоленский Кирилл, будущий Патриарх Московский и всея Руси, «в те времена, когда у нас не представлялось возможным возвещать Христову истину вслух, владыка Антоний имел возможность делать и делал это».
После распада СССР в Англии появляется все больше выходцев из Советского Союза, что повлияло на жизнь лондонского прихода. Новоприбывшие тосковали по Родине, а старожилы стремились уберечься от напора «русскости», которая оборачивалась «советскостью». Возникали споры о языке богослужения. Ранее владыка говорил, что молиться надо на такой глубине, где язык не имеет значения, но теперь некоторые не соглашались с двуязычием. Иные ставили под сомнение содержание проповедей владыки Антония. В те же годы в западноевропейских странах нарастало явление апостасии (отпадение от христианской веры). Католический кардинал Йозеф Ратцингер (будущий папа Бенедикт XVI) еще в 1990 году констатировал: «Положение веры и богословия сегодня в Европе отмечено реакцией усталости по отношению к Церкви». В начале XXI века пятьсот художественных критиков назвали самым главным произведением современного искусства «творение» Марселя Дюшана, выставившего в 1917 году на выставке в Нью-Йорке писсуар. В мире нарастало ощущение бессмысленности и хаоса. Для верующих людей важным оказалось не только сохранить веру, но также избежать духа самодовольства от знания истины. Еще в I веке апостол Павел призывал коринфян: Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте… (2 Кор. 13, 5).
В октябре 2001 года – июне 2002 года митрополит Антоний произнес цикл бесед, оказавшихся последними. Почтенный старец вдруг предлагает прихожанам задуматься над своей верой, – это после десятилетий приходской жизни, соблюдения церковных правил, чтения Писания, молитв за литургией и регулярного причащения Святых Таинств. И вновь трудно удержаться, чтобы не напомнить одну из проповедей святителя Филарета (Дроздова), утверждавшего, что преданность Богу вовсе не значит «сложить навсегда руки, сесть и ожидать своего спасения. Совсем нет! Если кто в самом деле такое составил себе понятие о преданности Богу… тот в заблуждении; он предается не Богу, но лености» (179, т. 2, с. 68). Такого рода духовная неуспокоенность пронизывает пятнадцать бесед митрополита Антония. Ведь события 11 сентября 2001 года показали со всей очевидностью отсутствие Божественной гармонии в нашем мире. «Мы живем в мире, который утратил всецелое единство и приобщенность к Богу, и поэтому в нем присутствует не только гармония и красота, но и пугающее уродство… Порой охватывает ужас, когда смотришь на окружающий нас мир» (8, с. 98).
«На каждом этапе нам может открыться истинное знание о Боге, – тихо, слабым голосом, с долгими паузами говорил владыка, – но это знание может оказаться истинным только на данный момент, в меру нашей духовной глубины, развития и возраста. И как радостно думать, что наше понимание будет дополняться новыми открытиями и наше представление о Боге со временем будет становиться бесконечно прекраснее и бесконечно загадочнее! И нам не нужно бояться сказать: “Господи, мне казалось, что я понимаю, теперь я перестал понимать. Что мне делать?”» (9, с. 19).
Не осуждая прямо опасность самодовольной дремы в церковной ограде, владыка призывает своих прихожан к единственно возможному способу существования в Церкви Христовой – к предельной серьезности и искренности в отношении к Священному Писанию и Священному Преданию, в виде богослужения, жития святых, трудов Отцов Церкви. «Сомнение, вопрошание – это не неверие. Ставить вещи под вопрос способен только тот, у кого есть подлинная вера и уверенность…». В то же время, сам будучи глубоким богословом, он предлагает путь опытного, сердечного богопознания, исходя из опыта и возможностей каждого. Владыка оговаривает, что не покушается на «простоту и цельность веры других людей», но приглашает не оставлять неразрешенными возникающие нередко трудные вопросы, не откладывать их на неопределенное «потом», призывает не просто читать написанные святыми молитвы, но стараться находить в своем сердце созвучие: «Мы довольствуемся провозглашением истины, которую святые пережили на опыте, а мы познали умственно». Так святитель Феофан Вышенский советовал выбрать для себя одну-две короткие молитовки из вечернего правила, наиболее близкие и понятные, и их повторять в течение дня.
«Я чувствую, что предложенный мной подход к вере и к самим себе смутил некоторых из вас, – так начал свою беседу митрополит Антоний 16 мая 2002 года. – Недавно мне из России пришло несколько писем, в которых говорится: мой подход неправославный, и то, что я говорю, или просто ересь, или недостаточно продуманно». В чем же «наша проблема, вернее, вызов нам»? Для того «чтобы пребывать в истине, не достаточно провозгласить ее словами. Мы пребываем в истине только тогда, когда она становится нашей жизнью». «И цель нашей духовной жизни, с одной стороны, научиться различать, что есть тьма, а что – свет, но, помимо этого, жить светом, жить в свете» (9, с. 185, 198,239). Иначе говоря, трудные вопросы следует задавать прежде всего себе, а не окружающим или Церкви.
Нельзя не удивиться смирению самого владыки, открыто сказавшего: «Возможно, моя беседа покажется неясной, потому что я буду говорить о том, что старался понять, но пока не понял в достаточной мере» (9, с. 75). В этих последних беседах, своего рода духовном завещании владыки Антония, затрагивается немало трудных богословских тем, однако предлагается не учение, не непреложные истины, а искание живого сердца, трепещущего перед величием Бога и уверенного в Его любви. «Я надеюсь, что все сказанное мной хоть в малой степени поможет вам обрести свой собственный путь, каждому свой особый путь, который соединяет его со Христом Богом» (9, с. 255). По сути дела, предлагалось усиление мистического начала, что уже случалось в истории Русской Церкви в начале XIX века, также в эпоху крутых перемен в общественной жизни. В то же время не стоит забывать, что самый уклад церковной жизни в Сурожской епархии сложился весьма специфический, да и сам владыка Антоний не притязал на универсальность или неоспоримость своих взглядов.
Силы убывали. В мае 2002 года, уже зная свой диагноз – рак, он в последний раз возглавил работу Епархиального съезда, 30 июня совершил Епархиальную литургию. 27 апреля 2003 года владыка появился на Пасхальной службе, что стало огромной радостью для всех молящихся. Но то был последний его год.
4 августа 2003 года митрополит Антоний скончался. Его уход был с печалью воспринят во многих странах мира. Архиепископ Кентерберийский Роэн Уильямс говорил о значении личности владыки для всех верующих в Великобритании. Святейший Патриарх Алексий II направил епископу Сергиевскому Василию и пастве Сурожской епархии послание, в котором говорилось: «С глубокой скорбью вся полнота Русской Православной Церкви восприняла горестную весть о кончине видного иерарха и авторитетного духовного пастыря высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония. Кончина владыки Антония – это огромная потеря не только для верующих Великобритании, но и для всего православного мира. Покинул мир сей человек, который для многих стал поистине отцом и другом, остановилось сердце, горячо любящее Бога и Его Святую Церковь, умолкли уста неутомимого проповедника евангельской истины…». Его погребли рядом с матерью и бабушкой. На могиле поставили скромный православный крест.
Но остались более 20 книг митрополита Антония, в которых слышен его голос, ощутимо биение его беспокойного сердца. Он неизменно хранил верность России, говорил, что всегда мечтал вернуться в Россию, – и вернулся к нам навсегда в своих трудах.
Человек свободный и радостный
Протопресвитер Александр Шмеман

Имя отца Александра Шмемана (1921–1983) хорошо знакомо в России. За последние годы его труды просто и естественно стали частью того обширного и разнообразного духовного наследия, которым богата Православная Церковь. Однако за страницами книг и статей все яснее проступает личность их автора – человека яркого таланта, сильной мысли и пламенной веры. Все яснее становится величина и сложность этой личности, ее значительность, но также противоречивость и внутренний трагизм.
Александр Шмеман родился в 1921 году в Эстонии, в русской эмигрантской семье Дмитрия Николаевича Шмемана (1893–1958) и Анны Тихоновны Шмеман (урожденной Шишковой, 1895–1981). Со стороны отца его предками были остзейские немцы. В императорской России его дед Николай Эдуардович Шмеман был сенатором и членом Государственного Совета, его отец сражался в качестве офицера лейб-гвардии Семеновского полка в годы Первой мировой войны, а в годы гражданской войны – как офицер Белой армии. В 1928 году семья Шмеманов переехала в Белград, а с 1929 года обосновалась в Париже. Детство и юность Саши Шмемана прошли во Франции, ставшей после революции 1917 года одним из центров русской эмиграции.
Русская Франция, русский Париж – это не миф, это реальный мир шестидесяти тысяч русских людей, мир, существовавший несколько десятилетий внутри французского общества и государства по своим законам. В нем сохранялись социальные различия, и Саша Шмеман не был вхож в «высший свет», подобно его ровеснику Борису Старку, в будущем также протоиерею. Бурлили политические страсти, но семья Шмеманов сторонилась политики, и эта отстраненность сохранилась у нашего героя на всю жизнь. Большинство русских эмигрантов жило в трудных материальных условиях, иные просто боролись за выживание, и не это ли сформировало у будущего священника спокойное отношение к материальной стороне жизни, которая является необходимым условием существования человека, но никак не более того.
Однако думается, два иных обстоятельства были определяющими в формировании личности отца Александра. Первое – вера в Бога, тяга к Церкви, осознание истинности Евангельских заповедей. Такая основа мировосприятия Саши Шмемана сформировалась в условиях возрождения веры и церковности в среде русской эмиграции как реакция на потерю родины, на ужасы революции и гражданской войны, наконец, на остро переживавшееся поначалу отчаяние и безысходность эмигрантской жизни. Парадокс состоял в том, что лишь после потери православной империи, после того, как рухнула вся видевшаяся неколебимой обеспеченная жизнь со службой, балами и вечеринками, театрами и диспутами, – лишь тогда некогда вольнодумная верхушка русского дворянства, буржуазии и интеллигенции осознала истинное соотношение материального и духовного. Не все, конечно, но многие. В такой атмосфере возникла и утвердилась истинная церковность Александра Шмемана, не просто знание порядка богослужения, текстов молитв и канонов, а ощущение своей внутренней, сердечной соприкосновенности с миром иным, с Царством Небесным.

Протопресвитер Александр Шмеман
И второе обстоятельство – русская культура. Эмиграция видела свою высокую миссию в сохранении и приумножении русской культуры, истоки которой – от Крещения Руси и приобщения к античному и византийскому наследию до европеизации России при Петре и Екатерине. На родине великую культуру большевики стремились заменить новой, «пролетарской» или «коммунистической», пока перед угрозой Второй мировой войны не осознали органическую важность отеческих корней. Юный Саша Шмеман, подобно сотням своих ровесников, среди которых был и будущий митрополит Сурожский Антоний, тогда просто Сережа Блум, существовал в пространстве чужой французской культуры, но жил в атмосфере русской культуры. Школы для детей русских эмигрантов, летние лагеря, воскресные беседы священников, русские газеты и журналы, книги Б. С. Зайцева, И. А. Бунина, И. С. Шмелева и других русских писателей, сама жизнь в семье в соответствии с дореволюционным укладом – все это не просто закрепляло самоидентификацию «я – русский», но формировало устойчивое чувство принадлежности к великой культуре. И в то же время это ощущение своей «русскости» ничуть не мешало впитывать великую французскую культуру, также ставшую для него своей.
Александр Шмеман поначалу учился во французской католической школе. В 1930 году родители отдали его (и младшего брата Андрея) в Русский кадетский корпус в Версале, основателем и директором которого был генерал Владимир Валерианович Римский-Корсаков (1859–1933), знаток и почитатель русской культуры, сумевший передать свою любовь ученикам. Старый генерал выделял Сашу Шмемана, ощутив незаурядность его натуры. Он открыл для своего любимца мир русской поэзии, давал ему тетрадки с переписанными от руки стихами, поощрял его интерес к литературе, и с поэзии началось «освобождение души», вспоминал позднее отец Александр, пробудилась интуиция «иного мира», «печаль по Богу» – на всю оставшуюся жизнь. После смерти Римского-Корсакова, впервые осознанной как непоправимая утрата, мальчику стало трудно переносить военизированную атмосферу корпуса, и осенью 1935 года он попросил маму перевести его во французский лицей.
Прошли десятилетия, но память о корпусе он сохранил. В 2005 году был опубликован «Дневник» отца Александра за 1973–1983 годы, в котором он предстал человеком русской культуры в той же мере, что и европейской. Ясный, точный, богатый красками и оттенками русский язык соседствует на страницах «Дневника» с фразами на французском и словечками на английском языках, а размышления над рассказами Чехова и романами Солженицына перемежаются с суждениями о новинках французской литературы. 10 апреля 1973 года он записывает: «…Корпус, может быть, самые важные пять лет всей моей жизни… Прививка “эмигрантства” как высокой трагедии, как трагического “избранства”. Славная, поразительная, единственная Россия, Россия христолюбивого воинства… Влюбленность в ту Россию. Другой не было, быть не может. Ее нужно спасти и воскресить. Другой цели у жизни нет».
Пять лет, с 1935 по 1940 год, продолжалось обучение в лицее Карно. Однако погружение в мир французской культуры шло наряду с постижением мира Православия. Еще в корпусе тонкая душа Саши Шмемана чутко отозвалась на Евангельскую весть. Священники Зосима-Савватий (Телицын, 1860–1951) и Савва (Шимкевич, 1899–1961) приметили мальчика. После переезда в Париж он стал посещать богослужения в русском соборе святого Александра Невского на рю Дарю и начал прислуживать в алтаре. Митрополит Евлогий (Георгиевский, 1868–1948) сделал его своим иподиаконом. Такое, более глубокое участие в богослужебной жизни приблизило его к выбору своего пути: служение Церкви.
В скучные часы занятий в лицее Саша Шмеман мечтал. Ему виделись любовь и счастливая семейная жизнь, занятия литературой, путешествия по всему миру, встречи с интересными людьми, признание его заслуг, но обязательно и прежде всего – Церковь… И все это осуществилось.
В годы Второй мировой войны Александр Шмеман жил во Франции, переживавшей войну иначе, чем Советская Россия. Война и оккупация окрасили годы его молодости в особые цвета. Кучка голодных студентов в нетопленой аудитории Свято-Сергиевского богословского института слушала лекции протоиерея Сергия Булгакова о толковании Апокалипсиса, и древние тексты пророчеств не могли не восприниматься всерьез. Впрочем, Александр Шмеман в отличие он Андрея Блума не принимал участия в движении Сопротивления немецкой оккупации. В годы учебы он влюбился, а в 1943 году женился на Ульяне Осоргиной. По окончании института в 1945 году становится его преподавателем, в 1946 году был рукоположен в сан священника. Судя по всему, то были скудные внешне, но счастливые и богатые внутренне годы жизни отца Александра. Провидение будто хранило и подготавливало его к будущему служению, в котором он щедро делился с другими накопленной радостью.
Радость эта складывалась из жизни с родителями и сердечной дружбы с братом-близнецом Андреем (1921–2008), из нежного и прочного духовного сродства со своей женой, которую он стал называть Льяна.
Радостью был и Париж, город, который отец Александр искренно любил, в котором ему было легко и хорошо.
Радостью была учеба в Богословском институте, в котором в то время действовала великая «парижская плеяда»: протоиерей Сергий Булгаков, иеромонах Киприан (Керн), профессор А. В. Карташев, протоиерей Николай Афанасьев, профессор В. В. Зеньковский. В написанных много позднее воспоминаниях об учителях отец Александр говорит о них с теплым чувством любви, но присущий ему дар аналитичности побудил к определению главных черт ушедших наставников. Это важно, потому что вольно или невольно он выделял черты ему близкие или чуждые, и по этим мемуарным очеркам мы можем в какой-то мере представить их автора.
Очерк о протоиерее Сергии Булгакове (1871–1944) начинается с печальной констатации: в год его столетия великий богослов оболган и забыт, его сочинения либо отвергаются, либо не востребованы. Причиной тому служит характерная черта русской культурной жизни – нетерпимость к иномыслию. Но почему же, задается вопросом отец Александр, «…всегда у нас осуждений было больше, чем обсуждений, разрывов и отрицаний больше, чем стремления понять, “принципиальной” узости больше, чем духовной щедрости и доверия?» (211, с. 849). Отец Александр никогда не увлекался «софиологическими» умозрениями отца Сергия. В мемуарах он рассказывает о своем понимании самого значительного и самого спорного мыслителя русского зарубежья, почвой которого «было, конечно, русское Православие. Само собой разумеется, что словосочетание это не догматического порядка, ибо догматически, вероучительно русское Православие ничем не отличается от породившего и вскормившего его Православия византийского, вселенского… Не подлежит, однако, сомнению, что существует внутри вселенского Православия особый русский тип его, исторически сложившийся, хотя и не легко определимый» (211, с. 852). «Я не знаю, да и никто не знает, что будет с Россией, – завершает очерк отец Александр. – Но, вспоминая о. Сергия и вместе с ним ту удивительную плеяду, которая не случайно же просияла в России одновременно с нарастанием русской катастрофы, в одном нет у меня сомнения – в том, что у русской культуры, у России нет иного пути, как в Церковь, что в этом пути ее духовная судьба» (211, с. 858). Истоки этой убежденности, по всей очевидности, – из опыта общения с протоиереем Сергием.
Богословский институт соединял людей. Еще до поступления туда Александр Шмеман познакомился с архимандритом Киприаном (Керном, 1899–1960), Владимиром Васильевичем Вейдле (1895–1979) и Константином Васильевичем Мочульским (1892–1948), которого всегда помнил, «маленького, хрупкого, радостного». Уроки, полученные в Институте, не сводились к «прохождению» тех или иных курсов. «Подлинный мистический опыт никаких символов не знает – ибо он чистейший и полнейший реализм. Двух миров не существует для верующего человека – есть только один мир – в Боге, и это просто и реально» – эти слова Мочульского послужили выработке богословия самого отца Александра. А взгляды Вейдле на современное европейское искусство, наиболее отчетливо выраженные в книге «Умирание искусства» (1937), об утрате искусством живой связи с бытием, утере художниками веры в «чудесное» и необходимости возвращения их к христианству, которое питает собой всякое творчество, – заложили основы восприятия отцом Александром мировой культуры.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































