Текст книги "Графиня Потоцкая. Мемуары. 1794—1820"
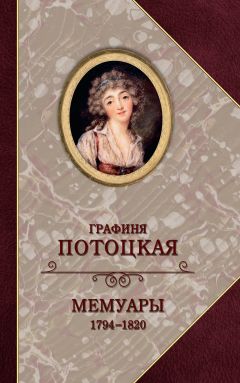
Автор книги: Анна Потоцкая
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Прогулки по Парижу
Графиня Мнишек – Пассаж «Панорама» – Польская королева – Посещение ателье художников – Давид – Жироде – Жерар – Авторы мемуаров – Аббат Морелле – Мадемуазель Ленорман – Госпожа де Суза и маленькая волшебница – У предсказательницы – Бурная молодость – Предсказание о рождении князя Морица Потоцкого
У меня в Париже была еще одна тетка – графиня Мнишек, которая приходилась двоюродной сестрой моей матери и племянницей последнему нашему королю. Она отнимала почти все мое свободное время. Очень добрая, но недалекая и до смешного тщеславная, она считала себя вправе настаивать на прерогативах принцессы крови, и из-за этого с ней не раз случались досадные приключения. Ни печальный конец последнего польского короля, ни раздел нашей несчастной страны не могли излечить ее от этих вздорных притязаний. Когда русская императрица еще осыпала поляков милостями, она пожаловала тетке орден Святой Екатерины, с которым та почти не расставалась: в Вене ее так и прозвали графиней Звезды, причем она даже и не подозревала, в какое смешное положение часто ставит себя, всецело занятая тем, чтобы с помощью роскоши и богатства поддержать блеск своего происхождения.
В Париже ей удалось заполучить к себе на службу метрдотеля несчастной принцессы де Ламбаль. Секретарем у нее состоял господин де Билль, знатное происхождение которого было настолько же бесспорно, насколько темно, но, по мнению графини, он придавал много блеска ее дому.
Она давала великолепные, но очень скучные вечера, на которые приглашала захудалых вельмож и никому не ведомых писателей, но и те при малейшей возможности исчезали из ее салона. Это не входило в ее расчеты, так как, по ее мнению, приглашенные должны были вести оживленную беседу. Не зная, как добиться этого, и желая удержать за столом все общество, она приказывала не убирать со стола по окончании ужина и тем удерживала у себя гостей. «Самые оживленные разговоры, – говорила она, – ведутся всегда за столом».
Она провела во Франции уже два года и готовилась к отъезду, но прежде чем покинуть эту страну, посетила все достопримечательности французской столицы.
В это время в Париже только открылся пассаж «Панорама», и считалось признаком хорошего вкуса делать там покупки. Тетка, отправляясь туда, взяла с собой своих дочерей, а также самую младшую и самую остроумную из дочерей принца де Линя – принцессу Флору. Кроме того, нас сопровождала многочисленная и блестящая свита: два ливрейных лакея в ярко-красных с золотыми галунами ливреях, негр и гайдук. Когда мы проезжали по улицам, публика останавливалась поглазеть на нас.
Секретарь, снабженный туго набитым кошельком графини, следовал за нами в маленьком экипаже. В его обязанности входило расплачиваться за покупки, сделанные графиней.
Едва мы вышли из кареты, как были окружены мальчишками, и, по мере того как мы останавливались у магазинов, их толпа вокруг нас продолжала расти. Дошло до того, что многие влезали на балюстрады магазинов, чтобы лучше нас видеть. Бедная тетка, возбужденная производимым ею эффектом, превзошла себя в своих нелепых выходках, покупая все самое модное и дорогое, и при этом громко приказывала своему секретарю не торговаться, так как ей противна эта мужицкая привычка. Она упрашивала меня и принцессу Флору выбирать все, что нам понравится, и осыпала нас подарками.
Любопытству уличных мальчишек не было предела. К ним присоединились зеваки, которые не отходили от нас, чтобы не пропустить ничего интересного, что могло бы послужить материалом для газетных сплетен.
Принцессе Флоре вдруг пришло в голову обратиться к одному из преследовавших нас зевак:
– А вы знаете, кто эта дама? Это польская королева.
Она сама совершенно не ожидала того эффекта, которые произвели ее слова: толпа вмиг заполнила магазин, окружила нас со всех сторон и так стиснула, что мы едва не задохнулись. Поднялась неописуемая суматоха.
К счастью, хозяин магазина, заметив тщетные попытки наших слуг расчистить выход из магазина, вывел нас на улицу через потайную дверь, а тетка, не зная ничего о выходке принцессы Флоры, все время повторяла: «О да, некоторые особы не могут безнаказанно появляться на публике».
Так как мы решили осмотреть в Париже все, то посетили и ателье художников, где мне более всего понравились картины жанровые, отличавшиеся необыкновенной грациозностью; но воспитанная своим свекром на поклонении итальянской школе, я удивляюсь, почему французские художники, имея перед собой великолепные образцы, сделали такие ничтожные успехи или, правильнее сказать, не сделали никаких. В их картинах не было ничего великого, благородного, смелого. Правда, в произведениях молодых художников было меньше манерности, чем у Буше и Ван Лоо, но в то же время здесь не было видно ни тщательности рисунка Лесюэра, ни широкой кисти Пуссена, ни колорита Лебрена. При взгляде на картины молодых французских художников казалось, что все гениальное вышло из моды! Новая школа с презрением относилась к великим мастерам. Один Давид придерживался классической школы, но мертвенный колорит очень вредил точности его рисунка, придавая его картинам характер барельефов.
Мне кажется, картиной, обеспечившей Давиду бессмертие, является исторический портрет Наполеона, изображающий его при переходе через Сен-Бернар во главе армии, пробирающейся по ущельям, причем император изображен спокойно сидящим на гарцующем коне. Окончив свою «Дидону», Жироде должен был бы умереть, так как ни одно из его произведений не может сравниться с этой небольшой картиной. Правда, Эней несколько деревянный, ему не хватает живости, но по нему только скользишь взглядом, так как вся прелесть заключается в двух женщинах.
Жерар написал несколько великолепных портретов, он превосходен в этой области, но, чересчур увлекаясь выпиской деталей и тщательным воспроизведением кашемировых шалей и ажурных чулок, он отдает этим дань современному вкусу. Изображая на своих картинах придворные костюмы, богато вышитые золотом и отделанные кружевами, локоны, платья с короткими талиями, он придет к тому, что его картины рано или поздно выйдут из моды. Настоящий же художник должен рисовать так, чтобы его портреты были в то же время и картинами.
Зная, какие бешеные деньги берут художники за эти картины, я была очень удивлена, заметив во многих ателье массу начатых полотен, изображавших или императорскую фамилию, или самих заказчиков – богатых иностранцев: французы не были в состоянии позволить себе подобные дорогостоящие фантазии.
Молодые женщины, ведущие дневник своего путешествия, считают себя обязанными посвятить одну или две глубоко прочувствованные главы росту цивилизованности, наук и т. д. В большинстве случаев эти рассуждения взяты из какой-нибудь забытой книги или составлены кем-либо из ученых или друзей. Бывает и так, что подобные сочинения за определенное вознаграждение заказываются какому-нибудь неведомому писателю. Что касается меня, то, решив быть искренней во всем, должна признаться, что не искала знакомств с писателями. Для их правильной оценки совершенно достаточно, по-моему, написанных ими сочинений, а единичные визиты мне всегда казались бесполезными и неуместными: ведь нельзя же посещать ученого, чтобы только поглазеть на него как на какое-то чудовище.
Такой поверхностный способ составлять мнение о писателе всегда имеет в своей основе глупое тщеславие. Вернувшись домой, подобная особа пишет в своем дневнике: «Господин такой-то, известный своими выдающимися произведениями, принял меня самым любезным образом; мы разговаривали больше часу, и он быть поражен, с какой легкостью я выражаюсь на его языке; при этом советовал мне написать воспоминания. Это человек редких качеств, он чрезвычайно умен и т. д., и т. п. – одним словом, это один из тех ученых, которых можно встретить только во Франции и среди французов, в других местах наука неразрывно связана со скукой и т. д., и т. п.».
Меня немало удивляло, что знаменитости того времени редко показывались в свете. При таком стремившемся к равенству государе, каким был Наполеон, полагавшем, что каждая заслуга имеет право на почести, можно было бы встречать в свете больше артистов и литераторов.
У госпожи де Суза я видела только аббата Морелле, того самого, который во время Великой революции спасся от участи быть повешенным на уличном фонаре только благодаря своему остроумному вопросу: «Неужели вы думаете, что тогда он будет гореть ярче?» В это время он был уже очень стар, мало говорил и, обладая чудовищным аппетитом, приходил только к обеду. Пообедав, он отдыхал, похрапывая, в течение часа.
Меня часто просили завезти его домой, и я охотно брала на себя это поручение, тем более что жил он по соседству со мной. По дороге мы обычно молчали, но в тот момент, когда лакей открывал дверцу кареты, аббат считал своей обязанностью сказать мне какую-нибудь любезность и, уже стоя на подножке, произносил своим гнусавым голосом: «Благодарю вас, любезная и прелестная дама!» Я желала ему спокойной ночи, после чего мы расставались.
Во время этих обедов весело болтали обо всем.
Однажды кто-то упомянул о Ленорман по поводу ее предсказаний императрице Жозефине, половина которых уже исполнилась. Я выразила горячее желание увидеть эту знаменитую гадалку, но меня разочаровали, сообщив, что ее предсказания меняются в зависимости от вознаграждения, которое колеблется от 12 до 36 франков. После такого откровения исчезли всякие иллюзии.
Госпожа де Суза, не скрывавшая своей склонности к разного рода суевериям, рассказала, что знает гадалку гораздо более сведущую, чем Ленорман, которая предсказала ей необычайные вещи. «Если бы я не побоялась повторить их, – прибавила она, – вы бы страшно удивились: настолько они невероятны!»
Кто-то из присутствующих заикнулся было, не предсказывала ли эта гадалка падения Империи, но госпожа де Суза только покачала головой и, чтобы положить конец нескромным вопросам, предложила мне отправиться к гадалке вместе с ней. Я охотно согласилась, и через два дня мы привели в исполнение наше намерение.
Теперь я уже не помню, где жила эта гадалка. Мы отправились к ней пешком, в сумерки, переодевшись в простые платья. Моя спутница с весьма решительным видом поднялась по крутой лестнице на четвертый этаж какого-то дома. Я, слегка сконфуженная, не отставала от нее. У дверей нас встретила миниатюрная молодая женщина и спросила, что нам угодно.
– Я привела к вам свою родственницу, приехавшую из провинции; она желает знать, какая судьба ожидает ее в Париже.
Маленькая женщина, казалось, что-то вспомнила, но, не узнав госпожу де Суза, извинилась, сказав:
– У меня бывает масса народа, и неудивительно, что я не могу запомнить всех в лицо, тем более что никто из посещающих меня не называет своего имени.
Нам очень понравилась ее скромность, и моя спутница заметила, что тот, кто обладает даром предсказывать будущее, имеет право не помнить прошлого. Этот комплимент не произвел на гадалку, по-видимому, никакого действия, я даже думаю, что она его просто не поняла, так как, судя по ее манере выражаться, принадлежала к простому классу.
Чтобы придать мне храбрости, госпожа де Суза первая села у стола и попросила погадать ей на картах, а не на кофейной гуще. Я не поняла, почему маленькая гадалка стала рассказывать моей компаньонке о ее прошлом, а не о будущем. Из ее слов я узнала, что у госпожи де Суза была очень бурная молодость; отличаясь необыкновенной привлекательностью, она не всегда оставалась равнодушной к вызываемому ею поклонению. Приводимые подробности становились уже скабрезными, и маркиза поспешила прекратить поток щекотливых разоблачений.
– У вас один сын, которого вы нежно любите; он только что подвергся большой опасности, – сказала гадалка.
Бедная мать вскрикнула от ужаса.
– Успокойтесь, – прибавила ворожея, – он спасся чудом! Его звезда – самая счастливая. Ему пришлось бороться со стихиями: я не могу сказать наверное, была это вода или огонь, карты не дают на этот счет определенных указаний, но будьте спокойны – вы узнаете от одной вашей приятельницы-вдовы все подробности этого случая, ваш сын не один подвергался опасности.
Мы молча переглянулись. Не желая больше слушать гадалку, моя спутница усадила на свое место меня.
Признаюсь, сначала я немного струсила, но затем, приняв твердое решение узнать свою судьбу, попросила эту женщину погадать мне и на картах, и на кофейной гуще, причем дала себе слово покаяться перед священником в этом грехе.
Мое прошлое было еще так невелико! Спокойная и мирная жизнь, исполнение долга, привязанности, только что пролетевшая и не оставившая после себя следов гроза, двое прелестных детей…
Я поставила гадалке условие, чтобы она ничего не говорила мне о продолжительности жизни дорогих мне существ. После долгого размышления над картами и над кофейной гущей она заявила, что судьба моих детей будет похожа на мою, но при этом я заметила, что она о чем-то умалчивает и что-то скрывает. Это меня испугало. Надо иметь много смелости, чтобы бесстрашно приподнять ту благодетельную завесу, которая скрывает от нас будущее, и – увы! – я скоро убедилась, что недаром так трепетала перед будущим!
Заметив овладевшее мной волнение, гадалка сказала:
– Не будем говорить о ваших теперешних детях. Повторяю, в их судьбе не будет ничего необычного, но, возвратившись в вашу страну, вы родите сына, который заставит говорить о себе. Я не знаю ни вас, ни вашей родины, но по картам вижу, что это страна очень беспокойная: карты указывают на войну и кровь. А ваш сын, который родится под самым счастливым созвездием, станет главой могущественной партии, а может быть, даже и королем.
Я засмеялась и посмотрела на госпожу де Суза, предполагая, что это она подготовила всю мистификацию, но та поклялась, что уже более года не была в этом доме. Гадалка, заметив мои подозрения, казалось, была этим недовольна и, чтобы придать вес своим предсказаниям, сообщила мне приметы, при помощи которых я могла бы убедиться в справедливости ее предсказаний.
– Спустя несколько месяцев после вашего возвращения на родину вы забеременеете и за некоторое время до родов подвергнетесь несчастному случаю, который окончится для вас благополучно. Ваш ребенок родится вовремя и в сорочке. Он будет прекрасен, силен и на левом боку у него будет весьма заметный знак. Еще я могу вам сообщить, что он будет одарен тем, что мы называем способностью привлекать всеобщую любовь: повсюду и всегда его будут любить старые и молодые, бедные и богатые, мужчины и женщины. Неотразимое обаяние его характера будет заключаться главным образом в его добром сердце.
Слова гадалки запечатлелись в моей памяти, и я могу удостоверить, что все ее предсказания исполнились с точностью. Во время беременности я подверглась случайной опасности, ребенок родился совершенно здоровый и в сорочке, на левом боку у него был похожий на малину знак, о котором упоминала гадалка.
Если бы я придала всему этому большее значение, то могла бы предположить, что воображение оказало влияние на природу, но, уехав из Парижа, я совсем забыла о гадалке: у меня тогда были совсем другие радости и другие печали, и только когда у меня родился сын, я вспомнила маленькую женщину и ее предсказания.
Мальмезон – Признание
Жозефина – Спальня Наполеона – Вкус Жозефины – Картинная галерея – Сады и оранжереи – Приглашение императора – Разговор с Наполеоном у военного министра – Записка Шарля де Ф. – Объяснение – Роман офицера – Незнакомка
Спустя несколько дней после визита к гадалке мы отправились осматривать Мальмезон, откуда Жозефина только что уехала в Швейцарию. Император часто посещал бывшую императрицу, и Мария Луиза была очень недовольна этим, а потому решили, что Жозефина удалится из Парижа. Я очень хотела быть ей представленной, но она не принимала иностранцев и виделась только с теми, кто своей неизменной преданностью заслужили ее доверие и привязанность. Ее бедное исстрадавшееся сердце замкнулось в своем горе: насколько Жозефина раньше любила свет, настолько теперь она стремилась к одиночеству. По крайней мере в Мальмезоне она была ограждена от назойливого любопытства. Рассказывали, что она много плакала и не старалась скрыть свое горе, ибо всей душой была привязана к Наполеону, и ей было гораздо больнее потерять его, чем свое блестящее положение императрицы.
Нам показали Мальмезон, начиная с чердака и кончая подвалом. Я не могу выразить словами, с каким интересом, с каким жадным любопытством рассматривали мы жилище, бывшее свидетелем стольких великих событий. Сколько невыразимого упоения, любви, славы, бесчисленных триумфов, фантастических рассказов! Вся жизненная драма героя развертывалась здесь в течение десяти лет, и, казалось, все было полно еще трепещущими воспоминаниями, которые придавали настоящему как бы отблеск прошлого. Спальня Наполеона – та, где он Первым консулом мечтал о всесветной монархии, а потом, монархом, увенчанным славой, искал отдыха, – оставалась в том же виде, в каком он ее покинул, чтобы никогда больше не возвращаться. Жозефина запретила пускать туда любопытных, и только благодаря настойчивым просьбам и золоту нам удалось проникнуть в святая святых.
Если когда-либо кощунственная мода дерзнет изменить обстановку этой комнаты, это станет таким преступлением, за которое потомство будет вправе упрекнуть нацию. Мальмезон должен быть превращен в национальную собственность. Помимо общего интереса, связанного с малейшими подробностями жизни великого человека, эта комната необыкновенна сама по себе. Резная кровать безукоризненной античной формы стояла на возвышении, покрытом громадной тигровой шкурой редкой красоты. Огромный шатер вместо занавесей поддерживался военными трофеями, напоминавшими о победах и завоеваниях.
Это были не просто славные эмблемы, добытые на поле брани и служившие украшением, это была своего рода живая хроника блистательных подвигов солдат и славы их гениального вождя.
Все, что много говорит воображению, невольно вызывает к себе уважение и заставляет сосредоточиться. Мы углубились в рассматривание каждой мелочи этой комнаты, отныне ставшей исторической, и царившее кругом нас молчание лишь изредка нарушалось голосом проводника, которого мы время от времени тихо о чем-либо спрашивали: в эту минуту нам казалось, что сам император присутствует здесь.
В комнате Жозефины не было ничего интересного, лишь бросалось в глаза отсутствие вкуса и гармонии. Обстановка представляла собой странную, безвкусную смесь всех цветов и стилей, не замечалось ни изящной простоты, ни аристократического замысла, ни любви к старине – наоборот, здесь безраздельно царила мода, эта всемогущая властительница Парижа. Я не могла подавить в себе чувства гордости при мысленном сравнении покоев Жозефины с моими комнатами в Натолине.
Единственное, что было вне всякой критики, – это картинная галерея. Сразу становилось ясно, что устройство ее поручили человеку опытному, с большим артистическим чутьем. Фламандская школа в галерее господствовала над итальянской. Не желая давать здесь скучного описания, которое невеждам покажется неинтересным, а знатокам – недостаточно полным, я укажу только, что в этой галерее имелось несколько великолепных картин Клода Лоррена, Поля Поттера, одна чудесная картина Рейсдаля и множество восхитительных полотен Воувермана.
Что касается архитектуры дома, то она была не только безобразна, но и вульгарна. Главный корпус оказался низким зданием, придавленным крышей с мансардами. Окна узкие и маленькие, двери убогие, украшения тяжелые, одним словом, все носило отпечаток мелочности без простоты и претензий – без величия.
Но сады и в особенности оранжереи были великолепны: в них оказалось столько редких растений из всех стран света, что легко можно было вообразить себя в тропиках.
Высчитывая хотя бы приблизительно издержки на устройство и содержание этих садов, можно сразу заметить, что Жозефина больше всего любила свои растения и цветы, предпочитая их всей окружавшей ее роскоши. Правда, она немало тратила и на туалеты, но чувство, которое питала императрица к своему парку и оранжереям, было настоящей страстью. Сколько прелести придавал празднествам этот красивый, кокетливо убранный уголок и сколько романтических интриг завязывалось на его аллеях блестящим придворным обществом!
Вернувшись домой, я нашла приглашение, которое меня одновременно и удивило, и обрадовало. Это было извещение от дежурного камергера о том, что я приглашена «иметь честь обедать в Сен-Клу с Их Величествами» в тот же день в шесть часов, а теперь было уже десять. Подобной чести удостаивались весьма немногие, а особенно иностранки, потому что император со времени своего брака следовал старому этикету французского двора и обедал только в кругу своей семьи. Потому я решила довести до сведения императора, что мне чрезвычайно неприятна постигшая меня неудача. К счастью, военный министр давал бал, на котором император должен был присутствовать, и, таким образом, мне предоставлялась возможность объясниться с ним, так как я надеялась, что Наполеон, как всегда, обратится ко мне с несколькими словами.
Я поехала на бал раньше, чтобы занять хорошее место. Желая обратить на себя внимание императора, я оделась так, чтобы он меня заметил, и надела все свои бриллианты. Как я и предполагала, император, увидев меня, направился в мою сторону и, приняв недовольный вид, сказал:
– А, графиня! Вы вчера, верно, поздно вернулись домой? Мы все же вас ждали и оставили ваше место незанятым.
Поощренная такой любезностью, я высказала сожаление, которое почувствовала, увидев по возвращении домой приглашение и не имея возможности им воспользоваться.
Он слушал меня, улыбаясь и, по-видимому, забавляясь моей досадой, а затем с милым простодушием напомнил старую пословицу:
– Что отложено, то не пропало, в следующий раз вы получите приглашение вовремя.
Этот разговор, довольно длинный для того, чтобы привлечь внимание остальных гостей, подал повод к самым неуместным предположениям.
Не одна из присутствовавших на балу дам позавидовала моему, как они выражались, положению, поскольку многие втайне добивались благосклонности императора, что не мешало им сохранять пренебрежительно-напускной вид. В следующие дни мне нанесли визиты многие лица, которые раньше и не собирались этого делать, а теперь явились и оставили свои визитные карточки. Тут я убедилась, что низости одинаковы при всех дворах – как при новейших, так и при самых древних. Как они все были далеки от того, что тогда меня занимало! Уехав с бала, я даже не вспомнила о маленьком успехе, который там имела.
Со времени своего выздоровления Шарль навещал меня не так часто, как раньше, и старался выбирать часы, когда я бывала не одна и принимала гостей. Однако он всегда расспрашивал, что я делала, и не переставал руководить мной в моем изучении достопримечательностей Парижа. Вот записка, которую он мне прислал через два дня после великолепного гвардейского бала, о котором немало писалось в тогдашних газетах:
«Что вы делали вчера вечером? Я надеялся встретить вас у герцогини Л. Вы должны были поехать к ней, почему вы там не были? Из боязни, что уже слишком поздно, я не осмелился явиться к вам, или, говоря откровенно, думая застать вас одну, я не решился заехать к вам. Разрешите ли вы мне сопровождать вас завтра утром к Жерару? Там бывают все, чтобы посмотреть на портрет графини Валевской.
Я хочу вас видеть только при посторонних. Может быть, я и кажусь вам странным, но не отнимайте у меня ни вашего доверия, ни вашей дружбы. Будьте ко мне снисходительны, пожалейте меня! Если бы вы только знали, насколько я несчастлив, то поняли бы, что я более, чем когда либо, нуждаюсь в вашей снисходительной дружбе и достоин вашего уважения».
Бывают в жизни минуты, когда одно слово решает будущее. Эти несколько строк вызвали объяснение, которого мы оба боялись и избегали.
Господин де Ф. продолжал относиться ко мне с прежней предупредительностью. Если бы он постоянно искал случая увидеть меня одну и если бы у меня имелись причины не доверять его намерениям, конечно, я была бы настороже, но неизменное упорство, с которым он меня избегал, его постоянная грусть, причины которой я не знала, тайна, которой были окутаны его чувства, и, самое главное, благоразумие, управлявшее всеми его поступками, – все это смущало меня гораздо больше, чем его прежние ухаживания.
Впервые я осмелилась признаться себе, что люблю его, и дала ему это понять. Не могу теперь вспомнить слова, которыми я ему ответила, но, очевидно, в них было столько искренности, столько горячего волнения, что Шарль не мог ошибиться относительно моих чувств к нему и все искусство опытной кокетки не могло бы сделать того, что сделала открытая прямота моего характера, с которой он был хорошо знаком. Через полчаса я получила от него записку: «Зачем вы мне написали? Вы окончательно хотите сделать меня несчастнейшим из людей! Мне необходимо сегодня же вечером видеть вас наедине».
Я была подавлена. Только единственная мысль о его счастье могла на минуту заставить меня забыть строгость моих принципов и непоколебимое решение никогда не нарушать своего долга, но как только во мне проснулась уверенность в бесполезности этих жертв, я почувствовала искреннее отчаяние.
Когда Шарль явился вечером, он нашел меня на том же месте, где я получила его ответ, погруженную в свои думы глубоко, так что он даже испугался. Сидя за письменным столом, я в задумчивости машинально резала перочинным ножом перчатку, причем на пальце показалась капелька крови, при виде которой он, привыкший к опасности, пришел в ужас.
– Что вы делаете! – вскрикнул он, вырывая у меня нож. – Ради Бога, выслушайте меня! Сжальтесь над моим положением. Пришло время, когда честь налагает на меня ужасную обязанность открыть вам все. Увидев вас в Польше, я полюбил вас горячо и преданно. До тех пор я был очень легкомыслен, и вам суждено было произвести во мне полную перемену. Я часто удивлялся тому, что вы внушили мне нечто вроде культа, мне, который был далеко не робок с женщинами, а вам я даже не осмелился намекнуть о своей любви! Вы были окружены в моих глазах таким ореолом чистоты и искренности, вы были так заняты своими детьми и исполнением своего долга, что мне казалось немыслимым, я бы сказал, преступным пытаться совратить вас с истинного пути. А кроме того, вы проявили по отношению ко мне такое искреннее расположение, такое живое участие, что я уехал, вполне уверенный, что вы даже не догадываетесь о моей любви.
В присутствии вашего мужа я просил и получил разрешение писать вам – ведь так интересно было получать известия из Главной квартиры. Одно слово в ваших письмах возрождало надежду в моем сердце. Тогда немало говорили о некой женщине, которая якобы последовала за мной в Германию, и мне показалось, что эти нелепые россказни дошли до вас, я даже осмелился допустить мысль, что вы были этим недовольны. Страстно желая объясниться с вами, я, не теряя ни минуты, обратился к маршалу Даву с просьбой разрешить мне отправиться в Варшаву. Если бы мне в этом отказали, я приехал бы тайком; мне было только необходимо получить разрешение на эту поездку от вас. Увы! Вспомните насмешливый тон вашего ответа, и вы поймете, почему я стал хлопотать о разрешении вернуться во Францию.
Принц Мюрат не мог простить мне, что я покинул его штаб, и на срок более года меня забыли в плохоньком немецком гарнизоне. Мать часто писала мне и утешала как могла. Во всех письмах она повторяла, чтобы я был спокоен, так как одна очень влиятельная особа, тайно любящая меня, хлопочет о моем возвращении. И действительно, я получил приказ вернуться или, вернее сказать, разрешение за собственноручной подписью императора.
Я твердо решил забыть вас, но ваш образ неустанно преследовал меня, и я невольно сравнивал вас с другими женщинами. Ваша простота, искренняя веселость, милая непринужденность, свойственная лишь полькам и придающая вам какую-то обворожительную прелесть, невольно вызывали сравнение вас с француженками – жеманными и лишенными той оригинальности, которая делает вас очаровательной и заставляет подчиняться вам. Тем не менее одна из этих женщин, имени которой вы никогда не узнаете, завладела моим сердцем, все время стараясь скрыть от меня чувство, которое питала ко мне. Это о ней упоминала мать во всех письмах. Не отличаясь красотой, она была уверена, что ее никогда никто не полюбит, и даже не пыталась никому нравиться; свое глубокое и благородное чувство она скрывала от всех, придавая ему вид чисто сестринской привязанности.
У меня были дружеские отношения с ее братом, и это давало мне возможность постоянно встречаться с ней. Я долго наблюдал за ней, прежде чем ответил ей взаимностью, не испытывая к ней ни того влечения, которое возбуждали во мне женщины при моем вступлении в свет, ни той восторженной любви, которую лишь вы заронили в мое сердце. Тем не менее в конце концов, имея тысячу доказательств ее преданности, я полюбил ее.
Чем более я ее узнавал, тем недостойнее мне казалось обмануть ее надежды. «Да, – говорила она мне своим кротким голосом, – если вы полюбите другую женщину, и полюбите так, как вы любили в Варшаве, я чувствую, что умру». Эти слова привели к тому, что я пожертвовал ей своей свободой. Прошло уже два года, как я посвятил себя ее счастью и даже считал себя счастливым, видя, как она горячо благодарна мне за мою привязанность.
Но ваш приезд сразу разрушил все иллюзии. Возле вас во мне вновь вспыхнуло то пламенное чувство, которое казалось уже умершим. Я почувствовал, что возродился для надежд и счастья; отъезд моего друга за несколько дней до вашего приезда развязал мне руки и всецело предал во власть захватившего меня могучего чувства. Но как только я заметил, что моя любовь может вас тронуть, я серьезно обдумал свое положение и поведение и пришел к заключению, что суровый голос чести и долг заставляют меня бежать от вас!
Я много страдал и боролся, но самое главное – хотел, чтобы вы сохранили ко мне уважение. Я слишком хорошо вас знаю и слишком ценю, чтобы осмелиться предложить вам сердце, связанное долгом с другой женщиной. Вы достойны быть единственным предметом моего поклонения и, конечно, не могли бы видеть без возмущения, как другая женщина требует от меня привязанности. Если бы в Польше я посмел надеться, что когда-нибудь вы сможете меня полюбить, я бросил бы ради вас все – мать, родину, друзей. Ваша родина сделалась бы моей, и я защищал бы ее с тем воодушевлением, которое способна внушить лишь одна полька. Я видел, что вы окружены глубоким почтением, причем одинаково любезны со всеми и ни единым словом не вызвали меня на объяснение.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































