Текст книги "Лизавета Синичкина"
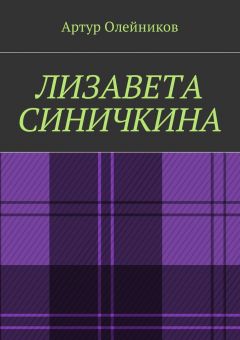
Автор книги: Артур Олейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Дули Любаше показалась мало и, сложив из двух рук всем известный русский ругательный образ, сунула его под нос расстроенному Рафику.
Рафик попытался показать гонор, указать на погоны, и стал вставать с табуретки, что было с его стороны, конечно, ошибкой.
Только этого и ждала боец Малюткина.
– А-а-а, – закричала Малюткина и схватила со стола пустую бутылку и хрясть бутылкой по голове Рафику.
Хорошо, что в фуражке!
– Ведьма! – закричал Рафик, вскакивая со стула.
– Я тебе дам, ведьма. Сам то кто – упырь!
Малюткина бросилась на кровососа упыря, но Рафик довольно ловко отмахнулся. Люба без сил села на пол. Приговоренная мертвая водица сделала свое дело, Малюткина была пьяна. Всплеск эмоций и пусть скоротечный, но все же бой, только добил Любовь Константиновну, она была готова подписать бумаги и на переезд.
А дальнейшее, как говорится, дело техники. В квартиру вошел Попрыгунчиков, длинный, худой, как кузнечик, пришли подпитые свидетели. Малюткина все подписала, что просили, чтобы только отвязались и дали поспать. Услужливый сосед за отдельную плату вызвал неотложку.
Попрыгунчиков с сотоварищами растворились.
Приехали санитары. Милиционер, пьяная женщина – страшно смотреть, рассказывает что-то про кровососов и упырей. Ну, все ясно, собирайтесь, Любовь Константиновна.
Родственников и хороших знакомых, чтобы вызволить Малюткину из непростой больницы, не было. Оставалось только ждать.
Если без шуток, а какие шутки, сами все видели, на начало гласности и перестройки на счету Рафика и Попрыгунчикова было больше десятка подобных афер, оставалось только реализовать, когда дозволили свободные операции с недвижимостью, и жить себе припеваючи. Мог Рафик забросить службу в милиции, но не ушел, потому что всегда больше денег Рафика интересовал сам процесс, механизм превращения человека во что-то другое и, как правило, не в самое удачное. Как над ним «подшутили», он будет шутить, и самое лучшее место для подобных метаморфоз Рафик увидел в должности участкового. Бедные, как правило, несчастные люди, не знающие своих прав, крути с ними, как хочешь, подводи под тюрьму, обращай их жизни в прах, никто не подкопается. И с годами Рафик превратился в какую-то змею, ходил тихо, выскакивал исподтишка и жалел смертельно. От того чахлого юноши, что когда-то видел Муста, через двадцать лет не осталось и следа. Это был жилистый, смуглый, невысокий мужчина, изворотливый и хитрый по прозвищу Бек. И вот к такому пришел Ткаченко, чтобы его избавили от приставучей Гали.
А почему, собственно, к участковому, а не к кому другому? Не знаю, наверное, Ткаченко полагался на тот укоренившийся факт, даже скорее не факт, а мнение, что выходцы с Кавказа держатся друг друга и знают все про своих, тем более, когда их соплеменник успешный хирург.
«Хирургов мусульман, да еще и таджиков на Дону все же меньше, чем русских», – заключил Ткаченко отправляясь к Мамедову, который, если по правде, если судить по поступкам, мог быть, ну скажем, скорее ближе к живодеру, чем к настоящему мусульманину. Если и был Рафик когда-то мусульманином в том его настоящем светлом смысле, это было очень давно, но честно сказать, мусульман Бек знал и про Мусту талантливого хирурга, тем более, что когда-то с ним встречался лицом к лицу. Но про это Рафик никогда не любил вспоминать, не жалел, но иногда все же задумываясь, что если дай тогда его отец разрешение на свадьбу с Ириной, жизнь его сложилась бы по-другому. Семью так Рафик и не завел. Жил то с одной, то с другой. В силу накопленных не самых хороших привычек не мог, чтобы долго оставаться честным, и скоро предавал, подолгу не горевал, день-два и, как говорится, уже под ручку с другой. Женщинам Бек нравился, была в нем какая-то тайна, хоть все и понимали, что эта тайна не из приятных – притягивало. Притом, что ради справедливости сказать, Рафик не был скупым и тратился на своих любовниц, как маркиз на куртизанок. И если был до чего жадным, так это до подлостей, совершая которые он на миг успокаивался, словно проливал на старую рану бальзам, и незаживающая боль ненадолго отступала. И радушно принимал всех в своем кабинете. Потому что просто как говориться на чай к участковому не ходят. С кляузами и наговорами с просьбами разобраться стучались в двери Мамедова, а лучшей почвы для подлости, чем лежит на сердце у наговорщика, как известно не найти.
И когда Ткаченко явился на порог главного станичного участкового, Рафик усадил дорого гостя на стул, показал бутылку водки и предложил «за встречу». Сам, разумеется, отказался. Сцедив Ткаченко пол бутылки, стал внимательно слушать.
Ткаченко по началу плел какие-то небылицы про некрасивую бабу, про Савельеву, другими словами, про что угодно, только не про то, что могло бы заинтересовать хитрого участкового.
– Не жена она мне, – рассказывал захмелевший Ткаченко. Ну, приходил, было дело. Так что! А Верка только что меня уже на ней не женила! Перед бабами позорит. Совсем жизни не стало.
– Ближе к делу, – сердился участковый.
Не это хотел слышать Бек.
«Что это он плетет, – думал участковый. Совсем из ума выжил народ от водки! Да и что ты можешь знать, рвань, кто тебя к себе подпустит».
Вообще Рафик удивлялся, как еще Савельева держит в своем доме такое ничтожество.
Мамедов хоть и недолюбливал Веру, но уважал за нрав и непокорность. Вообще, обладая определенною властью, Мамедов уважал сильных людей, умеющих за себя постоять, и если только мог, старался склонить их на свою сторону. Если не получалось, Бек сживал тех со свету и потом, не поверите, даже грустил. Достойный противник, что другое еще может заставить проявить все силы и мастерство. Не раз участковый подбивал клинья к Савельевой и к ее дому. У Савельевой бывали многие, не все ладили с законом. Да и вообще Савельеву, если кто не уважал, то побаивался, все равно, как закон, иметь с такой контакт участковому было на руку. И Рафик, поначалу увидев в своем кабинете Ткаченко, снимавшего у Савельевой комнату, подумал, что, может, услышит что интересное, смотри вдруг, что и откроется, на чем можно прижать Савельеву и заставить работать на себя, а тут ерунда какая-то. Рафик стал выходить из себя, а когда это случалось, он превращался в того самого Бека, которым его звали на его участке.
– Ты что плетешь. Ты зачем пришел, поговорить не с кем?!
Бек убрал стакан со стола и спрятал бутылку. Еще, пожалуй, немного и определил бы Ткаченко в камеру. Как? Да запросто, стукнулся об дверной косяк лбом и потом сказал, что Ткаченко его ударил. И поверили, а почему нет, пьяный Ткаченко, участковый.
Треснул по лбу, чтобы не приставал, вот и весь сказ, что разбираться. Согласитесь, приятней и легче поверить человеку, олицетворяющему закон и порядок, чем пьяному бродяге, каким, по сути, был Ткаченко. Поверить бродяге тяжелей даже, когда вот она, правда, и доискиваться не надо, все потому, что с осознанием того, что бродяга может быть прав, а олицетворяющий справедливость и честность оказаться обманщиком, хочешь, не хочешь, а придется на самую верхнюю ступень пьедестала ставить человека, а не социальный статус и авторитет. А как, скажите, потом жить дальше. Останется или только в монахи записываться или в честные люди, а ни то, ни другое, как известно, не кормит.
Ткаченко понял, что и вправду не с того начал, и решил как можно скорей исправиться, чтобы для него самого добровольный визит к участковому не вышел боком.
– Муж у этой Гали нерусский, мусульманин, а у него брат, говорит, хирург, богатый. В Зернограде работает. А она, ну Галя эта, сбежала, никто ничего не знает.
– Фамилия как? – спросил Рафик, начиная понимать, куда клонит Ткаченко.
– Ба-а-боев, что ли. Говорит, вроде того доктора Мустой зовут. Ну вот. Может вам с того какая будет польза, а заодно избавили бы.
Рафик усмехнулся.
– Не боишься, если Савельева узнает, она же потом тебя под орех разделает.
– Да откуда! Кто же ей скажет? – сказал Ткаченко, заметил в выражении участкового что-то недоброе и испугался и уже сам был не рад, что связался с Беком.
– Ладно, иди, посмотрим. А пока станешь приходить. Присмотрись, кто к Савельевой ходит, что говорят.
Ткаченко хотел, было открыть рот, но Мамедов объяснил, что выбор у того не большой или, как говорится, на суд общественности, что бабу подвел, или к нему в кабинет. Ткаченко выбрал приходить в кабинет, зная, что есть у Савельевой такие дружки, что по головке за предательство не погладят. Да и что потом скажут бабы. Да та самая Зоя, на какую глаз положил. На тебе, герой, бабу спровадил. Ткаченко понял, что попался в капкан, из которого только что если и можно было вырваться, так не иначе как «отгрызть собственную руку». Ну, куда бежать, без денег и без связей, но и то, что вечно можно оставаться нераскрытым, было сомнительно. Проницательная Савельева раскусит в два счета. Да и без Савельевой хватало, кому. Было понятно, что при любой зримой выгоде, первым, кто будет его палачом, так это сам Бек, который, может, только его затем и прикормит, чтобы потом «слопать на завтрак».
Часть третья. Муста
I
В тот день, когда Муста узнал, что случилось с Ириной, ему было стыдно возвращаться в собственный дом, там Мусту ждала красивая молодая женщина. Муста не хотел и не мог улыбаться, как он считал, не имел морального права в такой день быть счастливым. И Муста остался в больнице, мечтая и моля Бога о работе, чтобы он мог хоть кого-нибудь спасти, и чтобы спасенный им человек стал счастливым. Как мала и в то же время велика была мольба Мусты, потому что, по сути, ни Мустой, ни Богом была неосуществима в одиночку.
Тяжелых больных ночью не поступало. Никого не смог спасти доктор. Похудевший бледный Муста, от всех невзгод свалившихся на его чуткое сердце, как будто постарел на десять лет. Главврач прогнал хирурга домой и повелевал спать и еще раз спать. Если будет что-то серьезное, талантливого хирурга вызовут. Но Муста и в этот раз не поехал к себе на квартиру, а отправился в дом отца, чтобы снова и снова говорить с Зарифом, объясниться, спасти.
«Надо учиться, – только и занимало сердце и разум Мусты. Ну, как убедить отца, чтобы отдать девочек в школу. Какие страшные правила, какой абсурд, какое преступление плодить невежество! Он никуда их не пускает, им уже скоро по десять лет, а они читают с трудом. А отец не знает ни буквы. Если бы только его никто не учил, ведь хуже всего, намного страшней то, что он просто не хочет и желает, чтобы так же было с его детьми. Шавкат умрет, не прочитав за жизнь ни одной книги. Юсуман, пятнадцатилетний несчастный ребенок, а выглядит на десять лет старше своих сверстниц, совсем уже женщина со страшной усталостью в глазах, а ведь она еще, по сути, должна была оставаться юной мечтательной девушкой, а уже мать. О, как было стыдно и страшно за нее и себя, за всех нас, – приходил в оцепенение Муста, вспоминая, как Юсуман рожала ребенка».
Схватки длились двадцать с лишним часов. Муста сам не знает, что подхватило его и заставило ехать в дом отца.
Фирдавси запретил идти за врачами и закрыл пятнадцатилетнюю Юсуман вместе с семнадцатилетней Галей в комнате наедине, чтобы женщины решили свои дела, и когда крик младенца наполнит дом счастьем, Фирдавси зайдет смотреть и радоваться внуку.
Юсуман стонала, а перепуганная на смерть Галя забилась в угол и с ужасом смотрела на роды, и от всех переживаемых страстей ей страшно было иметь детей, когда прежде она об этом только мечтала. И так несколько часов криков и стонов одной и оцепенение другой жило в маленькой темной комнате. Муста чуть не снес двери, когда услышал крики и стоны о помощи. Не знаю, что было бы, но старик, хоть режь его, не хотел отпускать невестку к русским в роддом. И что это такое, родом, все дети его, его братья, и он не остались во чревах своих матерей. Мусте хотелось рыдать, но, собравшись с духом, он понимал, что восточного человека можно переломить только хитростью. И он схитрил и не стыдился, что шел на хитрость, и благодарил Бога, что ему дан живой ум. И еще, что он хирург, что может собираться с духом и, наоборот, чем ситуация экстренней, становится сильней. Он не смог спасти Ирину, и если он не проявит мягкость и покладистость в случае с Юсуман, он не простит себе этого никогда. Муста спокойно, без эмоций завел старика отца в комнату со стонущей Юсуман и, показывая на невестку, сказал, что проклятый небом Шавкат заразил болезнями свою жену, и теперь она не может разродиться.
И вправду старик уже как несколько часов назад ожидал появленья ребенка на свет и не помнил, чтобы его жена или кто из женщин его кишлака так долго рожали.
Старик побледнел, мысль, что его первый внук или внучка может погибнуть, заставила старика согласиться на все, лишь бы только спасти ребенка.
Торжествуя и радуясь, Муста увозил Юсуман в больницу.
Родилась девочка без патологий, но очень слабая, весом в два с половиной килограмма. Назвали в честь покойной бабушки, Фатимой. Только через три недели Юсуман выписали с маленькой Фатимой домой.
Галя как-то сразу сдружилась с ребенком и была главной помощницей. Гале нравились и умиляли некоторые обычаи новой семьи, те, что касались новорожденных, что праздновали день первой распашонки, день первого купания. При всей строгости обычаев и порядков таджики носились с младенцами все равно, что с ангелами.
Все те ласки и поцелуи, что хранит в себе женское сердце, пробудились в сердце Гали с появлением в доме младенца. И Гале стало казаться, не так страшна ее участь, если только и у нее появился бы малыш. И с трепетом и надеждами Галя теперь каждую новую ночь ждала мужа. Галя хотела поскорей забеременеть. И кто возьмется судить женское сердце, пусть не рассчитывает на то, что у него есть свое.
Зариф как бы не противился и не избегал жены, нет, да приходил по ночам к Гале в комнату. Большой дом Фирдавси был разделен на две половины, женскую и мужскую. Все годы у Гали будет своя отдельная комната, где сначала она будет жить сама, а потом с сыновьями, пока те не подрастут, и их дед не определит их около себя на мужской половине дома. Галя родит двух сыновей с разницей в шесть лет. Первенца назовут Карим, младшего Омар. И будут горькими, полные испытаний их судьбы.
Однажды, подавшись заблужденьям и увязнув в них по шею, мы, так или иначе, ведем своих близких за собой, и неважно, что приходим к концу пути по-разному, сам финал одинокого страшен для всех, но с каким сердцем его встретишь, зависит только от тебя.
Лишь одного желал Муста, какой бы не была его смерть, он должен, умирая, знать, что он хоть кого-то смог спасти от страшных заблуждений, что хоть кто-то смог воскресить для света. Несмотря на знания и порывы Муста считал себя пропащим, загубленным собственной трусостью, человеком. За то, что он однажды не стал стеной перед отцом и не спас своих сестер и братьев, как бы, может быть, надо было сделать. Запретить отцу решать судьбы других. «Отец умрет, он не вечный, хоть и не разу в жизни не болел. И что будет тогда?» Эта мысль на протяжении многих лет преследовала Мусту.
Старик Фирдавси, все равно, как та мать-волчица оберегал свое потомство, но чему он их не учил, чтобы они смогли жить в современном мире. Через двадцать пять лет уже новый век. Много это или мало. Если сестрам всего лишь подсеять, то через двадцать пять лет они будут зрелыми молодыми людьми, того самого возраста людей, что строят мир для новых поколений. Но что они смогут, безграмотные, темные, изуродованные люди, видевшие мир только через окно? Рычать, как те волчата, родившиеся в клетках, не знавшие настоящей прекрасной вольной жизни. Нравственно и морально суженные умы их, страшные клетки. И Мусте было горько, и он надеялся успеть спасти хотя бы младшего брата.
Мусте всегда казалось, что именно Зариф может все одолеть, у него гибкий ум и в то же время твердее камня характер, то самое качество, которое не так сильно развито у него. Зариф настырней и упертый, чем отец, и Муста понимал, что со временем, если Зариф что решит, это будет не сдвинуть, как дом. И Муста хотел направить настойчивость и непокорность характера брата на благо и боялся, и приходил в ужас, если он не сможет, и заблуждения только укрепятся в Зарифе навечно. О, какой тогда это тяжелый и мрачный получится человек. Он будет говорить на белое черное, искренне веря, что это так и есть, и умрет, заблуждаясь. Прожить всю жизнь, обманывая себя, что страшней можно себе представить? Муста не знал и приходил в дрожь, боясь самого страшного. Он знал, надо просвещать младшего брата, чтобы ни стало, заниматься его образованием. Сначала вечерняя школа, потом институт, показать Зарифу, что общество не ненавидит его, что он может ничуть не хуже остальных учиться и добиваться успеха, а где-то даже и превосходить. Помочь Зарифу раскрыть данный природой потенциал.
Все так, все так, и разве было в мыслях и порывах старшего брата худое. Порывы Мусты были благородны, мысли кристальны и полны великого спасительного смысла, и только про одно Муста позабыл, что как бы он не желал брату добра, как бы он не отдавал всего себя, да положи он собственную жизнь, будет мало, потому что не под силу в одиночку. Что мог Муста один со своими порывами, если Зарифу встретятся равнодушные люди или еще хуже станет на пути подлец? Если это бы случилось уже после того, когда он узнал всю красоту мира с ее мыслителями, художниками и просто чистыми людьми, Зариф был бы готов. Он одним лишь воспоминанием о свете и добре отмел, сокрушил ту жуткую губительную мерзость, что как чума несет ненависть и гибель, перескакивает с человека на человека, заражает души и губит поколения. А если встреча с подлецом случится именно тогда, когда был еще не готов, но уже знал предательство и окружающий мир, начал обретать страшные черты врага. Вместе с Мустой должны были подняться сотни тысяч людей. Если и возможно было счастье, то только после победы над самым страшным мерзким великаном – равнодушием, что в каждом живет из нас и, вырываясь наружу, губит все новые и новые жизни, а вместе с ними и наши собственные. Что вообще за кастрированное виденье жизни, почему малыша нужно оберегать от сквозняков, делать прививки от разных зараз, чтобы не погиб и вырос, чтобы крепко стоял на маленьких ножках, а юношество можно бросать на произвол судьбы, не оберегать от подонков, не закалять вечными ценностями. Получается, что все носятся над младенцами, чтобы только потом отправить невинное создание на растерзание. О, какой чудовищный круг человек зовет прекрасным светлым понятием – жизнь и ничего не делает, чтобы воплотить понятие в реальную действительность и списывает двух-трех очередных жертв на превратности судьбы, ставя в пример великие светлые умы, что, не взирая ни никакие преграды, все-таки смогли пробиться через мрак и своим гением осветили путь. Но сколько их, великих умов, растоптало равнодушие общества, говорить неэтично, потому что отбрасывает тень, чуть ли не на всех целиком.
И бойся человек, страшись общество, твое равнодушие все одно, что запущенный бумеранг, не сможет, чтобы не вернуться.
Зариф стал ездить в вечернюю школу в Зернограде. Перемену в прежнем укладе жизни принял с увлечением и где-то даже с радостью. Одно только настораживало юношу, что все учащиеся были его на много лет старше, самому младшему из одноклассников было двадцать семь лет. В вечернюю школу ходили рабочие с завода, мелкие служащие, не имеющие за плечами полного среднего образования, у многих были семьи, жены и дети. Были и такие, каких и вовсе не нужно.
Харитонов подолгу нигде и никогда не работал, он был из той категории людей, что устраиваются на работу, только чтобы от них отстали домашние. Они работают месяц, а два бьют баклуши. Знаете такой жук навозный в полтораста центнера с запросами наполеона. И в те дни, когда Зарифа зачислили в вечернюю школу, Харитонов в очередной, десятый по счету, раз, менял специальность, на уроки не ходил и, когда появился снова, удивился новенькому.
Вечно какой-то взъерошенный и неряшливый, с выпачканными осенью брюками и желтым листком, прилипшим к подошве, Харитонов зашел в класс и, ни с кем не здороваясь, тяжело подошел к своей парте. Он сидел на двух стульях сразу, сдвинутых вместе, и только так мог уместить свою тушу. Не жук, а целый боров. И был да такой степени порою ленив, что даже мог подолгу не мыться от чего неприятный запах сделался для него как бы визитной карточкой. И на просьбы сходить в баню отвечал всегда одно и то же. «Не нравится, не нюхайте».
Он смотрел на Зарифа, все одно, что баран на новые ворота и только и думал, как бы боднуть. Что Зариф был юношей, больно задело Харитонова. При всей своей нечистоплотности, расхлябанности и идиотизме он был о себе высокого мнения, наверное, ценя себя из расчета веса. Откуда еще чему взяться, сразу и не сообразишь.
Харитонова разозлила, что он должен сидеть в одном классе с желторотым птенцом. И то, что новенький глуп, как рыба, Харитонов решил доказать всему классу, подняв Зарифа на смех.
Харитонов терпеливо ждал и подгадывал случай.
Проходил урок географии. Пожилой учитель, совсем старикашка, с бородкой и в очках вызывал к доске, давал указку и просил на карте СССР показать ту или иную республику.
К доске вызвали Зарифа. Он нервничал. Первый раз стоять у доски на виду всего класса, что может быть более неловко и волнительно, если только первый поцелуй, который помнишь и за который можешь краснеть всю жизнь.
– Итак, уважаемый, – произнес старикашка и посмотрел в открытый школьный журнал, – Бо-а… Боев! Я правильно назвал?
Зариф кивнул головой.
– А что вы киваете, голубчик. Отвечайте, как положено, русским языком.
– А он не знает! – выкрикнул Харитонов и грубо засмеялся.
– Голубчик! – сказал сомнительный учитель в адрес Харитонова. У вас будет шанс себя показать. Итак, я правильно понял, – снова обратился горе преподаватель к новому ученику, – Боев Зариф Фи-и-ирдавсс.… И не выговоришь!
Зариф, бледный, слушал мучителя. Харитонов отпускал смешки.
– Ну, бог с ним! Покажи мне, голубчик, Молдавскую АССР.
Зариф с пересохшим горлом, пытаясь проглотить слюну, нервно зашарил глазами по карте.
– Ну, это мы так до завтра будем! – вынес приговор проклятый старикашка, даже не давая Зарифу ни малейшего шанса. Кто может показать Молдавскую АССР?
Харитонов встал с места и тяжело подошел к доске.
– Учись, мелюзга, – сказал Харитонов и взял у Зарифа указку.
Бледный, подавленный Зариф собрался садиться.
– Вас никто не отпускал, голубчик! – остановил мучитель, продлевая экзекуцию.
– Я, конечно, больше армянский коньяк уважаю, – сказал Харитонов, показывая Молдавскую АССР.
– Прекратите, не в трактире! – состроил гримасу старикашка. Садитесь уже, Харитонов, садитесь.
– Пусть лучше Африку покажет, все родней, – съязвил Харитонов и отдал Зарифу указку.
– А что! – подхватил горе учитель. Покажи-ка мне голубчик реку Нил.
От растерянности Зариф забегал глазами по карте СССР.
– Голубчик, – всплеснул руками старикашка. Я попросил реку Нил! Вы знаете, уважаемый, где протекает Нил?
Зариф опомнился и пошел к атласу, который отдельно висел на стене.
– Хватит, довольно, садитесь, – фыркнул проклятый старикашка.
Зариф остановился на полпути, но вдруг сжал с силой указку и подошел к атласу.
– Я сказал, садитесь на место, – сердился старикашка.
– Река Нил, – отчеканил Зариф.
– Это что еще за фокусы! Вы что себе позволяете?!
– Река Нил, – повторил Зариф, и было видно, как юношу трусило.
– Что! – заревел мерзкий старик.
– Река Нил, река Нил! – повторял Зариф дрожащим голосом, и вдруг слезы прыснули у него из глаз.
– Не мучайте его, – жалобно выкрикнул кто-то из женщин.
Зариф бросил указку и выбежал из класса.
– Ненормальный! – заключило полено, незаслуженно носившее великое имя – учитель. Харитонов, пойди, посмотри. Верни его, голубчик.
Харитонов, ликуя и предвкушая сбор урожая от проделок «мудрого учителя», отправился на поиски новенького.
Зариф спрятался в туалете и теперь не знал, как ему после такого позора можно возвратиться в класс и смотреть одноклассникам в глаза. И стал ненавидеть всех и каждого, кто был свидетелем его слабоволия. Память яркими красками рисовала свежее болезненное воспоминание, как у него у всех на виду шли слезы.
«Проклятый Муста! – думал Зариф. Только он один виноват. Он знал, что так будет, знал, что они все станут надо мной издеваться. Почему допустил мой позор. Ненавижу, ненавижу!» – снова и снова раздавалось в душе Зарифа, и так было обидно молодому сердцу, что его в очередной раз предали, и оно не сможет никогда знать доброты, что Зариф зарыдал навзрыд. И в этот самый момент в туалет вошел Харитонов.
Зариф словно не видел, а когда понял, что не один, было поздно и невозможно мигом прийти в себя и вытереть слезы. Несчастный, уязвленный юноша, может, в последний раз посмотрел на человека с надеждой, что взрослый сильный человек его поймет и поддержит. Зариф поднял мокрые и красные от слез глаза на Харитонова и словно взывал к его сердцу и разуму: «вот он я, униженный и придавленный вашим цинизмом и равнодушием, спаси меня, что тебе стоит протянуть мне руку».
– Вот ты где, сказал Харитонов.
Зариф ждал.
Харитонов все понял и испытал еще большее удовольствие.
«Вот она, сила Наполеона, повелевать чужими судьбами!» – мелькнуло у Харитонова, только оставалось выбрать, быть тираном или благодетелем.
«Сейчас, сейчас», – стучало в сердце Харитонова, и он не знал, какой удел выбрать, и, разумеется, выбрал быть тираном, потому что благодетель не сомневается и не думает, творить добро или подождать. И только тиран сегодня казнит, а завтра милует.
– Что ты, в самом деле, – с притворным участием сказал Харитонов. – Свинья не виновата, что она свинья. Ты не виноват, что ты таджик!
Зариф опустил глаза, и нить надежды, связывающаяся с его сердцем, оборвалась навсегда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































