Текст книги "Лизавета Синичкина"
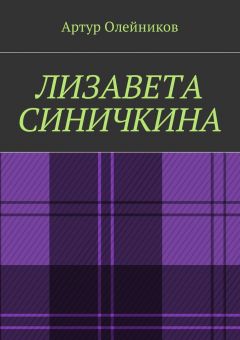
Автор книги: Артур Олейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Часть четвертая. Казаки
I
Поджарый стройный Игнат разменял шестой десяток и уже как десять лет похоронил жену. Первые годы только что на стену не лез. И судьба за годы душевных мук, словно в награду, подарила Игнату Тамару. Загорелось, вспыхнуло в груди у Игната, как выдержанный на солнце стог сена, если поднести к нему спичку, взметет огонь до небес, запылало сердце казака без долгих лет любви от ласковой бабской улыбки. И как же больно и обидно может сделаться отцу, когда родной сын недопонимает отца. Не ставит последнюю любовь ни во что, когда последняя любовь, как и первая, не проходит на сердце бесследно и помнится до последнего вздоха. Что не визит сына, так слезы.
– Что я ему, девочка. Мне пятьдесят в следующем году. Я ему в матери гожусь, – умываясь слезами и захлебываясь обидой, рассказывала Тамара на большом дворе казака Игната. А он как со мной? Шалавой назвал.
– Ну, курвец! Я ему дам шалаву. Молоко еще на губах не обсохло, – сжимал сухие костлявые кулаки пожилой Игнат над уборщицей вечерней школы, сидевшей на узлах с вещами. – Не плачь. Иди в дом. И не выдумывай. Уходить она собралась.
Игнат хватал узлы и нес в дом.
– Сопляка испугалась. Я здесь хозяин. У него свой дом. Жена. О, курвец. Я к нему пошел, а ты в дом иди.
Игнат занес бабские узлы и вышел со двора, тяжело и громко стукнув железной калиткой, стуком и громом металла предвещая непростой тяжелый разговор с сыном.
Сын Игната жил в городе на горе. От станицы до центральных парадных улиц города два километра. Игнат шел тяжело, с каждым шагом наливаясь гневом. Он отделил сына в новую квартиру, в новостройках еще, когда была жива мать покойница. «Городской он у нас какой-то и при нас в станице вырос, – говорила жена Игнату. – Есть копейка, не в гроб же нам ее класть! Купим сыну квартиру в городе на горе, там гляди и женится. Даст бог, внуки пойдут. С углом все проще. Один он у нас».
В сапогах посреди лета, в синих штанах с красными лампасами и рубахе на выпуск, на улицах молодого современного города с его скоростями и красками Игнат выглядел участником казачьего ансамбля, который вышел из театра за сигаретами. Но суровый взгляд старика, энергия, пульсирующая в груди под рубахой, как бы вызывали у оборачивающихся прихожих сомненья. Нельзя было так сыграть, если одежда твоих прапрадедов для тебя не вторая кожа. Что-то особенное было в коренных станичниках и жителях Дона, разительно отличающихся от приезжих на Дон. Казачья порода, когда-то вспыхнувшая на Дону яркими красками, то в одном, то в другом несла неповторимую, характерную для донских пойм черту, полную буйства жизни и какой-то вольной природной красоты, ту, которую так и не удалось назло многим извести на Дону, жила и кипела поныне.
Проработав всю жизнь на железной дороге, железно делая свое дело, Игнат заслужил не утрачиваемое со временем уважение, и даже спустя годы, когда рыбачил на берегу, его издалека по лампасам узнавали машинисты и приветствовали длинными протяжными гудками поездов. Племянник нес службу в милиции, и старому Игнату на старости лет это только прибавляло вес в среде станичников. И быть твердому Игнату славным куренным атаманом, родись он на сто лет раньше. Но на роду его была написана другая судьба, и с честью подходя к концу своего пути, лишь только одного хотелось напоследок старому казаку – прожить последние годочки с Любушкой. Просыпаться с бабой под боком, как в прежние времена. В большом пустом доме после смерти жены Игнат чувствовал себя как в склепе, обходил молчаливые, холодные, без бабского ухода, комнаты и выл сердцем от тоски и одиночества. И смотрел и не мог нарадоваться и налюбоваться на Тамару, стоявшую у плиты, захлопотавшую с веником на дворе. Шелест большой бабской юбки радовал казаку сердце, когда приходил он в вновь оживший от бабской заботы дом. И старый казак наконец-то за многие годы просыпался не от тоски, а от бабской руки, ласково теребившей Игната за чуб.
Игнат не признавал и недолюбливал лифты, и пешком поднимался на седьмой этаж.
Он вошел в квартиру сына, на пороге поцеловал невестку и, зная, какой предстоит разговор, и что не с руки ему будет потом копаться у дверей, словно выгадывая время, не разуваясь, широким шагом зашагал на кухню, громким стуком захлопывая за собой двери, приглашая сына на разговор. Высокий, чисто выбритый, по-городскому в джинсах и в майке, Владимир молча зашел на кухню, сел и закурил, не смотря на отца.
– Ты зачем приходил? Ты чего добиваешься? – с надрывом спрашивал отец у сына, упираясь кулаком об стол. Владимир молчал и сквозь выпускаемый дым разглядывал пустое место на стене. – Тебе кто позволял ее оскорблять? Герой с бабой связался. Жена она теперь мне. Такая же жена, как была твоя мать. Тамара, может, меня с того света вернула. Поймешь ты или нет, что я, может, первый раз за годы задышал полной грудью. Молчишь, курвец, молчишь, – и отец с гневом взмахом руки смахнул со стола хрустальную пепельницу, со звоном расколовшуюся об стену. Владимир не дрогнул ни одним мускулом на лице, и с какой-то исполинской выдержкой, как ни в чем не бывало, стал сбивать пепел на стол, словно в пепельницу, словно она оставалась стоять на столе, не улетела и не развалилась на части. Игнат стукнул кулаком об стол и зашагал прочь от оглохшего и онемевшего к его боли сына. Тихо в кухню вошла жена Владимира и стала собирать осколки руками.
– Да что с того, пусть старики живут. Сколько ему того осталось, – говорила баба, коля себе руки.
– А дом? А в доме, – полный раздражения закричал Владимир. Он так переменился, жилы выступали на его шее, и, казалось, еще немного и они разорвут кожу, и ярость, в один миг родившаяся и побежавшая в них, расплеснется по кухне. Теперь говорили на тему, волнующую его, и Владимир ожил, слышал и говорил. – Что значит, пусть?! Не для уборщицы мать наживала. Для сына, для внуков. Тоже мне, жених. Семьдесят лет не за горами. Матери постеснялся бы. В гробу, наверное, переворачивается. Шалаву в дом привел.
– Ну, он же отец твой.
– Вот поэтому мне не плевать, что отец. Еще благодарить будет, когда я ее вышвырну.
II
Игнат всегда, прежде чем встать утром с постели, просыпался и смотрел на крепкую сбитую Тамару, на ее большую грудь под тонкой простыней и клал свою седую голову бабе на плечо. А она, проснувшись и открыв глаза, брала его за седой чуб и, улыбаясь, начинала закручивать волосы на пальцы, словно на бигуди. И так просыпался бы старый казак каждое утро, и не надо было больше ничего казаку. Все у него теперь было.
Сын Владимир пришел, когда не было отца, стал ходить по комнатам.
– Где материны фотографии? – спросил Владимир, разглядывая пустую стену в комнате отца.
– Не знаю, – испугалась Тамара, и вправду не зная, что Игнат уже как несколько лет назад убрал их далеко в комод, чтобы не напоминали о потере жены. А Владимир, прежде до появления Тамары в жизни отца, и не замечал, что их здесь нет, и только теперь отсутствие их как-то яростно врезалось сыну в сердце.
– Я тебя спрашиваю, шалава? – и Владимир набросился на Тамару. Что ты с ними сделал, говори. Говори! Сожгла, сожгла? Да?
Тамара в ужасе задрожала.
– Я не брала, не брала.
– Где фотографии? – и Владимир силой схватил Тамару за плечи и стал ее трясти. – Не скажешь, где, убью, убью!
– Я не знаю, – зарыдала от обиды и боли Тамара. Отец придет, спроси. Я не знаю.
Владимир бросил ее трясти.
– Отец, отец! Да ты ему все мозги запудрила, – и замахнулся, но сдержался и спрятал за спину руку, словно боясь, что он себя в следующий раз не сможет сдержать и ударит. – Чтобы за пять минут собралась. В следующий раз убью, если застану.
Тамара, рыдая, стала собирать вещи и бедная заплаканная ушла из дома Игната задолго, чем он смог придти.
Когда пришел Игнат, Владимир, как ни в чем не бывало, ел борщ, приготовленный Тамарой. Ел с удовольствием и даже хвалил про себя, вспоминая и сравнивая, как готовила мать, был довольный.
Игнат посерел, застав сына в гробовой тишине. Без встречающей его Тамары снова оказался в холодном необжитом доме.
– Где Тамара? – спросил Игнат, холодея.
– Она ушла.
У старика потемнело в глазах.
– Как ушла? Что ты говоришь!
– Она сожгла фотографии матери и должна была уйти.
– Какие фотографии?
– Фотографии матери, что висели в спальне на стене, – отвечал Владимир, подливая себе в тарелку добавки.
Игнат затрясся и бросился в комнату к комоду. Судорожно он достал аккуратно сложенные фотографии и выбежал из комнаты, крепко сжимая их за край.
– Вот фотографии, вот фотографии, – кричал в отчаянии Игнат, размахивая перед сыном фотографиями покойной жены, и бросил их перед сыном на стол.
Владимир спокойно отложил в сторону ложку и стал внимательно смотреть фотографии, так, как будто сверялся с памятью, те ли это фотографии или подделка.
– Да, в самом деле, – сказал Владимир и протянул отцу фотографии. – Повесь, пожалуйста, на место. Мать расстроилась бы.
– Повесь, повесь, – закричал Игнат и в бешенстве схватил тарелку и, переливая борщ на стол и на пол, запустил ее в стену. – Надо было тебя в колыбели задушить! – прокричал Игнат и подальше от греха, борясь с гневом и яростью, выбежал из дома.
Игнат шел, как в тумане, наливаясь жгучей обидой и еще более страшной злобой и ненавистью, которая закружила страшной бурей у старого казака в душе. И кровь, словно в чане на огне, не бежала, а кипела внутри тогда у растерзанного, оскорбленного Игната. Свора черных мыслей металась в голове и била виски, и звала его обратно домой, чтобы подвести под страшный грех. И тогда старик заставлял себя вспоминать покойницу жену и клятву беречь сына. И страшные мысли как будто рассеивались, и он мог идти дальше на полусогнутых ногах.
– Игнат!
– Эй! – окликнули его мужики, в числе которых был Пономарев.
– Ты что, Игнат, убил кого, сам не свой! – сказал озабоченно Коля, и все мужики, взволнованные, повставали.
Игнат как будто очнулся от страшного сна, стоял и смотрел на мужиков.
– Да ты что, Игнат? – разволновались мужики не на шутку.
– Я сейчас, – сказал Игнат и пошел в магазин, у ступенек которого толпились мужики в надежде, что какой-нибудь знакомый, чудом сегодня разбогатевший, угостит их – даст на водку.
– Что тебе, – спросила у Игната толстая баба продавец.
– Водки, – сказал Игнат и протянул бабе новенькую тысячную купюру.
– У меня сдачи нет.
– На все, – огорошил уже как второй год не пьющий Игнат.
– Праздник, какой? – спрашивала баба, с опаской беря деньги.
– Поминки!
– А кто умер? Не слышала, – удивилась баба.
– Я умер, я, – сказал Игнат.
Баба испугалась:
– Да бог с тобой, бог с тобой!
– Водку, баба, давай, мужики гулять будут!
И пил Игнат, как на поминках, не чокаясь, прямо с горла, огнем заливая огонь в груди. И не тухла, не затихала обида и боль в сердце у старого казака, а, наоборот, еще сильней разгоралась, и вправду грозя казаку страшным.
Как масло в огонь лилась проклятая водка!
– Петь давайте, – говорил Игнат, и мужики пьяными глотками затягивали что-то мужицкое. Игнат плевался, прерывал и с надрывом и болью пел старинную горькую казачью песню, что птицей рвалась на волю из старого израненного казачьего сердца:
– Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, и солнце в радости забьется с восторгом чувств не для меня.
III
Коля так напился, что на пару с Митькой уснул за памятником. Митька, местный, малограмотный, высоченный, лохматый мужик летом жил на «бабе с хлебом», а осенью на зимовку обратно возвращался домой к старой матери на противоположный далекий край станицы. Жил Митька тем, что приносили мужики, пил и ел за счет мужиков, и никогда это не вызывало ни у кого ни ненависти, ни злобы. Все всегда пили и закусывали вместе: сегодня, что было у братьев Лыковых, завтра, что принесет Коля от Лизы, сегодня вот угощал Игнат. Все знали, что у безработного нищего Митьки ничего нет, и ни у кого никогда не рождалось и мысли, чтобы можно взять и не поделиться с Митькой, словно как с нетрудоспособным членом семьи. Ни кому же не придет в голову не покормить сына или дочь, если он будет голодный, если ему нечего есть. Так было принято, как и то, что если у кого прохудилась крыша или надо было копать новую сливную яму, он звал знакомых мужиков, и, как говорится, всем миром помогали соседу станичнику, и никогда ни у кого ни возникло мысли попросить за работу денег, хозяин накрывал стол, кормил поил помощников. А в следующий раз сам без разговоров шел за помощью к соседям. Так жили, смотрели на Митьку, как на несчастного члена семьи. Митька иногда наглел, прятал и не делился на стороне заработанной водкой. Митька мог пойти на стекольный завод, погрузить бутылку и, получив магарыч, под шумок раздавить сам бутылку, а потом, как ни в чем ни бывало, придти и пить с мужиками. Водилась за Митькой нечестность и жадность до своего, но незлобивые мужики и это прощали. Не украл и ладно.
Место, куда стекались мужики, было замечательным и известным на всю станицу. К памятнику труженикам и рабочим аксайского района – женщина с караваем, прозванная мужиками «баба с хлебом», шли мужики, словно к невесте и, оставаясь с ней долгими часами, как будто бы пытались заслужить ее расположения.
Словно каким-то зловещим магнитом, дешевая поддельная водка, продававшаяся из-под полы в магазине напротив, манила сюда мужиков со всей станицы. И этот пяточек в станице, как могила неизвестного солдата в Москве, никогда не пустовал и держал около себя свой страшный караул, заживо погребая и унося все новых и новых спивающихся, пропадающих без вести, неизвестных солдат огромной России.
В отличие от многих станичных мужиков Коля приходил сюда редко, только когда ночевал у Лизаветы. Для старика это уже было далеко, и милиция, и участковый у «бабы с хлебом» отмечались чаще, чем у себя в отделении.
Митька проснулся ночью, нашел у ног бутылку, оставленную Игнатом мужикам на опохмел, и почти всю выпил, оставив с наперсток на донышке. И завалился обратно спать, а когда уже утром очнулся, Коля с тяжелой болью, трясущимися руками стучал горлышком бутылки о ладонь и слизывал капельки спиртного с потрескавшейся морщинистой старой руки. Митька смотрел на старика и помнил, как Игнат ему лично давал бутылку, полнехонькую водки, ту самую бутылку, из которой Коля выбивал последние капельки. Как он ее выпил, он не помнил, видел только, как старик обидел его, ничего ему не оставив. И озверев, набросился на старика. Митька выхватил из рук Коли бутылку и затряс ею у него над головой, грозясь ударить.
– Выжрал, выжрал, – в бешенстве кричал Митька.
– Не пил я, – отвечал Коля и нисколько не пугался, потому что и вправду сейчас был ни в чем не виноват. – Пустая она была, Митя. Видит бог, пустая была.
– Да как же пустая. Полная, полная. Мне ее Игнат сам давал.
Коля развеселился:
– Так может ты ее сам и приговорил. Ну, Митька, ну Митька, ночью выпил и не помнишь, – улыбался старик.
– Это ты специально, специально придумал. Гад! – и Митька со всего маху обрушил на голову старика пустую бутылку.
Коля с криком схватился за пораненную до крови голову.
– Не пил, не пил, – плакал старик.
– Признавайся или забью гада, – кричал Митька, обезумев, что старик не признается и перекладывает на него вину.
– Там на донышке, на донышке было, – плакал Коля, и по лбу на лицо старика бежала кровь.
– Не пил, не пил, – Митька ударил старика в лицо. Коля упал, и Митька стал его бить ногами. А кто выпил, а кто выпил? – кричал Митька и бил старика.
На крик из магазина прибежала продавец, с горы бежали мужики, прохожие бабы и еле отняли Митьку от старика.
IV
Участковый Мамедов по прозвищу Бек пришел к Лизе вечером. Зашел, как к себе домой.
– Где Пономарев? – спросил участковый.
– Отдыхает он, – ответила перепуганная Лиза.
– Поднимай!
– Он плохо себя чувствует, сотрясение у него.
Бек нахмурился и, не разуваясь, пошел по большому дому.
Было чисто. Кругом резные двери. Даже плинтуса какие-то необыкновенные, вырезанные учителем по трудам из сосны, чистые, светлые, как солнце, сияли от лака. В зале натертый паркет. Необычные стулья с резными спинками в виде птиц, здесь орел, а там вовсе белый лебедь с головой и, словно с живыми глазами, только что не летит. Книжные полки из ореха. Все в доме дышало мастерством искусного художника. Огромный, потемневший от времени, вековой киот с Николаем чудотворцем, не по – станичному много книг.
Пономарев лежал на диване под одеялом, у него была опухшая губа с пугающей блямбой запекшейся крови, на голове слипшиеся от крови засохшие волосы. К удивлению Бека от побоев лицо старика, налившись краской, вроде бы как бы посвежело и представало моложе.
Лиза встала у головы старика, Бек, разговаривая, бросал косые взгляды на старинную икону.
– Писать можешь?
– Не буду, – пробурчал Коля. Сами разберемся.
– Разберутся они. Знаю, как вы разбираетесь. А если сдохнешь? Как он тебя! – удивлялся Бек, рассматривая побои старика.
– Не дождешься, – тихо себе под нос пробурчал Коля, но участковый услышал.
– Поговори мне еще. Рвань! За бутылку перегрызетесь. Был бы у него нож, он бы тебя ножом, – Бек заглянул в глаза Чудотворцу. – Вон, вы и бога своего пропили. Рвань!
Лизу трясло.
– Что, неправду говорю?
– Неправду, неправду, – говорила раскрасневшаяся Лиза.
– Да как же неправду?! Царя убили. Интеллигенцию сгноили. Казаков вырезали. И неправду?! Вон, один Орлов на всю станицу. И то, недолго ему, вольному то. Бога пропили!
– Неправда, неправда, – шептала Лиза, не переставая.
– А что тогда, правда?! Ты посмотри, посмотри на него, и Бек тыкал в Пономарева. – У нас на родине в ауле на старика не то, что руку поднять, собака не залает, потому что даже собака знает, что если залает, завтра ее шкура будет на заборе висеть. А на него посмотри. Рвань! Делают с вами все, всё, что хотят. И я буду делать, буду, потому что позволяете. Все взамен на водку, совесть, честь. Рвань! Так будешь писать, – закричал Бек.
– Не буду!
– Ну и черт с тобой, дурак старый, – и Бек ушел, со злостью опрокинув красивый стул с резной спинкой и изящными круглыми ножками. Красота и мастерство в обстановке дома никак не вязалась с представлениями Бека о русском мужике, когда-то жившем здесь, и его это раздражало.
Пол ночи Лиза простояла на коленях у иконы Николая Чудотворца и после нескольких часов беспрерывной молитвы упала без сил, изможденной, заплаканной и подавленной.
V
Тридцать лет было казаку Степану Орлову. Тридцать лет у казака – самый золотой благодатный возраст – дури в голове поубавилось, а силы не уменьшилось. Принципы, нрав, буйства красок характера, – всего не пожалела донская земля для Орлова, словно возлагала на него надежду. Дед Степана Прокоп, умирая, открыл внуку, где в доме схоронена шашка. И берег дедовскую шашку Орлов пуще, чем горец бережет честь дочери. Но случись что с шашкой, ни за что не простил бы, как, быть может, простил бы отец. Спросил бы за боевую подругу предков страшней и строже, чем горец, опозоренный дочерью. Потому что казак в годину без шашки, что русский человек в душе без Христа – сирота, слабый духом, а с Христом – сила, гора.
Ну и тошно же было казаку в последние годы. Так, как только может быть казаку без правды. Когда покидает правда донскую землю, казаку жизнь не мила. Ведь всякая несправедливость на донской земле для казака все одно, что нож в сердце. И столько ее тогда было в округе, что любая обида перевернет чашу терпения казака, и казак возьмется за шашку. И может стать та обида страшнее мора чумы, и полетят наземь отрубленные головы. И узнав, что Митька поднял руку на старика, загорелся казак, разбираемый прежней неправдой, пуще, чем ковыль в поле, раскаленная на солнце. Словно в душу наплевали казаку. И нельзя было стерпеть. Стерпеть – значит было донскую землю предать, землю дедов и прадедов.
Орлов снял со стены шашку и вышел на улицу. И скоро за Орловым как на круг бежали мужики.
На «бабе с хлебом» Орлов нашел Митьку. Прежде заслав наперед мужиков схватить и держать Митьку, чтобы не убежал и не скрылся, увидев его с шашкой. И когда он пришел, на Митьке разорвали и сорвали рубашку, связав сорванной рубашкой руки.
Высокий, как оглобля, Митька, вываленный в пыль, стоял перед Орловым. Неподалеку в толпе мужиков стоял с разбитой напухшей губой Пономарев, только что слегка залеченный Лизаветой.
Орлов взглянул на старика и почернел.
– Развяжите его, – сказал Орлов.
Мужики развязали Митьке руки.
– Это тебе от старика, – выкрикнул Орлов и ударил кулаком Митьку в зубы. Длинный Митька упал ровно, как деревянный столб. – А это тебе от казака, – и сделал угрожающий шаг к упавшему на землю Митьке, сжимая крепко шашку в твердой казацкой руке.
Митька забился в истерике.
– В милицию веди. Веди в милицию, – кричал побелевший от страха Митька. Что же это, мужики, делается. Живого человека.
Мужики забеспокоились. Прежде думая, что дальше кулаков дело не пойдет, были согласны. Но когда увидели, куда гнет Орлов, как будто поостыли пьяные головы. Ну и в милицию не хотели везти. Сами хотели разбираться.
– Пусть Лизка решает.
– Как решит, так и будет, – закричали мужики.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































