Текст книги "Лизавета Синичкина"
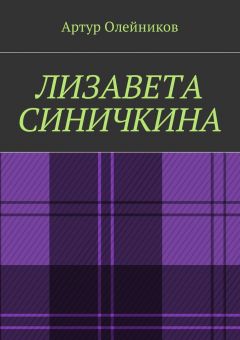
Автор книги: Артур Олейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
И так под звуки вальса из кухни стали выходить участники. Публика задрожала. Было в обликах участников что-то жуткое и откровенное для местной публики. Того сама не понимая Калачева разыграла человеческую жизнь не упустив из внимания самые главные волнующие события и этапы жизни каждого человека. Траурный костюм кружился со свадебным платьем. Брюки от школьного костюма пританцовывали с расклешенной юбкой с той, что выпускница десятиклассница выпрашивала у старшей сестры на выпускной вечер. Заграничный пиджак щеголял с алым атласным сарафаном прямо как на какой-нибудь танцплощадке, где под сенью деревьев при сияющих звездах рождались первый поцелуй и первое» люблю». Халат, больничная пижама, траурный костюм и свадебное платье.
Бедная Ниночка не спускала глаз с невесты и по ее щекам текли горячие горькие слезы. А несчастная Клеменко хромавшая уже много лет при взгляде на строгий пиджак расправляла плечи, становилась по струночке и не казалась нисколько хромой. И сколько их там было таких! Школа, служба, похороны и свадьбы проносились у публики перед глазами. И жизнь, искалеченная жизнь, украденное счастье. И вот уже мало кто из публики не плакал и не молил прекратить их мучить. А Калачева злилась и не могла взять в толк, почему все плачут, когда надо веселиться.
Петренко добравшись со Степановной до столовой, растолкала несчастных измучившихся зрителей и, указывая на Лизавету, закричала, стараясь привлечь как можно больше внимания:
– Вы полюбуйтесь на нее! – кричала Петренко и в спину поддакивала Степановну. – А еще строит из себя святую. Украла чужую вещь и танцует как ни в чем не бывало. Как будто, так и надо. Бесстыжая!
У Степановны при виде дорогой вещи закололо в груди, так словно и в правду Лизавета украла у нее халат, и что еще непростительней одела его, и танцевала в нем у всех на виду.
– Бесстыжая, бесстыжая, – нашептывала Петренко на ухо Степановны. Дрянь, воровка, воровка! – и подталкивала в спину.
«Дрянь, воровка» словно застряли и снова, и снова раздавалась в ушах Степановны. И Степановна разбираемая обидой подстрекаемая Петренко, словно в тумане уже совсем не разбирая, что сама по доброй воле рассталась со своим злосчастным халатом, бросилась на Лизавету.
Кто-то вскрикнул. Публика замерла завороженная безумством Степановны. Старая женщина, отыскав в себе откуда-то неведомые силы, повалила Лизавету, взобралась на нее сверху и колотила сухими костлявыми кулаками. Лизавета даже не пыталась ей ответить и только защищалась. Степановна что-то выкрикивала и была сама не своя. Может все еще имело шанс закончиться более или менее благополучно и окончательно не перерасти в катастрофу, если бы Лизавету со Степановной разняли, и как можно скорей увели не волнуя и без того разволновавшихся больных. Но Калачева! Калачева сама, словно лишившись рассудка, с кулаками бросилась на Степановну.
Господи, что началось! Публика в ужасе бросилась часть в рассыпную, часть обратно в палаты. В переполненном узком коридоре началась давка. Слабую и хромую Клеменко толпа подмяла под себя. Клеменко только что и смогла издать сдавленный крик и стихла, потеряв сознание. Вслед за Клеменко на полу под ногами оказалось еще несколько человек из числа стариков и самых слабых. Но эти не лишились впервые минуты чувств, и каким-то страшным леденящим сдавленным криком человека провалившегося в медвежью яму с пойманным в нее размеренным раненым зверем, наполнились коридоры больницы. Крики несчастных были настолько жуткими, что люди, остававшиеся на ногах, окончательно теряли над собой контроль и впадали в самую настоящую истерику. На место просто испугу пришла и разразилась паника. И основная масса людей обратно хлынула в столовую. Сестры Егоровы как будто этого только и ждали, и как сторожевые псы по команде хозяина срываются с места, Егоровы по сигналу главного врача бросились на несчастных больных. На тех, кто искал в них спасенье, как ищет ребенок спасающийся бегством от расходившихся сверстников задумавших его поколотить, и бросается к взрослому, чтобы спрятаться за спиной взрослого от своих мучителей. И о, ужас, когда ребенок чистое дитя не находит во взрослом человек своего защитника. Да будь проклята та минута, когда такое может свершиться.
Как на поле брани кавалерия врезается в пехоту и крушит людей, словно те и не люди, а хрупкие карандаши, сестры Егоровы врезались в устремившуюся к ним толпу. Дородные сильные женщины легко крутили жалких несчастных больных, вдвоем сдерживая десятки людей.
Калачева добралась до Степановны, и как за ней водилось, когда она была в не себя от ярости, наотмашь, словно в руке у нее была сабля, ударила Степановну кулаком по шее. «Бал, мой бал!» – гремело в голове и сердце Калачевой, и она уже не понимала, что говорила, что делала.
– Ты у меня поешь, ты у меня поешь! – выкрикивала Калачева и била Степановну ногами.
– Довольно оставьте ее, – умоляла Лизавета. Она уже была на ногах и старалась закрыть собой несчастную Степановну, что теперь как и она прежде была беспомощна и беззащитна и оказалась на полу.
Вызванные санитарки и санитары из других отделений хватали каждую, кто только подворачивался им под руки, волоком тащили в палаты и привязывали к кроватям. По негласному правилу до полного исчерпания беспорядков, если таковые имели место быть, вязали всех подряд. Вязали даже тех, кто уже был в палате и вел себя смирно. Самым беспокойным делали «лошадку». Переворачивали на живот и связывали простыней между собой связанные ноги с руками связанными за головой. Связанный таким способом человек корчился от боли и качался как детская деревянная лошадка. И уже совсем скоро кончились специальные тряпочные ремни длиною в несколько метров именуемые вязками, и больных привязывали к кроватям всем, что было для этого пригодно. Вязали полотенцами, простынями особенно были ценны капроновые колготки. Решали дело с одними и снова отправлялись, как и прежде хватать, тащить волоком и привязывать к кроватям, словно какие-то ловчие, которые только это и умеют, и только этим и живут.
На пострадавшую в давке Клеменко вылили флакон нашатыря, и вмести с другими покалеченными, закрыли на ключ в процедурной. Калачеву же долгие минуты все никак не могли отнять от Степановны. Остервеневшая сбесившаяся санитарка, окончательно потеряв меру, просила, умоляла, а потом и вовсе требовала отдать ей Степановну на растерзанье. Ту на которой и без того не было ни одного живого места. Сестры Егоровы сдерживали натиск Калачевой с лакейской покорностью, терпели оскорбления и сносили тумаки, когда Калачева размахивала руками желая дотянуться и ударить Степановну. Было без преувеличения страшно, также если бы какая-нибудь сбесившаяся собака разорвала ребенка и скулила над бездыханным телом о том, что ей оцарапали нос, а мимо проходили сильные здоровые люди и жалели бы и успокаивали бы псину. Смотрели бы ее оцарапанный нос, шутили, обещали новый нос и в упор не замечали бы под ее окровавленными лапами растерзанного ребенка. Вот и там тогда успокаивали сбесившуюся санитарку, несли воды, обещали завтра же устроить новый бал, только бы она не волновалась, когда у ее ног лежал человек, у которого от удара ногой по лицу шла носом кровь, но никто не нес ему воды, не успокаивал и не обещал наказать виновного. Только Лизавета была рядом. Она винила себя в случившемся, не помнила и не чувствовала синяков и что угодно отдала, чтобы облегчить страданья несчастной Степановны. Лизавета смотрела вокруг, и ей было страшно за Калачеву, за сестер Егоровых за всех у кого должно быть в жизни случилось что-то жуткое. А как, как еще можно было оправдать человека в бесчеловечности не иначе как бедою, думала Лизавета. Но как бы Лизавета не хотела убедить себя в горе окруживших их со Степановной медперсонала, они не казались бедными несчастными людьми, а наоборот были благополучны, здоровы, полны сил и от этого еще страшней представали их поступки. И Лизавете хотелось уйти, убежать от таких людей и она убежала бы, если бы только с ней могла бы убежать несчастная Степановна и все больные разом.
Общими усилиями всего медперсонала второго отделения Калачеву кое-как смогли успокоить, дав слова посадить паршивую Степановну на одну хлеб и воду и разрешить устроить бразильский карнавал. На карнавале Калачева настаивала сильнее всего и когда получила согласие главного врача, как будто позабыла и о Степановне и о провалившемся бале и теперь только помнила и была занята организацией карнавала. Калачева с увлечением прямо над избитой в кровь больной принялась рассказывать про костюмы и маски, которые можно будет сшить и смастерить, про музыку и пироги, которые можно будет испечь на больничной кухне. Калачева сделалась такой счастливой и великодушной, что предложила Степановне с Лизаветой почетные звания распределителей на ее новом грандиозном празднике. Лизавета леденела от ужаса.
– Мы прицепим вам банты, – рассказывала Калачева взахлеб. – Напечем пирогов.
– Это хорошо Катерина Григорьевна, – нахваливала заведующая санитарку. – Можно будет пригласить руководство, одеть больных в новое, покрасить полы. Давайте это обсудим.
И все гурьбой пошли в кабинет заведующей.
– У меня есть замечательное печенье, – рассказывала заведующая по дороге. – Не поверите, такое свежее, так, и тает во рту.
Калачева была счастлива. Карнавал, ее карнавал и она послала в столовую Раису Михайловну за сгущенным молоком к чаю с печеньем, и все дружно и весело смеялись думая о предстоящем веселье, костюмах, масках и пирогах.
IV
Оставшись со Степановной наедине, Лизавета помогла ей подняться. Степановне было совсем плохо, и сама без посторонней помощи не смогла сделать и шагу, когда ей как можно скорей нужно было лечь в постель. И Лизавета, поддерживая, повела ее в палату. Поначалу ни так просто было отыскать свободную койку. И прежде в переполненном до отказа втором отделение на всех не хватало кроватей, и спать на раскладушке в коридоре было уже давно для всех привычным делом. А после назначения всем поголовно вязок, так вообще было легчи отыскать в стоге сена иголку, чем во втором отделении свободную кровать с непривязанным к ней больным. Вот и ставшая за многие годы родная койка Степановы, как и думала Лизавета, была занята, так же как и ее. Рассчитывать оставалось только на то, что кто-нибудь наконец-то отвяжется и отправится бродить по палатам и таким образом освободит койку или просто предложит кому-нибудь обменять место на свободу, например Петренко. Ее застали за выкорчевыванием цветов из горшков и разбрасыванием земли по палате. Петренко кусалась и ударила санитарку цветочным горшком, и пришлось сильно попотеть, прежде чем ее усмирить. Но, слава богу, Лизавете не пришлось с ней договариваться. Кто-то из связанных на скорую руку полотенцем давно уже развязался и отправился путешествовать. Палата, в которой Лизавете посчастливилось отыскать свободную койку для обессилившей Степановны, была одной из тех, что полностью испытала на себе все неприятности, которые обрушил на головы больных злосчастный бал Калачевой. Палату можно было сравнить с разоренным городом, который приступом взял Мамай. Повсюду было разбросанно белье, на полу лежали разбитые цветочные горшки и перевернутые стулья. Как первого снега всегда не хватает, чтобы равномерно укрыть всю землю, а потом и вовсе, когда снег тает, и оголенные куски земли режут глаза и на его фоне предстают как черные зияющие раны, невесомое белое перо из разорванных подушек неравномерно устилало грязный пол палаты, и резало глаза. И люди, связанные по рукам и ногам, одни корчившиеся от боли с закатанными глазами и качающиеся на животе как детская деревянная лошадка, другие извивающиеся как уж на скороходе. На фоне белоснежного пера они показались Лизавете еще несчастней, чем может быть были на самом деле, словно что-то вовсе недопустимое то, что не должно было случаться на свете, но оно было и от этого становилось еще невыносимей. Как, когда шагаешь по сверкающей от роскоши и богатства центральной улице крупного города, а навстречу грязный оборванный ребенок, мальчик с ручкой Достоевского, и вдруг станет так горько и стыдно за этот город, за страну да за весь белый свет, что даже отдав ребенку все деньги до последней копейки, от стыда спрячешь глаза.
Лизавета уложила Степановну, принесла воды, дала ей напиться и оттерла лицо от крови. Степановна плакала и говорила, что скоро умрет. Лизавета ее успокаивала. Потом Степановна попросила обратно свой злосчастный халат. Лизавета осталась в одной ночной рубашке старой и застиранной. И сидела на краю кровати и как могла, поддерживала Степановну.
Заполучив обратно свой халат, Степановна принялась в нем что-то искать и скоро достала из его кармана двойной тетрадный лист. Это оказалось письмо. Прежде у Лизаветы не было времени смотреть карманы. Письмо было сложено очень аккуратно и Лизавета вполне могла его не заметить, когда носила халат и поэтому сильно не удивилась находке, не так если бы прежде тщательно обыскав халат нечего не нашла, а потом раз откуда не возьмись в нем взяло бы и появилось письмо.
Лизавета взволновалась. Степановна как будто что-то вспомнила из прошлого, когда ее звали Дианой, когда она была любимой и любила сама.
Прежде Диане казалось, что ее никто не любил. Может, только если мать, но она умерла, когда Диане не исполнилось и трех лет. И как бы Диана не пыталась ей ни как не получалось разбудить память и вспомнить материнскую ласку и любовь.
Отец Дианы был непростым, тяжелым человеком, строгость у него граничила с жестокостью и грань, отделяющая одно от другого, у Степана Гавриловича была своя особенная. Все что накипело за день на сердце Степана Гавриловича овдовевшего на пятом году семейной жизни, он вымещал на подрастающей дочери. Запросто у Степана Гавриловича было поднять на девочку руку и не просто там шлепнуть, а так, что маленькая Диана падала как подкошенная или летела в другой конец комнаты. С годами и приходом в дом молодой жены отношения Степана Гавриловича к дочери изменились. Руки он больше не распускал, но жизнь от этого у Дианы легче не стала. Пьяный Степан Гаврилович подзовет дочь, усадит на колени и давай слезы лить. Диана дрожит как листок на ветру и ждет, пока отец наплачется и отшвырнет ее от себя как собачонку, стукнет кулаком об стол, так что тот ели устоит, чтобы не разлететься напополам, а потом изорвет на себе рубаху и давай еще пуще прежнего покойницу жену вспоминать. Молодая жена терпит, молчит, а когда благоверный изольет душу и пьяный завалиться спать к падчерице и давай ее отхаживать, всем что только подворачивается под руку, половой тряпкой, мужним кирзовым сапогом или просто за волосы по всему дому таскает.
Росла Диана нелюдимой. Хоть и была дома жизнь не сахар, не выманить было Диану за порог никаким калачом. Забьется где-нибудь в угол и сидит целый день. В школу и в ту ходила, как после войны ходили в церковь раз в неделю по нашептыванию бабки. Но к изумлению деревенской учительницы была впереди всего класса. Не понимала деревенская учительница, как можно не зубрить и знать предмет на отлично, как не понимал местный председатель колхоза ярый атеист, как можно верить в то чего не видно.
Пять лет начальной деревенской школы пролетело так же не заметно, как летит на деревне время между посевной и уборочной, и надо было собираться в сельскую школу за восемьдесят километров от родной деревни жить в интернате и возвращаться домой только на каникулы. Одну, другую четверть Диана провела в новой школе, пока мачеха серьезно не заболела, и Степан Гаврилович на тракторе не привез дочь домой посреди учебного года. Спустя два месяца мачеха выздоровела, но больше Диана в сельскую школу так и не вернулась и с тех пор стала еще нелюдимей, чем прежде. Месяцами не выходила из дома, не зналась и не дружила не с кем все молчком и молчком. Даже когда по совету родни мачехи везли Диану в психиатрическую больницу и говорили, что только на время, мол, проверить, а Диана, зная, что навсегда не проронила ни слова, ни говоря уже о слезах, которых сказать и прежде никто у нее никогда не видел. Поначалу проведывали почти каждую неделю, даже вроде бы и в самом деле походило на то, что в скором времени заберут, а потом как водится, надежда с каждой неделей все больше таила на глазах, месяц за месяцем куда-то проваливался, а все не выписывали. А после скоропостижной смерти отца и вовсе кто-либо перестал интересоваться судьбой Дианы кроме врачей и санитарок больницы.
V
Как и семечко унесенное ветром из родных мест на дальнее всеми забытое поле, где хочет оно этого или нет, прорастает, человек покинув отчий дом, вопреки своей воли начинает новую жизнь. За особую не разговорчивость Диану прозвали немой, но известно же, что молчаливость у красавицы все ровно, что не договоренность в любовных делах та, что сводит с ума, принуждает гадать, от чего все велит влюбляться сильней с каждым часом.
Смуглая, гибкая как виноградная лоза с черными, как смоль волосами и таким волнующим сердце взглядом. Было в чертах Дианы что-то от роковой красоты цыганки, которая может влюбить в себя с первого взгляда, и побежишь за такой красотой хоть на край света, хоть на верную смерть. И сделает она это только затем чтобы вдоволь посмеяться. Разобьет сердце и прогонит ко всем чертям, но если уж полюбит сама, то навсегда до самого гроба. И наверно обдели природа Диану красотой, может еще и ни такой несчастной и горькой сложилась бы ее судьба.
Однажды весной среди ночи санитарка растолкала Диану и грубо потребовала одеваться. Диана подчинилась и, не спрашивая зачем, потянулась за своим старым халатом, перекинутым через спинку кровати, но санитарка выхватила из рук девушки ее скромную бедную одежду и дала дорогое красное платья, с которым пришла. Диана растерялась, никогда она ничего подобного не носила и смотрела на платье, как молоденькая девушка смотрит на красивого ветреного парня с опаской, но жгучим любопытством. Тут уже санитарка разозлилась не на шутку, поняв, что и дальше придется помогать несмышленой девушке, и с перекошенным от злости лицом стала одевать на Диану через голову платье. «Руки подними. Не крутись, стой ровно!» сердито подсказывала и требовала санитарка. Рослую под центнер весом Полубоярову Татьяну Петровну больные откровенно побаивались. Двадцать пять лет роботы, безупречное знание дела, беспрекословное подчинение больных ценило руководство, и закрывала глаза на кое-какие грязные дела Полубояровой, не говоря уже о коллегах простых санитарок и рядовых врачей, которые просто предпочитали не вмешиваться не в свои дела. Так первый раз Диана оказалась в воинской части расположенной по соседству с больницей.
На КПП Диану пришел забирать Морозов. Худой высокий капитан был пьян, смеялся, шутил, один раз даже попытался обнять Полубоярову, но получил от санитарки кулаком по спине и больше не приставал.
Диана дрожала и от страха казалась еще прекрасней так, что от нее нельзя было оторвать глаз как от розы распустившейся на грязной проселочной дороге, где все серо тоскливо, и вдруг природа являет чудо, завораживающей и дикой красоты. Морозов, как только внимательней присмотрелся к Диане тут же, как будто протрезвел. Застыл как вкопанный и только смотрел, так что Полубоярова разозлилась и хотела снова огреть капитана по спине.
– И не жалко тебе Петровна такую красоту? – спросил Морозов, сняв фуражку и почесав затылок, очнувшись при виде сердитой физиономии санитарки.
– Что ее жалеть. Полоумная! – усмехнулась Полубоярова, попросила Морозова нагнуться и что-то прошептала капитану на ухо. Морозов округлил глаза в знак небывалого удивления и не больно-то сильно веря в слова санитарки.
– Врешь! – бросил Морозов.
– Но если нет, ты у меня попляшешь. Я с тебя в три дорога возьму, – разозлилась Полубоярову.
– И дам в чем вопрос, если правдой окажется, – отвечал Морозов, с еще большим интересом изучая девушку, словно умирающую со страха. И волненье, и испуг в глазах Дианы были за то, что не соврала санитарка и от этой мысли голова капитана кружилась сильней, чем от вина.
Новая заминка в деле вызвала у Полубояровой очередную волну раздражения.
– Так берешь или нет? – сердито спросила Полубоярова, и крепко брала Диану за запястья, словно собираясь уйти, в то время как проходили секунды, а она оставалась на месте.
– Беру, беру, – рассмеялся морозов. – Если не возьму, так смотри и поколотишь. А может к черту девку? – и Морозов полез обниматься. – Жениться, конечно, не обещаю во всем же остальном…
– Смотри капитан без штанов останешься, – рассмеялась Полубоярова.
– Про штаны не знаю, но попотеть придется. Такую, – Морозов обвел руками Полубоярову высокую и широкую как буй, – зараз не осчастливить.
Полубоярова залилась громким смехом таким, что в окошко выглянул какой-то солдатик, дежуривший в наряде на КПП.
– Смотри, чтобы помощников не пришлось искать. А то я не посмотрю, что сам вызвался, жаловаться к начальству пойду.
– Ну, Петровна, ну Петровна, – захохотал Морозов и снова полез обниматься, дело было обставлено, и на этот раз Полубоярова позволила капитану ее приподнять.
Через час договорились встретиться, но не через час, не через два и даже спустя три чеса Морозов Диану не привел. Пришел только под утро и один. Хохочет, целоваться лезет, а сам еле на ногах стоит и счастливый, как вор, который легко и безнаказанно умыкнул золото.
– Не соврала Петровна, не соврала! – сказал пьяный капитан.
– Где девка сукин сын! – набросилась Полубоярова на капитана. Замершая, не выспавшаяся, в пятый раз за ночь она пришла на КПП и была сердита и прогневана, словно волчиха, встретившая мужа волка после недельной отлучки без дичи для волчат.
– Да цела твоя девка, что с ней станет?
– Какой уговор был, я тебя спрашиваю?!
– Да ну тебя к черту с твоим уговором. Мне командир орден обещал!
– Орден говоришь! – пришла в не себя от ярости Полубоярова и схватила за грудки капитана. – Я тебе дам орден! Девка где? Ты что думаешь, я на тебя управы не найду? Кобель! Угробили девку, угробили говори?!
Морозов с силой убрал руки санитарки.
– Я сказал, цела девка, цела! – и достал деньги, отсчитал тридцать рублей и протянул Полубояровой.
– Больше давай, ирод проклятый! – схватила деньги Полубоярова и, требуя еще чуть не с кулаками набрасываясь на капитана.
– Куда больше? И так в три дорого против обычного, – отвечал капитан, нахмурившись, но зная, что в делах с Петровной дороже станет заплатить, добавил еще двадцать рублей. – Больше не дам. Не стоит!
– Кобель ты редкостный я посмотрю, сказала санитарка, поняв, что не получит больше денег.
– Ты у нас, что святая?! Всех кого только можно к нам перетаскала!
– А ты мне кто, отец, чтобы судить? А?
– Ну, все, все раскудахталась.
– Ты мне капитан зубы не заговаривай. Когда приведешь, говори?
– Кого? – так спросил Морозов, как будто не понимал в чем дело, на что Полубоярова уперла руки в бока и недобро посмотрела на капитана.
– А девку! – вспомнил Морозов. Будет тебе девка. Через час на этом самом месте.
– Плати!
– Сказал больше не дам, значит, не дам, – разозлился капитан. Станешь водить, не обижу.
– Ну, смотри мне капитан. Обманешь!
– Не обману. Иди, сказал. Через час, значит через час.
Сколько потом не расспрашивала Полубоярова Диану та все молчала, а после того как санитарка зачастила с ней в воинскую часть и вовсе разговаривать перестала. В глазах жизни нет, сядет и сидит на одном месте. Отведут в столовую, значит, поест, а если забудут так весь день на одном месте и просидит. Похудела, щеки впали, больно смотреть одна кожа да кости и неизвестно чем бы это все закончилось, только через три месяца в самом конце лета, увязшая роза возьми и оживи. Такая с Дианой перемена случилась, никто не знал, что и думать. Выменяла наша роза на офицерские конфеты губную помаду с тушью и целый день только возле зеркала и вертелась. А вышло так, что со временем Диана из воинской части стала возвращаться сама. Морозов с другими офицерами могли продержать Диану и час и до утра, каждый раз по-разному. Полубоярова раз никого не застала второй и договорилась с Морозовым, чтобы он деньги присылал с Дианой. Полубоярова знала, что бедной несчастной девушке бежать некуда, а деньги, деньги волновали Диану точно так же, как румяный пышущий здоровьем молодец волнует похоронное бюро. И прежде чем вернуться в больницу Диана, чтобы прийти в себя, могла подолгу бродить по территории воинской части.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































