Текст книги "Лизавета Синичкина"
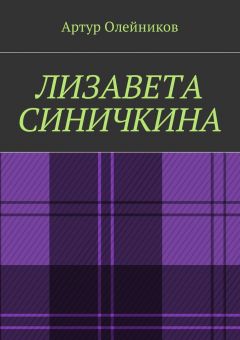
Автор книги: Артур Олейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
XI
«Прости, что за долгие месяцы пишу впервые. Я не престаю думать как ты там, что с тобой? Какие нужны силы и мужество, чтобы жить женщине в таком месте, которое даже на войне мне видится в черных траурных красках от того что здесь все же война, а у вас мирное время.
На войне смерть ходит под руку с жизнью и обои переполненные страшными любезностями и одолжениями, только и делают, что ублажают друг друга. Страшный союз, который возможен только на войне. Жизнь одного, двух человек могут спасти сотни жизней, и в то же время сама жизнь ежедневно становится причиной смерти людей. Самый простой и страшный пример чуть не каждую ночь жизнь являет на радость смерти. Уснул на посту часовой, задремал другой и на утро целую роту, могут найти с перерезанным горлом. И наоборот первая подорвавшаяся на мине машина в автоколонне, и заживо сгоревшие в машине люди, спасают всю автоколонну, сотни жизней. А я при всем том, что творится вокруг так и не научился стрелять в людей. Направляю дуло автомата, нажимаю спусковой крючок, а пули, словно заколдованные или в сторону или в небо, но только не в цель. Признаться честно, поначалу, когда стрелял, так жмурился, сейчас не жмурюсь, привык, но все ровно, ни разу в никого так и не попал, даже не ранил. Очень рад этому. Хоть и понимаю что это палка о двух концах. Как говорит капитан Морозов, профнепригодность моего сердца к войне может стоить жизни не только мне, но и моим товарищам. Но как бы там ни было, ни я, не мои товарищи не жалеют, что здесь оказались. Афганистан и вообще Восток после наших берез, чернозема и просто травы под ногами кажется, словно другою планетой. Местное население же, но на то, оно и местное население! Думаю и знаю, что если любой человек независимо от национальности и вероисповедания с оружием в руках придет в мой дом или на улицы моего родного города не будет мной встречен с хлебом солью. Вот так и в Афганистане никто не жалует нас как освободителей. Но и не за что нас встречать, как наших дедов в сорок пятом, встречали в Европе. Всегда с оружием и всегда по несколько человек.
В Кандагаре и как в любом городе России есть базар. Восток родина уличной торговли. Но как мне показалось базар на востоке только в кино шум, гам, веселые лукавые лица, и пройти не дают. Но то, что в Кандагаре, да и, пожалуй, в любом городе Афганистана во время войны, это точно. Толпы грязных оборванных людей чаще детей, которые собираются в стаи, словно вываленные в грязной муке, визитная карточка местных базаров и улиц. Здесь повсеместная нищета. И лица! Господи, такие страшные лица, на которых при виде нас русских солдат может рождаться такая ненависть, что может стать не по себе даже бывалому как говорится обстрелянному бойцу. Но всего страшней, когда начнут улыбаться и заискивать. Девять из десяти случаев такой доброжелательности может закончиться пулей в спину или гранатой с выдернутой чекой, которая волчком закружиться в пыли под ногами. И всего чудовищней, что это граната в руках восьмилетнего ребенка. А самая ходовая монета на местных базарах патроны от автомата. На патроны можно выменять хоть черта лысого, только покажи патроны. Еще тушенка. Но она что-то вроде низкопробного серебра. Патроны – золото. Оружие есть в каждом доме. Патронов же много не бывает, как пошутил один переводчик из местных, за что с ним пошутили не менее страшно. Долговязому афганцу полиглоту в халат положили гранату и на ходу выбросили из машины.
Что не день на улицах русский солдат получает пулю в спину, а наутро его товарищи, те которые его мертвого несли на руках идут на местный базар и меняют патроны на вещи и гашиш. Вот и Гриша отличился. Рассказал, что видел на базаре у одного старика богатый халат, и вот бы здорово было его на что-нибудь выменять для тебя.
Менялись долго, но все безуспешно. Что только я не предлагал! Старик в сером от пыли халате и чалме с желтыми лицом и зубами упорно делал вид, что не понимает, что ему дают взамен его халата. Я предложил деньги – русские рубли. Все, что было у меня и у Гриши – 75 рублей. «Черт с тобой» думал я про старика и даже предлагал отцовские часы. «Не хочет по-хорошему, – горячился Гриша. – Давайте как у нас в деревне. В рог! Сразу все поймет и за – уважает наши деньги». Все были за и даже закатили рукава. Старик хоть бы хны! «Это он Алеша, – говорил Гриша, – чувствует, что у тебя сердце голубиное. Не позволишь нам его проучить». И представь, старик улыбался, словно понимал. И показывал старый черт, растопыривая свои костлявые желтые пальцы на обеих руках, что, мол, десять и показывал пустую гильзу.
Я отказался! Мы ушли, а потом Гриша сам принес халат тебе в подарок. И сказал, чтобы я не выступал, что, мол, где он этого старика теперь найдет, чтобы вернуть халат обратно. Врал, не краснея, что якобы выменял халат на тушенку. Врал, конечно, врал. Десять человеческих жизней цена этого халата и мне было бы неприятно видеть его на тебе. Но и избавиться от такого халата будет не правильно. Как бы ни было тяжело слишком высокая цена, чтобы не считаться с ней. Как вечный огонь памяти погибшим войнам пусть станет этот халат.
И еще раз прости, что не писал. Это, то единственное о чем я вправе просить у тебя прощения. Во всем же остальном ты не можешь и не должна меня прощать. Особенно в том, что случилось той страшной ночью. Нет твоей вины в том, что случилось. Виноват я одни, причем виноват кругом. И как я теперь это понимаю. Если бы я думал не только о том, как мне хорошо с тобой я разглядел бы, увидел бы страшную правду. О! как я мог быть таким эгоистом и не отдавать себе отчет, чем тебе, возможно, приходиться платить за встречи со мной, за то, что я вкушал упоительную сладость счастья. Я получил поделом и теперь должен сделать все, чтобы ты была счастлива. Мой долг прийти к тебе, как ты однажды пришла в мою жизнь, принесла с собой счастье и как это счастье подарила мне, я впредь стану каждую минуту своей жизни дарить счастье тебе.
Я люблю тебя и знаю, что это, в самом деле любовь, а не жалость, не только выгода сердцу от радостных мгновений, не одна испепеляющая страсть, союз не ради одной только близости, потому что, превозмогая боль, могу стерпеть унижения, насмешки, разжать губы, сжимаемые, словно тисками общественным мнением и сказать любому: «Я люблю ее, люблю и мне плевать на общественное мнение». Мне все ровно, что говорят те, которые стараются очернить нашу с тобой любовь, мне главное, что мне говорит мое сердце.
С болью утраты состояния беззаботности, когда можешь забыть обо всем на свете, и мир является без горя и бед, приходит сила. Как ребенок взрослея, приобретает силу и чем, взрослее тем у него больше сил, и вот окончательно став взрослым он свою беззаботность меняет на способность самостоятельно принимать решения и строить свою жизнь. Мы выросли, возмужали на своем горе, беззаботность обменяли на настоящее чувство и, осознав какое сокровище получили взамен, не должны впредь никогда жалеть об утрате.
XII
Глаза Лизаветы были мокрыми от слез, она прочитала письмо, а последний вздох Дианы все страшней подчеркнул горечь утраты. Степановна не дышала. Ее рука как веревка перекинутая через перекладину свисала с низкой кровати и касалась пола. Глаза были открыты, и взгляд был не безжизненный и стеклянный, а светлый и чистый. Смерть для нее была надеждой на долгожданную встречу со своим Алешей, отчего лицо ее было умиротворенно, и Степановна даже казалась как будто помолодевшей.
Лизавета сложила письмо и положила его в карман халата туда, откуда его достала Степановна, и где оно хранилось многие годы. Потом Лизавета положила халат под голову умершей, подняла ее руку свисающею с кровати и накрыла простыню с головой.
Многие в палате уже уснули, оставаясь связанными, кто-то продолжал бродить, и перо, из разорванных подушек задеваемое ногой взлетало и кружилось над полом. Лизавета снова и снова у самой себя что-то спрашивала. У нее начиналась горячка. Была дрожь во всем теле, и от жара было тяжело дышать. Она ходила по палате и разговаривала громко вслух сама собой, то со спящими связанными больными, то обращалась к кому-то не зримому. И если бы кто тогда посмотрел со стороны на Лизавету, счел, что она сошла с ума.
Лизавета гладила несчастных по голове.
Вот Клеменко Жанна Павловна. Хромая несчастная женщина, у которой ничего не было своего и не проходило и ночи, чтобы с ней не случалось несчастья. И санитарки, как будто сговорившись, тыкали Клеменко в мокрую постель носом, как ту провинившуюся кошку. Бедная несчастная женщина обливалась слезами и не могла понять, за что ее наказывают. Но так было не всегда. Клеменко, судью из одного районов Ростова-на-Дону, перед тем как она попала во второе отделение, силой вывезли на зеленый остров. Били страшно. В перерывах между избиением насиловали. Выбившись из сил, уехали, бросив Клеменко на грязной поляне, без документов с проломленной головой и переломанными ногами. Наряд милиции, вызванный какой-то влюбленной парочкой, случайно наткнувшейся на Клеменко, как у нас кто-то завел, повез человека без документов в психиатрическую больницу. Когда разобрались, прошел ни один месяц. Только Клеменко все равно ничего не помнила, ходила под себя и молчала неделями. Но когда раз или два раза в месяц у нее как будто случалось прозрение, она ночью, чтобы никто не слышал и не видел, тихо плакала, укрывшись с головой одеялом, а на утро, слава богу, опять ничего не помнила, и не могла понять, за что ее наказывали санитарки.
Лиза склонилась над Людмилой Свердловой и, вспомнив е историю, горько заплакала. Со всем еще девушкой семнадцати лет Людмилу привезли в больницу с железной дороги. Люда на коленях упрашивала родителей разрешить ей оставить ребенка.
– А ты о нас подумала?! – кричал отец на Людмилу и на шеи у него раздувались вены. – О матери свой подумала?! Кому ты собралась рожать? Себе?! Нет, ты собралась рожать нам на шею. Вон сестра твоя прежде замуж вышла. А ты, ты! На улицу стыдно выйти.
Людмила рыдала и валялась в ногах у отца. Мать Людмилы за всю жизнь, не сказавшая мужу слово поперек, тихо плакала и как могла, успокаивала дочь.
– Папа, папочка, умоляла Людмила, заливаясь слезами.
– А ты о нас подумала? – одно и то же заладил отец и оставался непреклонен. Хочешь рожать?! Рожай. Но чтобы я тебя на пороге не видел. Хватит нам тебя. Нагадила, умей убрать за собой!
Едва окрепнув после аборта, Людмила пришла к старшей сестре и стала просить у той ее первенца, Анечку, погулять. Галина, старшая сестра Людмилы, как будто чувствуя неладное долго сомневалась, но сжалившись все же разрешила. Даже страшно подумать, чтобы бы было если какой-то обходчик, не обнаружил на рельсах грудного ребенка и еще совсем еще молодую девушку в полуобморочном состоянии.
А от бабушки Вали так вообще нельзя было оторвать глаз. Хотелось с бабушкой Валей разговаривать, подержаться за руку, если позволит. Она была похожа на бабушку с хворостом из знаменитой сказки Роу, «Морозка». В России много таких бабушек, которыми хочется умиляться. Заведшую такую бабушку детвора никогда не услышит в след проклятий, и никто не будет бит палкой по спине. И сами дети любят такую бабушку в платочке, маленькую, с палочкой, с теплой приветливой улыбкой если и бранящую за шалости, то по-особенному, ни как взрослые, когда может стать страшно. Все такая старушка примечает и так же как ее друзья дети любознательна. У нее была нелегкая непростая жизнь, и она на своем веку столько видела лютой злости и несправедливости, что словно получила прививку от злости и равнодушия и теперь ими никогда не заболеет. Никого никогда не обругает и не обидит, и чувствовать и переживать может как никто. Все оттого же что сама испытала не мало. И вот бабушка Валя затопила соседей. Отвалившаяся штукатурка на потолке, испорченные обои. Кто этого не знает, пусть не говорит, что он русский все ровно не поверю. Бабушка Валя жила одна. Детей бог не дал, а муж умер. Плачет перекрыть, где воду не знает. И так бедная перепугалась, что закрыла двери на все замки и спряталась на балконе в бумажный мешок. Сидит, дрожит, не дозовешься. Отчаявшиеся соседи взломали двери, перекрыли воду. Разбираться не стали. У одинокой соседки была трехкомнатная квартира. Так бабушку Валю во второе отделение в мешке и привезли. С тех пор бабушка Валя боится воды как заразы и нужно все силы второго отделения, чтобы заставить ее принять душ или ванну.
Лиза в слезах и отвязывала бабушку Валю, которую вместе со стольными больными намертво привязали кровати. А рядом на соседней койке тихо, чтобы никто не слышал, плакала Нина красивая девушка двадцати лет. Он носила с собой детскую развевающуюся игрушку, напоминающую школьную доску только без мела и тряпке которую вечно приходится бегать смачивать в туалет. Пишешь на такой доске пластмассовым карандашом, а потом поднимаешь экран и надпись или рисунок исчезает. И вот только так и могла общаться с окружающими. На вопрос, почему она здесь, когда кроме речи во всем остальном казалось абсолютно здоровой, Ниночка писала, что у нее высокое черепно-мозговое давление и необходимо очень дорогое лекарство, которое не под силу ее семье. Бесплатный рецепт на дорогое лекарства у Ниночки был, но самого лекарства отыскать в аптеках всегда было не просто. То закончилось, то не подвезли, а промедление с приемом лекарства грозила бедняжке непоправимым. И вот мать Ниночки за причитающуюся несчастной девушке по инвалидности пенсию договорилась с заведующей второго отделения, чтобы та держала Ниночку у себя, где Ниночка имела возможность вовремя получать свое законное бесплатное лекарство. Но доля Ниночки была еще несчастней и несправедливей. Даже сама Калачева подкармливала и оберегала Ниночку, когда та совсем не работала и целыми днями могла тихо сидеть на стуле в уголочке со своей доской в руках. «Ешь дурра! – приказывала Калачева и совала Ниночке пряник или печенье. – Совсем мало ешь. Скоро так и буквы забудешь!» Ниночка пугалась и начинала плакать. И тогда Калачева начинала ее успокаивать и упрашивать, хоть что-нибудь покушать. Могла, расплакалась вместе с Ниночкой, за что потом же Ниночку жестоко и поколотила. Но все равно продолжала подкармливать и оберегать, но и без покровительства Калачевой, Ниночку не смел, никто обидеть. Если вдруг по телевизору показывали свадьбу, Ниночку старались увести или отвлечь, чтобы она вдруг не увидела счастливых жениха с невестой и потом не проплакала всю ночь. Ведь еще совсем недавно Ниночка была страшной болтушкой пока не попала в автокатастрофу и не получила черепно-мозговую травму. Ниночка разбилась прямо в день свадьбы, когда ехали из загса. Никто кроме Ниночки не пострадал. Муж Андрей отделавшийся царапинами после того как узнал диагноз жены подал на развод и так ни разу к Ниночке не пришел.
И сколько их было таких Нин и Диан, куда не посмотришь искалеченная жизнь, загубленная судьба. Лиза переходила от одной кровати к другой. Она остановилась над кем-то и спросила: «Кого она обидела, что она здесь? и сама отвечала: Кого она могла обидеть! И шла дальше. «А эта, эта?» – спрашивала Лизавета и не находила ответа.
Лиза склонилась над Ниночкой. Дощечка Ниночки валялась на полу, а сама несчастная девушка была связана. Лизавета развязала Ниночку, подняла ее дощечку, положила рядом на постель, поцеловала Ниночку и пошла дальше.
Лизавета всматривалась в лица несчастных, укрывала раскрывшихся, развязывала связанных, и целовала их посиневшие от веревок руки, и с каждым разом ей было все тяжелей и невыносимей на сердце, так что в один самый страшный скорбный миг сердце не выдержало и перестало биться в груди.
Эпилог
Сколько я помню себя моя мать жила отдельно от нас. От меня и своей матери. Отца своего я не знал и всем был обязан своей бабушке, которая заменила мне родителей. Когда я собирался к матери в психиатрическую больницу, бабушка говорила о позоре и горе, который только и делала что приносила ей моя непутевая мать. Но когда я уже собрался, задержала у дверей и стала быстро собирать сумку. Брала из холодильника все, что только попадалось под руку. Ну что может быть необыкновенного в холодильнике обычной русской семьи. Помню, я вез сливочное масло, котлеты, половину отварной курицы. Мать курила, и блок сигарет я купил на месте по приезду. Строго-настрого наказав ничего не забыть передать, бабушка сунула мне в карман пятьсот рублей и по-старому русскому обычаю заставила присесть на дорожку, перекрестила и отправила с богом. Храни ее господи.
В больницу я добирался на автобусе. О своей машине я тогда и не мечтал, а ехать на такси в психиатрическую больницу представьте, постеснялся – или нет, скорее боялся, что водитель распаленный любопытством может пуститься в расспросы. Признаться честно мне было неловко, что моя мать в сумасшедшем доме. Когда двадцать, смотришь и воспринимаешь вещи совсем ни так, как скажем в двадцать семь или тридцать лет. Вроде бы на первый взгляд небольшая разница, на деле же разница огромная как между новорожденным и первоклашкой. Одно я помню точно и этим только оправдываю свою неловкость, да что кривить душой, я даже горд за себя двадцатилетнего. Спроси меня кто-нибудь в то время о том, где моя мать, я бы не стал отмалчиваться или переводить тему разговора, а сказал бы, как оно есть. И если спросивший посмеялся над моей бедой, кто бы он ни был и как бы ни был сильнее меня, да хоть Голиаф, я набросился бы на него с кулаками и отдал бы жизнь, за то, чтобы он проглотил обратно свой смех. Глупо согласен. Сейчас мне просто станет жалко неумного человека, так что брошусь его жалеть. Старею! За все приходиться платить, а за мудрость самым бесценным, временем. Но становясь мудрее, перечитывая книгу за книгой и узнавая все больше человека, ответить на вопрос, что лучше, когда в поступке больше жизни или больше мудрости, мне с каждым разом становится все трудней.
И даже теперь спустя много лет я помню, как будто это было только вчера, что чувство неловкости улавливалось в каждом моем движении. В очереди на автобус это распознала одна старушка, да что одна, они все кто там был, знали, что я еду в первый раз. Потом я и сам без труда узнавал таких людей по растерянности в глазах и неловкости в движениях. Особенно выдавали себя те, кто прежде думал, что подобное может случиться с кем угодно ну только не с их близкими или родными. И вот это самая старушка мне ласково улыбалась, и как мне показалось все, то время пока мы добирались до места, присматривала за мной. Но в чем я по-настоящему был ей признателен это в том, что она не лезла с расспросами, как это часто бывает, и именно этим мне помогла.
XII
По приезду я был поражен. Не знаю от чего, но только я полагал, что моим глазам откроются капитальные здания больницы. На самом же деле мне показалось, что я затерялся в невиданном королевстве домиков и избушек, в каком-то богом забытом мирке со своим сводом правил и законов, словно какое-то государство в государстве. Поселок, которого на современной карте ростовской области теперь уж и не найти. Автобусная остановка и магазинчик у дороги, которые там не исчезли благодаря родственникам больных, было то немногое, что напоминало в п. Ковалевка привычный мир многих людей XXI.
Я метался, как в клетке по больничному двору. Да это и было похоже на клетку, потому что куда не посмотришь, были решетки. И у меня складывалось такое впечатление, что если бы только у кого-то в достатке оказалось железа, все живое вокруг посадили бы в клетку. И в летний солнечный день мало что вокруг могло вызвать радость. Теперь же на фоне серого неба, не прекращающихся дождей и холодного ветра, от стараний которого под окнами скрипели деревья, весь больничный комплекс с однотипными кирпичными обветшавшими одноэтажными корпусами и деревянными, почерневшими за решетчатыми бараками, казался каким-то проклятым гиблым местом, царством прокаженных. Оказавшись здесь в первый раз, в испуге таращишь глаза на решетки на окнах и входишь в ступор от изможденных кривых фигурок больных, на фоне которых сытые крепкие санитарки кажутся еще крепче, еще здоровей и даже у смельчака может пробежать холодок по спине. И если бы только можно было зажмуриться и, открыв глаза оказаться отсюда как можно подальше, глаза закрылись бы сами собой, а если нет, все ровно зажмуриться и так оставаться до последнего вздоха с закрытыми глазами или лучше вовсе ослепнуть.
И грязь, грязь по колено. Если бы я знал что здесь такая грязь я бы взял для матери сапоги. Успокаивало меня только то, что помимо продуктов я вез теплые вещи. Я не знал где искать свою мать, и кого можно было бы спросить об этом, чтобы и с первого раза не ошибиться. Ходил как вслепую. Спрашивал у всех, кто только встречался мне на пути. И каждый раз надо было вспоминать, что мою мать как какую-то безродную, как собаку схватили прямо на улице, привезли к черту на рога, закрыли, позвонили, а теперь никто не знает где мне ее найти. Отстояв полчеса в очереди с несчастной всхлипывающей женщиной и молоденькой девушкой с такими синими кругами под глазами, что страшно было смотреть на нее, и я прятал глаза, чтобы не встречаться с бедняжкой взглядом, мне сказали, что у них в отделение моей матери нет. Потом обмерив меня с ног до головы, взглядом, цинично спросили:
– Она у вас алкоголичка?
Я растерялся.
– Ну почему вашу мать сюда привезли?
И я, правда, не знал, что ответить.
– Ну, пьяная она была? Не трезвой же ее сюда привезли?!
– Нет, – отвечал я.
– Ну, вот, значит пьяная. Хорошо!
«Что же хорошо!» – думал я.
– Идите во второе отделение там много таких. Может и она там.
Я не поблагодарил и хмурый как туча пошел искать второе отделение и от одной мысли, что мне снова придется отвечать на бестактные вопросы бестактных людей, делалось невыносимо. И думал, что на свете много неумных людей. А сейчас спустя время мне так и хочется договорить, что, а в жизни молодых людей их всегда не просто много, а преступно много.
Где мне искать второе отделение мне не сказали, и я как прежде шагал как в тумане. И тут случилось чудо. Мне повстречалась девушка в белом платке. Правильней будет сказать, мы наскочили друг на друга. Я вышел и за какого-то домика, каких на больничном дворе было, как грибов на поляне, а она словно поджидала меня за углом. Она словно была не в себе и в руках несла испачканную в грязь шерстяную красную кофту. И мне показалось, что из нас двоих я растерялся больше чем она. А потом и вовсе на миг потерялся и еще неизвестно кто был из нас в тот миг не в себе. Столкнувшись со мной, она меня не обозвала, не прошла стороной, а застыла, будто так как вдруг случилась что-нибудь очень важное и стала изучать меня долгим взглядом. «Сумасшедшая» – думал я и тоже смотрел на нее. Но чем дольше она на меня смотрела, ее взгляд становился ясней, и я мысленно забрал свои слова обратно. А потом она сказала, что она меня знает и так тепло по доброму улыбнулась, словно родному брату с которым наконец-то встретилась, что у меня не было ни одной причины, чтобы не верить и только оставалось дождаться, пока она ответит откуда, она меня знает.
– Вы сын Савельевой Веры Ивановны, – ответила она мне. – Я вас видела. В прошлом году вы приезжали к Вере Ивановне. Она часто мне о вас рассказывала. Я живу на соседней улице с вашей мамой. Она на вас не нахвалится!
– Как она? – спешил я узнать о самочувствии матери, прежде чем мне сделалось стыдно за то, что даже не потрудился узнать имя той, которая обо мне знала, наверное, немало, ну уж точно больше чем просто имя.
Я знал Лизавету всего лишь считанные минуты, когда имел возможность общаться с ней дни напролет. Ух, эта преступная человеческая черта, как ни какая другая из преступных черт человека присуще русской натуре – годами не придавать значения тому, что было так близко с тобой, а потом, наконец-то постигнув все его величие, носиться как угорелому и звонить в колокола, потому что стало невыносимо далеко. И верить в чудо, что оно не до конца потеряно и грянет и еще себя покажет, если его как следует искать и искренне в него верить. С каким талантливым писателем или художником не случалось так же? Но еще чаще так бывает с сердечным человеком. И для меня так и осталось загадкой, какое я произвел на Лизавету впечатление, когда я всем сердцем желал бы стать ее другом.
Она как будто и не заметила моего невежества и стала рассказывать, как привезли мою мать, как первые дни Вера Ивановна лежала под капельницей, и как звала меня, а она ее успокаивала и не отходила от нее ни на шаг. Я думал, что она здесь работает, а когда оказалось, что она здесь на таких же правах как ее соседка Вера Ивановна я не знал что и сказать. Я был раздавлен. Такой светлой и чистой она мне показалась. Она и отвела меня во второе отделение, в котором лежала сама.
Не приемных покоев не комнаты отдыха, где больные могли бы встречаться с родственниками, во втором отделение не было. Местом для свиданий служила маленькая бедная столовая с телевизором под потолком, зеленными голыми без скатертей столами и деревянными лавками вместо стульев.
С приездом из города автобуса в столовой на столах раскладывались и переписывались передачи, приезжающие справлялись о здоровье родственников, делились с родными новостями. Особенно я обратил внимание на то, что передачи в основном состояли из второго блюда, картофельного пюре с котлетой, отварной или жареной курицей и тому подобное. Это все привозилось в термосах, и съедалось, пока было горячим. Ни колбасы с сыром, ни конфет с печеньем или фруктов, всего того что можно было думать люди несут в больницу, я особо не заметил. Было конечно, но скорее это было здесь исключение. Престарелые матери и жены, каждый день, приезжали больницу, чтобы накормить своих детей и мужей. И те ели с жадностью, как голодные иза дня в день недоедающие люди. И ничего не оставляли на потом, словно боялись что у них отберут. У меня и теперь стоит перед глазами одна сцена, как мать заставляла свою дочь портить привезенные ей продукты. Несчастная, бритая наголо девушка надкусывала сыр, колбасу, яблоки конфеты и прятала продукты в кулек. И пока дочь не надкусила все до последней конфеты, мать не могла стоять спокойно и не рассказывала новостей из дома.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































