Текст книги "Лизавета Синичкина"
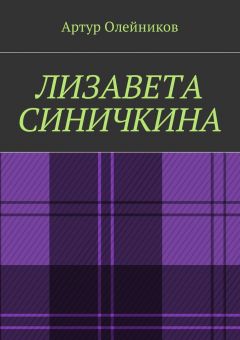
Автор книги: Артур Олейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
II
Почти весь свой гардероб Ирина Ломова носила на себе. Двое пар трико, гамаши, несколько кофт, махровый халат и немыслимое количество пар носков. Она все боялась, что ее кто-нибудь обворует и даже на ночь не расставалась со своим нелепым туалетом. По меркам больницы Ломова была богачкой. Ее чащи других навещали родственники, водился сахар и чай. Она могла похвастаться бусами, массажной расческой, кремом или губной помадой всем тем, на что падки женщины и не важно, куда их забросила судьба и что с ними случилось. И пусть по близости будут бродить одни только лешие, а в мутной воде плескаться водяные, как птица не может без неба, так и женщина, даже оказавшись на болоте, неустанно будет стараться себя разглядеть в зеленной мутной воде, чтобы поправить вдруг сбившуюся прическу и подкрасить побледневшие на ветру губки. И Ирина Ломова, напудренная, всегда с накрашенными губами в своем необыкновенном туалете и без него пышная крупная женщина была словно огромный вилок капусты. Это у нее Лизавета выпросила вещи, как тогда она думала для прогулки. У Ирины была не одна новая вещь, но она словно как, то Плюшкин, тащивший в свой дом всякую дрянь от ведра потерянного бабой на реке до ржавого кривого гвоздя, собирала по палатам или выменивала у всех подряд сущие безделицы: пуговицы рваные платки, старую одежду прохудившиеся туфли. Только стой разницей, что не складывала как Плюшкин добытое в огромную кучу, а носила на себе и давала поносить другим при всем том, что панически боялась, что ее обворуют или заберут то, что ей было так дорого, словно когда-то давно у нее что-то отняли. Так случившаяся с Ириной в далеком прошлом беда через много лет давала о себе знать. И когда Лизавета пришла к ней в палату с кофтой покойницы, старушечье по большому счету тряпье, поразила Ирину, и неважно у нее собственных таких же ни чем непримечательных старых шерстяных кофт было несколько.
Оставить себе или просто взять и выбросить кофту покойницу Лизавета не могла. Лицо несчастной старухи стояло перед глазами Лизаветы. Предложение Калачевой обменять на старушечью кофту хоть сколько-нибудь нужную вещь поначалу понравилось Лизавете притом, что она знала, что Ломова как та сорока падкая до всего яркого и сверкающего, не сможет устоять перед ярко красной кофтой покойницы. В крайнем случае, и вовсе подарить кофту, чтобы она хоть кому-нибудь принесла радость, как может, приносила покойнице. Но когда Лизавета пришла к Ирине вернуть взятые на время вещи она постыдилась менять кофту и когда Ирина сама стала выпрашивать кофту, Лизавета обрадовалась и отказывалась от какой-нибудь вещи взамен и была уже тем счастлива, что Ломова была довольна.
Ломова же не теряя времени даром, взяла и надела кофту прямо на махровый халат, чтобы не отобрали.
– Что тебе Лиза подарить взамен? Хочешь тапочки или вот платочек? Смотри какой, – и Ирина показала беленькую тряпочку видно, что кусок оторванной простыни.
– Ничего мне не надо, – ответила Лизавета. – У меня все есть.
– Что у тебя есть?! Один единственный халат! – рассмеялась Ирина.
Лизавете сделалось неловко, у нее и вправду кроме халата и тапочек ничего не было.
– Тапочки не хочешь, платочек не такой, – вздохнула Ирина. – Тебе не угодишь! Что же ты хочешь? Хочешь крем для лица?
От местной воды у Лизаветы ужасно шелушилась кожа и она поддалась. К тому же, когда было условие, что Лизавета станет давать Ирине пользоваться кремом на ночь и когда кончится крем, вернет из-под него красивую баночку в виде перламутровой большой жемчужины.
Лизавета согласилась, весело улыбаясь от необыкновенных условий, и растроганная счастливая Ирина взяла Лизавету за руку и в благодарность обещала дать Лизавете поиграть со своим сыночком Коленькой.
– Ноготки у моего Коленьки, – сказала Ирина, – такие маленькие с булавочную головку. Ручки с ножками пухленькие как у ангелочка. Он сейчас с папой с Рафиком на каникулах, да они на море поехали. – А когда мой Коленька улыбается у него ямочки на обеих щечках. Вот так! – и Ирина счастливая улыбнулась.
– Умер твой Коленька дура несчастная! – злобно раздалось с соседней койки.
– Не умер, не умер! – и Ирина закрыла лицо пухлыми руками.
– Умер, умер, – снова, словно камни полетели страшные слова с соседней койки. – Тебя поэтому сюда и привезли. Потому что сума сошла.
– Не слушай ее, не слушай, – бросилась Лизавета успокаивать Ирину. – Она на вязках с самого утра, поэтому и злится на весь свет.
Обидчица Ломовой молодая еще женщина на вид не старше тридцати лет с черной косой, словно змеей за спиной затряслась от злости. Она была за руки и ноги привязана веревками к железной кровати. Всеми силами она пыталась освободиться, но крепкие узлы, ни за что не хотели подчиняться. Усилия не только были напрасны, но и причиняли страшную боль. Веревка врезалась в тонкое женское запястье, раздирала нежную кожу и словно лезвие ножа резала запястье в кровь.
Ломова рыдала на взрыв и чтобы хоть как-то ее успокоить Лизавета решила вернуть ей крем. Не знаю от чего Лизавета взяла, что возращение крема поможет, но так и случилась. Как только крем оказался опять в руках Ирины в тоже мгновенье как по взмаху волшебной палочки слезы прошли. От истерики не осталось и следа, словно и впрямь причина расстройства Ирины были в креме, а не в страшных словах связанной.
Ломова спрятала крем, подошла к связанной соседке и со всего маху свой тяжелой рукой ударила ее в живот. Все произошло так быстро и неожиданно, что Лизавета растерялась. Она еще ни как не могла привыкнуть, что настроение ее новых подруг могло меняться сто раз, на день, принимая причудливые, а порою просто страшные формы.
Огрев связанную Ломова, как ни в чем не бывало, отправилась гулять по палате в дырявой и старой красной кофте покойницы одетой поверх желтого махрово халата.
И может все так и прошло бы, забылось и не вылилось спустя несколько чесов в страшное происшествие, есле случившиеся сцена не привлекла к себе внимание, особенно сильно одной необыкновенной больной другие поглазели и разошлись, а эта осталась и не спускала глаз с Лизаветы. На вид она была уже совсем старуха из той категории больных, которых все знают и помнят так давно, что у всех складывается такое впечатление, что такие больные в больнице со дня ее открытия. И поэтому подробностей из биографии таких больных за исключением тех моментов, когда они уже жили в больнице никому доподлинно неизвестно. Порою, сами такие больные перестают помнить о своей жизни не в стенах больницы. Столько они в ней находятся, что об окружающих и говорить нечего. Слухи, догадки да обрывочные неясные рассказы самих таких больных вот и все на что можно рассчитывать. Диана Степановна с ее слов была толи круглой сиротой, толи бездетной вдовой сам черт не разберет. Уже много лет ее никто не звал по имени, как будто и не было у нее имени, а может просто потому, так ее звали очень давно в другом времени, когда она была молодой и любимой, когда может быть любила сама и еще надеялась, что сможет вырваться из стен больницы. Сейчас она казалась жутко старой, когда поговаривали, что ей не больше пятидесяти лет. Никого не осталось на свете, кто бы ее любил. Она перестала надеться и знала, что умрет на больничной койке и теперь все звали ее просто Степановна. Даже персонал больницы уже не помнил ее не имени не фамилии и тоже обращался по отчеству. Таких больных как Степановна уже давно никто не лечит, но они исправно по документам получают лекарства. И не всегда потому, что это кому-то выгодно, а потому что на правах здорового человека они не смогли бы оставаться в подобных учреждениях, когда возвращаться таким больным зачастую просто некуда. И умри они сегодня или завтра это уже давно перестало кого-нибудь волновать и заботить. Такие больные стары не погодам. Больничные стены, словно какой-то паук, похищая у таких больных свободу, выпивают из них все жизненные соки, еще задолго до того как они смогли бы растратить их сами. И Степановна была словно высушенный на солнце плод, с лицом на вид как безжалостно измятый лист старой пожелтевшей бумаги, и с какими-то словно омертвевшими глазами без блеска, без искры как у ослепшего от слез и горя человека. На седой голове она носила какую-то необыкновенную прядь волос черных как смола. И, несомненно, в молодости Степановна была очень красивой. Она и сейчас казалась очень гибкой, ходила ровно, но это необыкновенная прядь волос словно служила напоминанием о так скоро увядшей, словно похищенной красоте. И сколько все помнили Степановну, она всегда была с пакетом в руках. Ходили слухи, что в пакете у Степановны дорогой шелковый халат, который она ни разу так даже и не надела. Откуда у бедной больной долгие годы не покидавшей больнице такое богатство никто уже не помнил, только не представляли Степановну без ее пакета, с которым она не расставалась ни днем, ни ночью. Если пакет приходил в негодность, Степановна тайком от всех перекладывала свое сокровище в новый пакет. Поговаривали, что от бережного отношения халат был настолько новый и нетронутый временем, что якобы на нем спустя многие годы сохранилась даже этикетка. Из этого всего несложно было понять, насколько Степановне был дорог этот халат и то, на что она тогда решилась, посей день, не укладывается у многих в голове.
Случай – союзник судьбы. Пожалуй, не найдется на свете таких превращений, которые были не под силу случаю или вообще могли бы иметь шансы разрешиться без его прямого участия. Обыкновенный случай делает из нищего принца, намертво связывает никогда прежде незнакомых людей, объединяет и разбивает сердца. И наконец, обыкновенный случай, сущий пустяк порою просто-напросто полнейший вздор может послужить причиной непоправимых вещей, на абсолютно ровном месте посеять семя чудовищной трагедии и собрать страшный урожай.
И все время пока происходил необыкновенный обмен, и потом во время ссоры Степановна находилась в палате и следила за Лизаветой. Степановна много слышала о доброте и отзывчивости Лизаветы и, скорее всего от того, что та осталась ни с чем, а после выходки Свердловой была растеряна и где-то даже испугана, Степановна сама обижена жизнью, не ушла. Другого подходящего ответа, чтобы объяснить поступок Степановны я до сих пор не вижу. И вот когда все ушли, Степановна подошла к Лизавете и огорошила.
– Какой скверный халат! – очень серьезно сказала Степановна с выговором в голосе. И наверно чтобы окончательно убедиться в правоте своих слов и мыслей стала на ощупь пробовать халат на Лизавете. – Как я и говорила, так и есть. Халат скверный!
Лизавете снова было неловко из-за своего наряда. Ее халат не шел ни в какое сравнение с халатом, который был на Степановне, а у нее он был яркий из ворсалана мягкий на ощупь словно бархат. На зеленом фоне красовались маки, словно в траве на лугу. Не говоря уже про халат в пакете, про изящество и красоту которого ходили легенды. Да пожалуй, куда менее богаче халат по сравнению с тем, что был на Степановне, выигрывал на фоне халата Лизаветы. Самый обыкновенный ситцевый в синий цветочек халат, зашитый в нескольких местах, был скромным богатством Лизаветы.
– И то, что без карманов, то же некуда не годиться! – продолжала водить в краску Степановна бедную Лизавету, как прежде пробуя на ощупь ситец. Не знаю, насколько до этого волновало Лизавету ее скромный незавидный туалет, но сейчас ей вдруг захотелось иметь прекрасный халат и чтобы на нем были эти чертовы карманы и зеркальце, и крем и все что только надо. Ей вдруг захотелось быть красивой. И разве можно винить женщину в том, что ей хочется быть красивой?! Носить изящные вещи, пленить, восхищать, купаться во взорах. А когда ей только двадцать пять, когда она одной ногой в том возрасте, когда чудачества и капризы уже вроде бы не к лицу, а другой еще крепко вязнет в головокружительном беззаботном времени юности. Ах, эти двадцать пять лет, какие прямые, какие повороты, и не знаешь на какой остановке сойти, на что пересесть, чтобы все сложилось в жизни удачно. Разве можно винить женщину, что ей вдруг захочется красоты даже если она в таком месте, где самой смерти не под силу заставить остановиться и оглянуться, так же как не под силу бою кремлевских курантов остановить и оглянуться посреди улицы коренного москвича. И еще эти карманы, будь они неладны. Раз нет у человека карманов, значит, и нет у него ничего, а раз нет у него ничего, никому до такого человека нет дела. И что самое обидное так было во все времена и не только в психиатрической больнице. И если бы только было возможно, извлечь на белый свет все содержимое карманов больных второго отделения, изумления очевидцев этой картины было бы настолько невероятным, что скажем, к примеру, изумление людей первыми по пришествие нескольких тысяч лет переступивших порог гробницы Тутанхамона не стоило бы и брать в расчет. Как то, например, когда человек попробовав сто раз мед, в сто первый раз находит его слаще, чем обычно. Подумаешь открытие! Тут же и кусочки недоеденного за обедом хлеба, целые и надкусанные конфеты, печенье, орехи и жареные подсолнечные семечки, что так приятно щелкать и сыпать шелуху куда-нибудь в уголок. Пирожок, а у кого-то оладушек с завтрака и пол блина с вчерашнего обеда. Ах, Россия – хлебобулочная твоя душа. После того чем можно было украдкой подкрепиться шли незаменимые в хозяйстве вещи: нитки с иголками, ножницы и ножнички, расчески массажные и карманные металлические и пластмассовые, а у кого-то даже костяная столетней давности, досталась от бабушки. И чем не сокровище и экспонат для музея. Другими словами ателье с парикмахерской и бистро в одном кармане. Сигареты и спички мне вообще кажется, в их карманах прописались навечно. Ну, позвольте спички?! Да именно спички! Спички и еще раз спички. Сотни спичечных коробков полных спичек. Сумасшедший дом и спички! Если бы я собственными глазами не видел в руках больных спички, то ни за что никогда не поверил. Это из той же области, что сумасшедший дом и абсолютно здоровый человек. Вроде бы так не может быть, а главное не должно быть, а есть же, есть как спички. И сколько бы санитарки не вытряхивали карманы больных карманы оставались пустыми лишь только на миг, после чего тяжелели и тяжелели, пока их содержимое не начинало лезть наружу. И подводя итог можно с полной уверенностью сказать, если ребенок, чтобы ему не давали, тянет в рот, больные в больнице все до поры до времени прятали в свои безмерные карманы.
– Вот возьми и не смей возвращать! – твердо сказала Степановна и прямо всучила свое сокровище Лизавете. Это так было настолько неожиданным и невероятным шагом со стороны Степановны, что даже привязанная прежде корчившаяся от боли напрочь забыла о своих муках, замерла, уставившись дикими глазами на Степановну. Не говоря уже о Лизавете, которая от неожиданности вместо того, чтобы произнести хоть слово, наконец, поблагодарить за столь щедрый подарок, так растерялась, что на время словно потеряла дар речи. Лизавета знала историю Степановны про то, что этот самый халат, с которым та так легко рассталась, она прежде носила всегда с собой и берегла как реликвию. И поэтому, опомнившись, уверяла себя, что не пройдет и минуты и у нее, обратно попросят пакет с халатом, но минута прошла, а вслед за ней еще одна и еще, а, халат у Лизаветы так и не попросили. Степановна вообще, как ни в чем не бывало, ушла из палаты. Лизавета сначала даже подумывала отправиться на поиски столь щедрой и безрассудной дарительницы, чтобы переубедить и вернуть подарок обратно, но потом решила, что это можно будет сделать, когда угодно.
«Ну что станет с того если я примерю халат? Не украла же я его, наконец!» Так думала Лизавета, и кто бы осмелился ее осудить? Не исключено, что всякая девушка и женщина поступил бы на ее месте также.
III
День подошел концу и наступил вечер. Более волнительного события больница еще не помнила после ужина был запланирован долгожданный праздник.
Калачева любила танцы. Любила, как она говорила, когда дураки танцуют. Калачева могла часами наблюдать, как какая-нибудь несчастная раскачивается не в такт музыки или подолгу марширует на одном месте. Калачева сама отбирала репертуар, объявляла белый танец, решая кто будет кавалером или дамой. Как-то даже разучила с больными польку, а в другой раз обрядила двадцать человек в простыни и заставляла танцевать сиртаки, изображая древних греков. Танцы были страстью Калачевой. И как бы это не покажется странным и смешным, полуграмотная санитарка, руководством больницы была негласно пожизненно наречена и концертмейстером и главным дирижером, другими словами спасительницей душ. И если бы только не возраст, а Калачевой уже собирались справлять сорокалетний юбилей, руководство больницы непременно отправило бы санитарку учиться в медицинское училище, а потом и в институт. «Ах, какая с вас вышла бы профессорша» – вздыхала заведующая отделеньем, и большей награды для Калачевой было и не нужно. Многие так Калачеву и звали, профессорша. Заведующая всячески поддерживал Калачеву в ее начинаньях, находя в музыке, и в частности в танцах сильнейшую и благотворную терапию для растревоженных душ пациентов. Танцы во втором отделение всегда проходили шумно и весело, и воскресенье когда не было врачей, непременно заканчивались игрою в султаншу. Больные в конце коридора укладывали две, а то и три дюжины матрасов устраивая что-то вроде гигантского топчана, и звали свою «повелительницу». Калачева ложилась на матрасы и повелевала совершать ей массаж ступней и петь песни. Все должны были обращаться к Калачевой не иначе как «моя госпожа» и «повелительница». Сестры Егоровы играли роль верных стражников, которые по сигналу своей «повелительницы» крутили каждого, на кого она указывала пальцем. И те должны были стоя на коленях вымаливать прощенье подношением даров в виде конфет и печенья. Специально обученные больные исполняли для Калачевой танец живота, в то время как другие махали над ней вениками, как опахалом. Апогеем же самодурства Калачевой стал бал с разученным вальсом и ряжеными участниками из числа несчастных больных, который и был назначен на сегодняшний вечер.
И небольшой зал столовой не мог вместить всех желающих, и основная часть больных толпилась в коридоре. С разрешения главного врача столовую украсили комнатными цветами в горшках, бумажными флажками и фонариками как на детском утреннике. Уже никто не помнит от кого поступило предложение расставить по углам три имеющиеся в отделении искусственные елки и хоть до нового года оставалось три недели, на елках загорелись елочные гирлянды. В разных концах зала на двух столах стояли минералка в бутылках, пластмассовые одноразовые стаканчики, тарелочки с нарезанной колбасой и сыром и вазочки с конфетами и печеньем. Подходить к столам, было запрещено, как детям к дорогой мягкой мебели служащей красой и гордостью хозяев. Чтобы ненароком ничего не попортили, смотреть за столиками с закуской поручили сестрам Егоровым, которые разделившись, заняли круговую оборону каждая у своего столика. Наряды для участников собирали всей больницей, кто-то принес старый костюм мужа, кто-то платье со школьного выпускного бала и тому подобное, а одна санитарка так даже пожаловала рыжий парик. Женской одежды принесли больше и, как и в жизни кавалеров вышло меньше чем дам. Но Калачева пообещала, что у всех кто разучивал вальс, будет возможность протанцевать. А пока оставшиеся дамы без пары должны были сидеть на расставленных по залу стульях вздыхать и обмахиваться картонными веерами. И вот грянул долгожданный вальс. Первыми кружиться в танце принадлежала воспитанникам Калачевой. Несчастные месяц разучивающие «па» должны были по замыслу Калачевой заразить публику, так сказать послужить наглядным примером, как собственно надлежит танцевать этот самый вальс прославленный Штраусом, любимый танец королей. И чтобы все тут же научились вальсу, даже такие кто прежде и слова такого не знал, не говоря уже о движениях. В своем таланте гениального учителя Калачева не сомневалась и уже заранее представляла, как она будет принимать поздравления, и как главный врач будет жать руку и поздравлять премией. И кто бы мог подумать, что долгожданному звездному часу Калачевой не суждено было сбыться, что через какую-то минуту бал Калачевой должен был отправиться в тартарары. А как замечательно все начиналось, не предвещая ни то чтобы бури даже ветерка.
Подарив Лизавете, халат Степановна поначалу казалась очень довольной. Потом она ходила из палаты в палату и все на каждом шагу, словно сговорившись, спрашивали ее о халате, с которым как всем было известно, Степановна прежде не расставалась не на минуту. А тут вот запросто, как ни в чем не бывало, расхаживала без своего вечного спутника. Первое время Степановна как будто ничего не замечала, не придавая значения расспросам, но известно же, что если постоянно твердить человеку, что он болен, он, будучи абсолютно здоровым сначала просто начнет сомневаться в своем самочувствии, потом вдруг с ничего заболеет и умрет без видимых причин. Вот так и с нашей Степановной после того как ее в сотый раз спросили о том, где ее пакет с легендарным халатом, она сама не на шутку задалась этим вопросом. Никто не представлял себе Степановну без пакета в руках и, заметив резкую перемену, все как то сразу заволновались. Так бывает, живет себе на свете человек и некому нет дела до него, а потом возьми и случись с ним что-нибудь скверное, серьезная простуда или того хуже возьмет и умрет человек и все сразу всполошатся. Почему умер? И самое главное, почему этот бесстыжий человек набрался наглости умереть и заранее об этом никого не предупредил, так сказать не подготовил? А таких кто бы всерьез взялся бы за саму причину беды, во все времена днем с огнем не сыщешь, не говоря уже о таких кто бы предотвратил трагедию. Зато доброжелателей, таких, что медом не корми только дай подлить масла в огонь, всегда было просто преступно много, чтобы им было место пусто. И тогда со Степановной оказалось таких людишек несколько человек. Все они искали пропажу Степановны и все никак не могли найти. «Ну как же так Степановна?» – спрашивали злосчастные помощники. Степановна в ответ только разводила руками, и на сердце у Степановны с каждым разом становилось все тяжелее. Степановну водили из палаты в палату, называли растяпой и ее и без того измученное от долгих лет пребывания в стенах больнице старое искалеченное сердце казалось вот-вот не выдержит и перестанет биться от такой заботы. В одной из палат все кто был в состоянии, отправились в столовую на праздник за исключением двоих. То были одна лежачая старуха такая древняя, что от нее нельзя было добиться собственного имени и та самая связанная, что еще совсем недавно, словно камнями бросалась страшными словами и стала единственной свидетельницей необыкновенного подарка Степановны Лизавете. Связанная если вы еще не забыли, не была ни старой не мерзкой как какая-нибудь ведьма, но все окружающие страдали от ее вероломств. Как змея прыскает ядовитой слюной и отравляет жизнь, она отравляла жизни всем без исключения. И если бы опять не вмешался бы проклятый случай, вновь приведя Степановну в палату, где долгие часы томилась эта бестия, связанная, скорее всего так бы и осталась для читателя просто жестокосердной связанной. Но видно, что интриганка судьба в этот день была на стороне связанной, и автору хочет он этого или нет, придется подчиниться и рассказать о ее подлой и несчастной персоне. Связанную звали Антонина Анатольевна Петренко. Пожалуй, она была из той редкой категории пациентов, которых не переносят на дух ни медперсонал больницы, ни один ее несчастный больной. Петренко для всех была, словно кость в горле и видеть ее связанной было для всей больнице безопасней, чем, если она свободно разгуливала по палатам, поэтому единственное спасенье от ее козней давно уже стала веревка. Петренко связывали там, где только ловили, и уже давно никто толком не помнил, где же была ее на самом деле родная палата. С утра Петренко можно было застать связанной во второй палате, в обед пятой, а на ночь в шестой, а однажды ее просто привязали к батарее в туалете, потому что не представляли никакой возможности без вреда для здоровья санитарок отвести брыкающуюся и кусающуюся Петренко в палату. Но надо отдать Петренко должное в мастерстве и находчивости по избавлению от пут она наверно перещеголяла бы самого Гудини. Порою доходило до полного абсурда. Как то одно продолжительное время Петренко, будучи связанной у каждой проходившей мимо нее больной просила пить. Сами понимаете редко, кто оставался безучастным. Привязанный к кровати человек, изнывающий от жажды, такой картиной можно было у самого толстокорого вызвать жалость и сострадание. И вот Петренко пила стакан за стаканом пока под ней насквозь не промокал матрас. После чего Петренко звала санитарку и ненадолго получала долгожданную свободу. Проучили Петренко жестоко. Проследив за Петренко и разгадав ее хитрость, не развязывали промокшую Петренко двое суток. С тех пор Петренко больше не портила казенного белья, но все равно не прекращала выдумывать хитроумные способы своего освобождения. Освобождалась сама, но чаще с помощью и доверчивости других. И бед, поэтому от нее не становилось меньше. Даже добрейшей души человек бабушка Валя могла развязать полпалаты, а с ней самых непокорных больничных бунтарок, а Петренко так оставить связанной. Это сами должны понимать был приговор. И все от того, что Петренко все время, будучи не связанной, посвящала таким гадостям, которые порой просто не укладывались в голове. Найдя у кого-нибудь под подушкой печенье или конфеты, Петренко, ладно бы просто съела, ну с кем не бывает, проголодалась бедняжка на казенных то харчах, но нет. Петренко ломала печенье и разбрасывала крошки по постели. Если находила шоколадные конфеты, вымазывала в них одеяло и простынь, если оказывалась карамель, рассасывала конфету и заплевывала липкой сладкой слюной и постель, и полы всю палату. Могла пред самым обедом пробраться в столовую и в расставленные тарелки с первым блюдом высыпать всю соль из солонок. То ведро полное с водой перевернет, то поломает без присмотра оставленные сигареты и все в таком же роде. Описать все вероломства Петренко, не хватит ни какой книги, а главное нерв. Не было на свете никого кто бы забрал Антонину из больницы. Осознание того, что ей придется большую часть оставшейся жизни провести привязанной к больничной койке, рождало в сердце Антонины страшную ненависть, которая со временем выросла до таких размеров, когда ей уже стало мало просто изводить свою хозяйку, и ненависть принялась за окружающих. И теперь Петренко ненавидела всех и каждого и приобрела страшную способность чувствовать своим ожесточившимся на весь белый свет сердцем, такое стечение обстоятельств, когда подлость, свершившись, не знала бы границ. Когда выгоды от подлости с наперсток, но от удовольствия от причиненной человеку неприятности могло бы утонуть в сладкой истоме отравленное несчастьями сердце.
Петренко даже не нужно было о чем-либо спрашивать, она сама вызвалась помочь. Петренко с ходу объявила, что знает, у кого искать халат Степановны и взамен за сведения потребовала себя освободить.
Пришедшие со Степановной колебались, зная не понаслышке о подлой персоне Петренко. «Ведьмы» – злобно думала Петренко скрепя зубами стараясь сдерживаться, чтобы не обругать и таким образом не спугнуть своих потенциальных спасительниц. Петренко крепилась, крепилась и не выдержала. Она ругалась, плевалась и требовала, чтобы ее освободили пока не поздно. На то, что время не терпит, она делала особый упор, обещая, в том случае если ее немедленно не освободят, не видать им халата Степановны как собственных ушей или что-то в таком духе. И Петренко освободили на свою голову. Первым делом освободившись, Петренко съездила по шее одной старушке из числа больше всех сомневающихся выручать ее или нет. И схватив Степановну за руку, повела ее в столовую. «Ну, сейчас повеселимся!» – кричала Петренко, и все бежали за ней вдогонку в предвкушении громкой развязке. То, что скандал уже обеспечен и то как оно говорится, полетят головы с плеч, никто уже не сомневался. Так уж было заведено у Петренко.
В столовой раздавались аплодисменты, как когда актеров, блестяще отыгравших спектакль, не отпускает зрительный зал, кричит браво и снова и снова вызывает на бис, только в нашем случае актеры, только готовились удивлять. По столь грандиозному событию больничный халат Калачева сменила на черную юбку и широкую ярко алую блузу. Калачева стояла возле не хитрой больничной аппаратуры и ждала сигнала главного врача. Аплодисменты не смолкали, накал публики уже начинал зашкаливать и от греха подальше заведующая кивком головы разрешил начинать. Калачева включила музыку. По странному роковому совпадению выбор Калачевой пал на вальс из оперы «Война и мир» Прокофьева. Волнующая музыка, наполняющая сердце тяжелыми чувствами, словно в преддверье роковых событий напророчила недоброе с первого мгновенья как раздалась. Уже потом поговаривали, что даже пройти вальсу гладко, все равно музыка сделало бы свое дело, и волнений в публике было не избежать. Уж больно хорош был Прокофьев разжигать сердца и волновать умы своим гением. Не говоря уже о нарядах и самих участниках. Все играло против и без того шаткого и хрупкого душевного равновесия публики. Пары до срока скрывавшиеся на кухне стали представать перед зрителем через выдачу. И хлеб, и зрелище казались тогда, слились воедино. Женщины по замыслу Калачевой, чтобы больше походить на кавалеров были отобраны из числа больных бритых наголо. Слава богу, специально брить наголо никого не пришлось, как известно в любой психиатрической больнице солдатских причесок всегда хватает. На всех участниц изображавших кавалеров костюмов не нашлось. Полный комплект был лишь у двух из шести. У четырех же оставшихся без костюмов были только у кого штаны у кого пиджак, а один «кавалер» так вообще был в рубашке из юбки. Что же до их спутниц тут был настоящий карнавал фасонов и красок. Отыскалось пусть хоть и старое, поблекшее и застиранное, но в прошлом дорогое и шикарное черное вечернее платье. Был алый атласный сарафан, расклешенные юбки, блузы и даже чье-то свадебное платье. О последней незапланированной участнице надо сказать отдельно. Это была сама Лизавета. Лизавета совсем и не думала оказаться в числе участниц. Они задолго были отобраны Калачевой, и в течение месяца разучивали вальс и за старанье получали за обедом добавки. Их не поколачивали и даже на время подготовки отменили прием лекарств, чтобы они не двигались как сонные тетери как в обычные дни на протяжении многих лет, а ожили и заимели блеск в глазах. Другими словами, чтобы стали походить на людей якобы только что приехавших в больницу на бал, а не на больных, пробывших в больнице долгие годы. Теперь сами понимаете, чтобы оказаться среди участниц за минуту до начала бала, это только как говориться или смерть или извержение вулкана. Ни первого, ни второго, слава богу, не стряслось, а случилось следующее. Увидев Лизавету в шелковом невесомом, словно перышко светло-голубом халате Степановны с желтыми сверкающими, словно золото пуговицами и с такой же золотой оборкой из нежнейшего бархата, Калачева обомлела. Казалось что ни ткань, а само небо, пронизанное солнечными лучами, было словно накинута на плечи Лизаветы. Лизавета не стала скрывать и сказала, чья на ней вещь, что еще больше обезоружило Калачеву. Конечно же, Калачева не могла не слышать про халат Степановны, но кто мог себе представить, что такую красоту носила у всех под носом состарившаяся одинокая больная. Вот и Калачева не могла, а когда узнала, чуть не позеленела от злости и тут же захотела стянуть с Лизаветы небесного цвета и красоты одежду. Но, не сладив со своим тщеславием, Калачева решила включить Лизавету в необыкновенном халате в свой вальс, чтобы все ахнули, а потом уже присвоить себе столь изящную и непозволительную вещь для больной. А тут еще Лизавета на свою беду довольно сносно танцевала вальс. Проклятый случай с того момента как отправил Лизавету на прогулку с покойницей, заключил ее в свои липкие объятья и уже ни за что не хотел отпускать, строил козни, подстраивал совпадения, уверенно и верно подводил к самому краю пропасти разверзнутой интриганкой судьбой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































