Текст книги "Лизавета Синичкина"
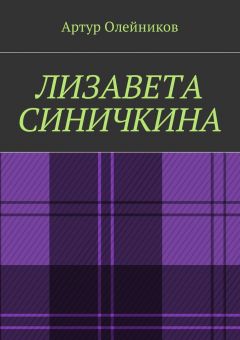
Автор книги: Артур Олейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
VII
О, какие это были полные жизни и побед выступленья. На трибуну поднимался очередной десятый по счету докладчик и начинал поливать.
– Товарищи, – кричали с трибуны, более преданные делу, начинали со слов соратники. Немало сделано, для светлого будущего, для коммунизма. Но нельзя останавливаться, ни на минуту нельзя слаживать руки. Наши недруги только и ждут передышки. Скажем мировому капитализму: не дождетесь. Еще сильней наляжем на работу, станем у станков сядем по машинам, выйдем, товарищи в поле и ударим. Покажем сомневающемуся в нашей селе загнивающему Западу, что заветы Ленина, трудиться, трудиться и еще раз трудиться не просто живы, а в сотню в тысячу раз преумножены непобедимым Советским Народом.
Много раз потом Муста вспоминал подобные речи и спрашивал где вы с вашими громкими словами, когда несчастный Горячий умирал на глазах.
Муста никогда не мог забыть тот день и час, когда вдруг объявили, что Советского Союза больше нет. Муста не знал большого отчаянья, но нет, не за Советский Союз переживал Муста, за лучших преданных его детей, таких как вот Горячий и многих других которых не могло, чтобы не быть. Самое страшное, что Муста понимал, что их меньшинство, и они умрут, исчезнут вместе c Советским Союзом.
Горячий когда, узнал, что Советского Союза не стало, зарыдал на взрыв, но это было смех и радость по сравнению с тем, что случилось потом, когда Горячий выбежал на улицу. Постаревший он бежал по улице и вглядывался в лица, что же люди как они. А люди как не в чем не бывало, шли, кто на работу кто в магазин так словно и нечего не случилось. Говорят, что на весь миллионный Ростов стояла кучка пенсионеров и скандировала: «Фашист не пройдет», а мимо как не в чем не бывало, прохаживался остальной миллион. В райкоме Горячему сказали, что поступила предложения распуститься, и было подрежено единогласно. Словно несчастье и беда, что Советского Союза не стало, была только беда и несчастье Горячего. Горячий стал угасать на глазах и плакал на груди у Мусты. Приходил в какое-то помутнение хихикал и, умываясь слезами, только говорил об одном.
– Вот они говорят, мы не допустили гражданской войны. Ведь врут, врут сволочи! Ну, вот ты сам, подумай какая к черту гражданская война! Кто бы ее спрашивается, делала бы?! Я видел их лица, глаза прохожих на улицах. Они эти глаза отражения настроения всего народа. С кем они воевали бы за что? Ведь что у них в действительности было, да не чего у них не было! А судьба то хе-хе, судьба то вон как повернула. Все то же самое что и в семнадцатом и броневик, и трусы временное правительство. Ты видел как у них руки тряслись хе-хе. И что они могли быть организаторами гражданской войны?! Брехня, ведь брехня ведь сами видели, что не могли. А эти наши военные – рабоче-крестьянское быдло и смогли что несчастных юношей подавить. Жахнуть из пушки и то не смогли! Нет, я не за кровь не надо крови, сколько уж ей литься, но зачем же говорить и ставить в заслуги, что не допустили гражданской войны. Вон она хе-хе, судьба и броневик и трусов и лжецов на место вернуло, а казачков то нет! А военные наши если, поправ-де сказать кто, ведь вправду рабоче-крестьянское быдло не было у них ни когда ничего, что бы это отстаивать и за что костями ложиться как было у русского офицера в гражданскую войну. Кто тогда офицер – дворянин с землей и домами и кто он сейчас, да никто один мираж. Так за что же ему погибать? Вот и не пальнули из пушек, а только так для праформы наехали. А знаешь что самое страшное, что все одного понять не могут, что если вот самой первой минуты с самого первого шага стали лгать, значит, ложь только укрепится. Не могло и не может быть в России теперь гражданской войны, будем вот как собаки подыхать по одному. Война вон на Кавказе, потому что там у них сражаться в крови и деньги и родимая матушка земля. А что у нас не денег не земли не огня в жилах, потому что за тысячу лет весь огонь вытравили ложью. Царь лгал, большевики лгали и теперь демократы лгут, ни чего русский человек кроме лжи не знает. Обидно, дыхание перехватывает как больно. Когда же сволочи лгать перестанут?!
Горячий скоро умер, в жару и в предках бессвязно крича что-то про ложь и шля лжецам проклятья. На похоронах только и были что Муста и Юсуман с выросшей Фатимой. Своих детей Бог Горячему так и не послал, может, потому что обманывался и всю жизнь проверил в призраков. Не знаю не нам об это судить. Муста уже на половину седой начавший стариться стоял у могилы, и ему словно что-то шептало, что начинается самое большое и главное испытание его жизни. И когда к нему приехал незнакомый участковый и рассказал про Галю, он только в этом укрепился.
Сначала Рафик просто хотел позвонить, а потом что-то сорвало его и понесло, словно была последняя возможность в жизни увидеть родной край, заехать домой, пусть и не заходить, но хотя бы мельком взглянуть на родные стены, повезет увидеть старуху мать. За двадцать лет Рафик, как и Галя, дома не был ни разу. Рафик не был сентиментальным, и впечатления от встречи с родным домом были не самые светлые, но как бы там ни было, хотелось взглянуть, ведь не родился он тем, чем стал. Как-то с годами Рафика все больше одолевала грусть, которую он заглушал злостью и жестокостью по отношению к ближним. С каждой минутой, приближающей его в родной край, Рафик заметно нервничал и от этого злился сильней. Можно было подумать, что в нем жило два человека: несчастный юноша Рафик, олицетворяющий рождение, что человек приходит в этот мир чистым и непорочным, и то, что с человеком стало, что он сам над собой проделал, и общество сделало с ним. Рафик грустил, что жизнь вышла гадкой и жалкой, а Бек, которому нужно было все больше и больше страданий окружающих, чтобы заглушить хныканья Рафика, очернить, растоптать и навсегда вырвать из сердца. Жило что-то подобное и в Зарифе, да и в каждом из нас бьется и разливается, потому что каждый, как бы он ни хотел являться отражением общества, в котором вырос, или среды, которая его питала. Кому-то везет с учителями, другому с мудрым отцом, но чего бы мы ни достигали, как бы не возвышалось и как бы не падало то великое чистое, что было в сердце каждого заложено Богом, если и можно очернить, пусть расплескать, да все, что угодно, но нельзя, чтобы совсем изничтожить, чтобы не осталось и следа. Как капли вина в сосуде, опустошенном до дна, могут жить и источать аромат или просто навечно остаться в виде рисунка на стенках, так и дар Бога теплится в сердце каждого и не умирает до конца. И кажущееся немыслимым возможно, когда пусть даже из забытого невзрачного рисунка родится картина света, великое воскресенье. Про это, собственно, и романы и человеческая жизнь, которую дарит Бог, чтобы увидеть, чтобы возрадоваться, что его творенье как бы низко ни пало, вдруг содрогнется и через великое очищение, покаяние обратится к свету. И тогда не будет радость Божья иметь границ, как не будет иметь границ награда тому, кто найдет в себе силы после самого низкого падения, когда вроде бы ничего светлого в сердце не осталось, воскресит в себе все то, что Бог вложил в сердце при рождении нашим.
Может, лучше других это понимал Муста и еще сильней задумался об этом, когда узнал, где и с кем пропадал его младший брат Зариф.
Новые знакомые Зарифа появились в Зернограде, словно из-под земли или, уместней будет сказать, что они пришли из непросветной мглы хаоса, лжи и предательства. Как демоны, приходя к человеку, соблазняют и затуманивают рассудок, эти люди сеяли заблуждения и вводили в искушение слабые умы и раненые сердца. Может, скорее, они и сами не понимали, что творят, и были обмануты, потому что слишком уж страшны были их преступления против людей, живущих с ними под одним небом, дышавших с ними одним воздухом.
Волк ради удовольствия зарежет отару овец, когда утолить голод ему хватило бы одной жертвы, и только человек с помощью своего страшного гения может заставить «сбеситься овцу и сожрать и отару и волка, а потом и расправиться над собой».
Они говорили по-русски и еще на многих языках, владели словом, легко манипулировали и тасовали факты, все одно, как игральные карты. Прислужники зла, вербовщики смерти. Двое мужчин и одна женщина, всегда одетые в черное, такое же, как их сердца.
Они не называли имен и просили обращаться к ним просто «друзья» или «братья по оружию», еще «Войны Аллаха» и тому подобное, другими словами, все ложь от первого до последнего слова.
Мусту всегда удивляло, что неужели никто не понимает, что это за друзья и что сулит их страшная дружба.
Одетые с иголочки, но не броско, они прямо с поезда, нигде не останавливаясь, направились в дом культуры города Зернограда, собственно отыскав дом культуры, они нашли и все остальное.
В провинциальных городах все самые значимые административные и культурно развлекательные объекты устроены на одном пятачке. Очень удобно, и ходить никуда не надо. Такое что-то подобное и поныне живет в Зернограде, там, на одной площади дом культуры, гостиница, районная администрация, универмаг и, как корона в центе всего, памятник Ленину. А сразу за площадью, прямо впритык, что даже сразу и не разберешь, где начинается роща, где фашисты расстреливали зерноградское подполье, а за рощей сразу через дорогу кладбище. Вообще советские города, именно советские, что родились в советском союзе и были детищем строя, очень интересны, в них необычный дух, и очень грустно. Да, именно грустно и даже, что ли, немного зябко, потому что их возводили горячие, одержимые новым миром, люди, как вот Горячий. Прошли десятилетия, этих людей не стало, и в этих городах живут другие люди, такие, какие порой никуда не торопятся, не жить, не преуспеть, как скажем, в столицах, а просто ходят себе и ходят. Да, это тоже прекрасно, но все же не так насыщенно, как яркая палитра исканий или борьбы.
Мне лично очень дорог город Зерноград, как память, как головокружительные качели моего юношества, но всегда, когда бы я там не находился, я думаю, что если бы не дух студенчества, что живет и разливается на его улицах в дорогом моему сердцу городе, было совсем уж серо и мрачно, так, что кричи. Вот в такой неоднозначный и непростой город приехали люди, проповедующие такой ислам, которого нет, и никогда не было на свете. Разве мог великий Мухаммед учить бить исподтишка, разделять людей на верных и неверных, и как вообще кто-то может быть не таким, если Бог делал нас по своему образу и подобию. Или все не такие, или все одинаковые, наличие неверных выходит тогда, что вообще полнейший абсурд. Ладно, соглашусь, нечестные, но неверные. Да даже пусть и не верят, покажите, где, на какой бумаге или камне начертано, что за то, что кто-то не такой, как ты, нужно его лишать жизни. Люди, берущие в руки оружие, чтобы бороться с неверием, слабые люди, потому что казнить куда проще, чем помочь делом и словом ближнему, открыть в сердце Бога.
После встречи с участковым Муста сделался угрюмым, закрылся в своем кабинете и никого не принимал. Все, как отвратительно сошлось, новые «друзья» Зарифа и этот Бек. Рафика в участковом Муста не узнал, да и возможно, это было после того, что стало с сердцем юноши за двадцать лет, если сам Мамедов теперь слышал голос своего сердца, так, как слышишь и понимаешь бормотанья прохожего на бегу. Что-то несуразное, одно, два слова, но разве взволнует, так было и с сердцем Рафика.
Муста думал и судил Бека, а не Рафика. Надо сказать, что за годы размышления Мусты претерпели изменения, нет, они также были глубоки и полны спасительного смысла, но стали, что ли, острее, даже можно сказать, злее. Да, всегда прежде уравновешенный Муста начинал злиться, время уходило, ему было не прожить две жизни, мир вокруг него оттого, что он мог мыслить, не становился лучше, чем дальше, тем трудней было спасти брата, а теперь еще и племянников, примкнувших к отцу. Муста смотрел на свой кабинет, и обстановка тоже стала выводить его из себя. Муста уже не сидел в своем прежнем кабинете, что когда-то для него сделали из старой операционной, где свет ложился на сверкающий операционный стол. Его новый кабинет главврача походил больше на чиновничий склеп, чем на владенья хирурга. Кожаный диван, жалюзи на окнах, ковер на полу.
Муста встал из-за стола, подошел к окну и полный ненависти и злобы стал ломать жалюзи. Мусте нужен был свет, он задыхался. Он с корнем вырвал крепленья от стены и швырнул широкую полосу пластика на пол и настежь открыл окно. Хотелось кричать. И он кричал, внутри сердце рвалось на части. А еще злость, нестерпимая злость к таким, как Бек и им подобным.
«Какое же все-таки ничтожество этот участковый, думал Муста. Он в сто крат отвратительней брата. Зариф не играет, не притворяется, он просто слеп, по самую шею увязнув в заблуждениях – заблудился во мраке. А этот Бек-князек подлости. Зовите меня, говорит Бек. Сказал мне: „Мы мусульмане должны помогать друг другу. Она позор на весь ваш род. Вы уважаемый человек, она жена вашего брата“. Доложил и ждет, как собака, стоит и выпрашивает. Был бы хвост, он хвостом мне все полы подмел бы. Как еще язык поворачивается: „Мы мусульмане“. Да что ты знаешь о мусульманах, ничтожество, ничтожество. Это что же, зов предков повелел тебе прийти ко мне и помочь в беде? Нет, тебя, шакал, привели ко мне мои деньги. Будь я обыкновенный рабочий, с мизерной зарплатой, сводил бы концы с концами, пришел бы тогда ко мне? Помог бы? Да поленился бы даже вон снять телефонную трубку. Ты, Бек, предал свой народ в тот самый миг, когда в первый раз подвел человека под тюрьму – разбил жизнь и не раскаялся, не бросился спасти, а продолжал свой страшный путь. Ты принимал различные формы, предавал и лгал, ты не мог не лгать, потому что ложь и предательство тебе необходимы, как воздух. Нет, ты не можешь быть мусульманином, как не можешь быть православным или буддистом, никем, кто прославляет свет. Ты, Бек, подлец, твоя религия подлость. Ты не человек, а человечишко-таракан. О, если б были только такие, как ты, чья власть ограничена, такие, которых, по сути, можно просто прихлопнуть. Раз, и нет тебя, сволочь! Может в этом и есть твое спасенье. Ведь, в самом деле, было и есть у тебя другое имя, не это проклятое, Бек. Но ведь что самое страшное, вместе с тобой гадят и процветают куда опасней тебя, Бек, особи – настоящие негодяи, мерзавцы образованные профессора подлости и короли изворотливости. Вот те самые, что вводят массы в заблужденье, играя с вечными ценностями в орлянку, бич человечества, волки в овечьих шкурах, да как не назови – сволочи. Надо сегодня для достижения цели быть овцой, будут овцой, надо волком, пожалуйста, кем угодно – патриархи притворства. Политика искусства лжи. Захочу, белое выкрашу в черное, и, наоборот, черное наряжу в благодать для всего человечества. Разоблачат, не беда, притворюсь, что был затуманен и не различал цветов. Не различает цветов, не различает цветов. Слепец, слепец, – закружились в голове Мусты мысли о брате».
И Муста подставил стул к окну и в отчаянье сложил голову на подоконник.
«Говорить или не говорить про Галю, что вот у него в кармане лежит адрес, что ехать совсем близко – сто километров. Или съездить за Галей самому и как ни в чем не бывало привести ее обратно домой, как будто от матери, словно ничего и не было.
Но разве что-нибудь может его остановить, – думал Муста. Зариф одержим, он собрался на войну. Все деньги, которые я давал прежде, и вот эти десять тысяч он хочет направить против таких же людей, как он сам, хочет убивать и, чтобы было легче, запасается деньгами. И кто теперь монстр, я, который дал ему эти деньги, или он, свято уверивший в ложь? Война с неверными. Ехать на Кавказ убивать людей. Я его спрашиваю: «Почему ты тогда не поехал в родной Таджикистан, когда там была гражданская война»? И что он мне отвечает: «Нет, это не такая война, мусульмане встали против мусульман». Думаю, ладно, и спрашиваю: «Почему тогда просто не выйдешь на улицу не взорвешь магазин за углом?» Нет, говорит, это их страна, они на своей земле. Я буду убивать их на земле мусульман, и только если мне не удастся всех перебить там, я приеду к ним на землю и стану огнем истреблять неверных, взрывать их дома и больницы.
Земля для мусульман, Россия для русских – абсурд! Земля для всех – мир общий дом для каждого, кто приходит в эту жизнь. Ни в Библии, ни в Коране нет, что эта земля только Ахмеда, а эта только для Ивана или, вон, кусочек Карла. И как эти лживые проповедники еще не додумались делить воздух? Было бы очень удобно, подышал Иван воздухом Ахмеда, все, плюнул в душу, режь его.
И вот еще племянники. Что за считанные годы стало с Каримом! О, как он хотел учиться, а каким был способным. Он всего лишь в шаге стоял от спасительного света, стоило сделать только шаг, каких то еще два, три года и его было бы уже не сбить. Это я виноват. Карима нужно было выкрасть, увезти. Да, выкрасть, как когда-то меня самого хотел выкрасть благословенный Рощин. Но Карим так любит брата. А этот несчастный мальчик сказал, что вместе с отцом пойдет на войну, словно в какое кино. Кровь стынет в жилах. Значит, они все отправятся в ад. Почему я не стал таким, как они. Учился? Потому что стремился к знаниям? Ну и Джохар Дудаев тоже учился. И вот его вербовщики смерти тоже образованны. И Ленин, кажется, окончил школу с золотою медалью. Но что, же случилось, не могло, же быть так, что, читая Шекспира, эти все люди грезили смертью? Кто-то скажет, что, может, они не читали великих. О, будьте уверены, только ими они и упивались. Достоевским, Толстым. Тогда почему? Что тоже должно было послужить толчком, чтобы все знания, весь гений своих окрепших мыслей они повернули вспять, от созидания к разрушению, к хаосу и смерти. Сейчас любят спорить, что если Гитлера приняли бы в художественную школу, второй мировой войны могли бы избежать. А его не приняли, растоптали светлые порывы, сказали, что ни на что вы не годны, молодой человек, вон, ваше место на улице. А почему собственно нет. Не дали человеку реализоваться в прекрасном, и он обратился к злу, которое, будьте уверены, никогда никем не разбрасывается и радо под своими черными знаменами видеть любого, тем более униженного и оскорбленного. О, как мы беспощадны к самим себе. Хочешь, учись. Наоборот, надо поощрять, не могут же все быть Леонардами и Шекспирами. Вот, мой Зариф, кому он помешал в той вечерней школе, а если помешал, почему все не поднялись и не встали стеной, нет, даже не за него, а за свое будущее? И вот теперь Зариф отправляется на войну. Собирай, общество, свой страшный урожай! И сколько таких, как мой несчастный брат Зариф, если посчитать. Страшно становится оттого, что, сколько может быть искалеченных. Да кто же знал, кто мог подумать? А надо думать! Сколько еще надо тебе, общество, войн и катастроф, чтобы каждый из нас наконец-то стал просчитывать последствия своего равнодушия и цинизма? Да, в принципе, что. Ха-ха-ха, – Муста рассмеялся. – Еще пару тысяч лет и некому будет считать. Просто никого не останется. Сами себя вырежем собственным отношением друг к другу. Так заплюем колодец, из которого настанет время и придется пить, что отравимся своей ядовитой слюной.
А что, собственно, для будущего сделал я сам? Спас сотню, другую жизней на операционном столе, так они, как рассуждал Горячий, остались прежними людьми. Если он был сволочью с аппендиксом, так и без аппендикса он сволочь. Если б знать, что спас настоящего человека, можно было умереть бы спокойно. Приходилось вытаскивать с того света детей. Ну, кто может дать гарантию, что все усилия не обратятся в прах, что обласканное обществом, спасенное тобой, непорочное дитя завтра не превратится в монстра. Если б точно знать, но кто тебе скажет, если сам Аллах смотрит на землю, затаив дыхание, и ждет, что вот-вот случится главное – постучится в сердце человека покаяние, и он отблагодарит своего Отца. Если сам Бог ждет и не знает, что тогда говорить обо мне, простом смертном.
Я не сделал главного, не уберег собственную семью. На ком, если не на близких тебе людях, можно рассмотреть ближайшее будущее. Зачем куда-то ходить, что-то искать. Оглянись на своего младшего брата, на своего сына или дочь, твои поступки, все твои помыслы, пройдут годы, и, так или иначе, отразятся на твоих близких. Если каждый взялся бы всеми своими силами и помыслами ратовать за светлое будущее своих близких. Нет, не только на языке, а делом боролся за завтрашний день, да и не было бы жертв. Семья, семья – как это много значит для будущих поколений, каждая разбитая или несчастная семья сегодня есть страшная рана на теле общества, рана, которая не может, чтобы пройти бесследно, не может, чтобы не напомнить о себе завтра.
Тогда что же остается мне, если я понимаю, чем грозят обществу мои ошибки и промахи?
Человек, обладающий талантом или даром, да просто мыслящий развитой человек должен быть бескомпромиссным, его не должны останавливать ни родственные, никакие другие узы и клятвы в достижении высшей светлой цели – спасать жизни, сеять вечное и разумное. Его цель и предназначение одно – совершенствовать мир, чтобы пробиться, прийти к спасительному свету. И что же тогда получается, что я должен взять пистолет и остановить своего брата и племянников, не дать отправиться на войну? И выполнив свой долг, как ни в чем не бывало, продолжать жить, сеять разумное вечное, отправиться преподавать в университет, спасти сотню, другую жизней в оправданье и в счет тех трех, что оборву собственной рукой. Какое сомнительное страшное счастье строить счастье на жизнях других. Разве этому учил Мухаммед, разве этого добивался Христос. Нет, мы неправильно поняли или делаем вид, что не понимаем.
Ведь обрывая их жизни, что, по сути, я смогу добиться для спасения их собственных душ, для обретения света, для святого воскрешения, для покаяния. Убив их, я ровным счетом не добьюсь ничего. Умирая, они до последнего вздоха так и продолжат заблуждаться и, того страшней, проникнутся ненавистью и только еще сильней и неистовей укрепятся в самообмане. Если б они были такими, как Бек, раздавил его, и стало легче на свете. А что же изменится, если не станет их? Да ничего, все так же и останется. Остановил подонка – совершил еще один шаг к благоденствию, расправился с заблуждающимся обманутым человеком – совершил страшный зловещий поступок, лишил жизни, по сути, невинного человека. Ведь заблуждающийся обманутый человек не ведает, что творит, не понимает, как ребенок, а значит, имеет право на понимание, значит, может спастись. Если одурманить, опьянить человека, что стоит его в таком виде подговорить на бесчинство и разве можно в таком случае такого человека судить наравне с подонком, который вымеряет свой каждый шаг? Обманутые, обманутые, сколько обманутых загубленных ложью людей – сотни, тысячи, миллионы. Где же тогда выход? Выход только один – обманутый заблуждающийся человек должен понять, прийти сам к тому, что его обманули, что он заблуждался и ступал по неверной дороге, и только тогда можно рассчитывать на раскаяние, на благодать. И каждый такой переродившийся человек станет великой силой в борьбе со злом.
Зариф с сыновьями поедет на Кавказ в Чечню, и, может, столкнувшись лицом к лицу со всеми ужасами войны, испытав на себе дыхание зла, кто-нибудь из них прозреет, переродится, извергнет из своего сердца заблужденье. А если они все погибнут раньше, чем произойдет перерожденье? А если вовсе самое страшное – заблуждения только укоренятся, ложь еще сильней завладеет их сердцами, и они окончательно и бесповоротно потеряют все человеческое и превратятся в страшный инструмент зла?
Да, все так, все так. Но ведь и оставшись дома, у них не будет шанса. Они так все и умрут, заблуждаясь, умрут обманутыми на потеху зла. Нет, пусть едут! Если есть хоть один шанс из миллиона, он стоит, чтобы за него бороться, а если потребуется, то и умереть – настолько велика цель».
Решил Муста и, несмотря на то, что было нелегко, рассказал брату о Гале и о том, что к нему приезжал Бек. Зачем сказал? Скорее всего, хотел и ждал, что Зариф задумается, поймет, что, может, и он где-то не прав и не уделял жене должного внимания. Еще, конечно, Муста хотел, чтобы Галя простилась с сыновьями. Неизвестно, что их ждало, и когда они свидятся снова. Ехать за Галей Муста хотел один, но Зариф настоял, чтобы поехать вместе. Они приехали на следующий день, после, как узнали. В дом Савельевой их сопровождал участковый. Когда приехали, Муста оставался в машине, а Зариф с участковым пошел за женой.
Появление Зарифа во дворе Савельевой было для всех все равно, что раскат грома среди ясного неба. Он не входил в дом, стоял во дворе так, словно ему ни до чего нет дела, и терпеливо ждал, пока собиралась жена. И, казалось, что если Галя собиралась бы семь часов подряд, то он бы так и стоял семь часов на одном месте, не выразив ни злобы, ни недовольства. Немного сгорбленный, в синем костюме и в яркой тюбетейке, ни один мускул не дрогнул на его смуглом лице. И только святой дух знал, что скрывалось под ледяной маской равнодушия, которую с рождения примеряли и под конец надели на него законы и традиции предков. По дороге домой он тоже не скажет ей ни единого слова и сейчас лучше предпочтет смерть, чем заговорить и прилюдно быть вновь опозоренным. Ведь каждое его слово, какое то ни было слово, даже тяжелый вздох, сдвинутая нахмуренная бровь есть ни что иное, как напоминание об измене, предательстве и позоре – камень, оплеуха, которую он сам пошлет себе в лицо. И он будет молчать, даже если неверная жена выйдет под руку с предавшим и опозорившим его человеком. А расправится с ними после, под покровом темноты, как собакам, перерезав им глотки. Дома он тоже не скажет ни слова. Оставшись с ней наедине, он станет хлестать, бить, если потребуется, рвать и резать ее на части, и если Аллах будет к ней милостив и раньше, чем он ее забьет, как бешеную собаку, вдохнет в его сердце дух отмщения, она будет жить. И это при всем том, что Зариф никогда не любил Галю, как женщину, но она была его женой, и он помнил слова старика Фирдавси, что тот ему вбивал каждый день после свадьбы на протяжении всех двадцати лет. Что непристойное поведение жены отбрасывает уродливую тень не только на мужа, но и на всю семью, весь род. И муж должен следить и отвечать за поведение жены так, словно и не жена совсем, а он сам опозорил свой род, потому что мужчина есть первая главенствующая ступень, значит, повинен даже не столько же, а во сто крат больше, потому что, имея власть и силы, допустил падение. Я вам скажу, бесспорная мудрость, если каждый, владеющий какой либо властью, начнет это понимать, уже скоро наступит благоденствие.
Участковый Бек, который привел его в дом Савельевой, как по закону «бедный должен прислуживать баю», лез из кожи вон перед родственником богатого единоверца. Бегал то от него, то в дом Савельевой и кричал, чтобы пошевеливались. Кричал на парикмахершу бабу Клаву, приставшую к неравному уважаемому человеку.
– Иди отсюда, – кричал Бек, – Ты, старая.
– Она что, твоя вещь?! – спрашивала у гостя парикмахерша. Она жена твоя! Так и веди с ней, как с женой, а не собакой. Ты почему ей сало есть не даешь? А? Что молчишь?
– Отстань, старуха, ты ничего не понимаешь? – кричал Бек, выходя из себя.
– Вы много понимаете!
– Уйди, уйди отсюда.
– Я не с тобой разговариваю. Сам иди. Пусть скажет, почему водку пьют?
– Ты, старая!
– А! Водка значит святая вода, а свинья грязная. А почему в церковь ее не пускаешь?
– Уйди, бабка, она сама не ходит!
– Не ходит! Я с вами пожила бы, сама перестала бы ходить, – и баба Клава чуть ли не тыкала в гостя своим крепким тяжелым кулаком, так, что Беку приходилось вставать у парикмахерши на пути, чтобы богатого единоверца случаем не прибили.
– Ну, ничего, ничего. Он какой, никакой, а твой муж. Вы, вон, с ним сколько прожили, и сыновья, ты говорила, у вас взрослые, – провожала Савельева подругу, обнимала Галю и еле сдерживала слезы. – Иди с богом, я за тебя молиться стану и в церковь с Лизою пойду. Вот, возьми, спрячь, – и Савельева протянула Гале маленький серебряный крестик на шнурке. Будет сильно бить, держи около себя, все легче будет.
Галя смотрела на Ткаченко, он сидел на кухне и не смотрел на нее.
В дом забежал Бек.
– Пошли, хватит, хватит прощаться, – и Бек выводил Галю из дома и вел к мужу.
Как побитая собака, Галя, не поднимая головы, шла к мужу. Он, не дожидаясь ее, развернулся и пошел к машине, зная, что она покорно пойдет за ним, придет и сядет с ним в машину.
Савельева закрыла дверь и набросилась на Ткаченко.
– Что сидишь?! Ты, говори, рассказал про Галю участковому? Знаю, что ты. Знаю, гадина!
– Не докажешь, – бросил Ткаченко.
– А мне и доказывать нечего. Знаю, что ты.
– Да он тут причем?! – вмешался Ковалев.
– А ты вообще молчи. Это ты у меня, как глина, все, что хочешь, из тебя лепи. А этот, вон, сам себе на уме. Никогда тебе не прощу. Подвел бабу, гадина. Получишь получку, и чтобы выметался, чтобы и духу здесь твоего не было. Вон, езжай к себе на родину. Галя к тебе всем сердцем. Не хотел бы, не жил, ушел бы. А ты. Сволочь ты!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































