Текст книги "Лизавета Синичкина"
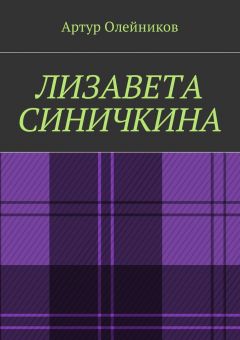
Автор книги: Артур Олейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
VI
Отряд Садыгина наткнулся на русских разведчиков. Завязалась перестрелка и Зарифа тяжело ранило в живот.
– Оставь его он все ровно умрет, – сказал Садыгин Кариму. Аллах позаботится о нем.
– Уходи! – потребовал Зариф. Иди, я тебе приказываю! Иди и выполняй свой долг перед Аллахом.
– Ты бредишь отец, какой долг? Это безумие, безумие, вы все здесь сошли сума.
– Заберите его, – попросил Зариф и достал гранату. Я достойно встречу русских, есле останешься жив, предай Мусте, что я не о чем не жалею.
Корима схватили и потащили за всеми следом, а он оборачивался и в последний раз смотрел на отца и всего больней было понять, что отец так и умрет, заблуждаясь, когда он Карим все давно уже понял и решил для себя.
И Карим не как не мог дождаться ночи, когда все заснут. Но наконец-то его молитвы были услышаны, последний сомкнул свои глаза, а он попросился в часовые, сославшись, что после случившимся с отцом и братом не может уснуть, будет сторожить лагерь и мечтать как он станет мстить. Ему поверили или сделали вид, что поверили, но все ровно все повались спать, не подозревая, что задумал молодой человек. И Карим убедившись, что все спят, подкрался к Стрельникову и ножам стал резать веревки на его руках.
– Просыпайся, просыпайся, – шептал Карим.
– Я не сплю, ответил Стрельников уже перестав надеяться, что сможет когда-нибудь вырваться из плена, остатки надежды улетучились, когда разведчики остались далеко позади. Зачем ты это делаешь, они же убьют тебя?
– Мне все ровно! Есле я это не сделаю, зачем жить? Я буду всю жизнь потом жалеть, что не сделал этого! Они лжецы, они все перевернули! Аллах не мог сказать, чтобы отрезать людям головы. Они отравили отца, убили брата! Я должен, должен так сделать.
Став свободным пусть и условно Стрельников как будто проснулся, и вдруг также как молодой человек перестал бояться смерти, и что-то страшное мелькнула у него в голове и глаза его разгорелись.
– Дай мне нож! – попросил Стрельников, его словно опьянила какая-то дикая мысль.
Карим дал.
Стрельников улыбнулся.
– Уходи, я позабочусь, чтобы они не отправились следом.
– А ты? Пошли вместе!
– Нет, мне нужно вернуть долг! Ты правильно сказал, что не мог ни Аллах, ни Иисус сказать отрезать людям головы. Ни кто не мог так сказать! Уходи у тебя вся жизнь впереди!
– Я тебя не брошу!
– Нет, иди! Ты должен жить, чтобы они сволочи, знали, что они тебя не подчинили.
– Возьми автомат!
– Нет, пусть только один нож, – Стрельников нежно погладил холодную сталь. Не шашка ну тоже сгодится, – улыбнулся казак. А ты возвращайся обратно к дороге, брось оружие и лги, а лучше дождись гражданский транспорт. Прощай!
Карим уходил и слышал и представлял, как Стрельников подкрадывался к одному, потом к следящему и резал одного за другим, снова и снова передавай на тот свет Богу приветы от донских казаков. А потом Зариф услышал автоматную очередь. Он хотел было броситься назад, но остановился. «Они должны знать, что они тебя не подчинили». Всплыли в голове Зарифа слова казака и он, собрав все силы и волю бросился отыскивать путь к дороге.
Николай гнал на всех парусах. Он возвращался в Россию обратной дорогой, что и два дня назад. Рядом сидел отец, мать устроилась на заднем сиденье. Когда Карим выскочил на дорогу он чуть его не сбил. Молодой человек не вызывал особой опасности, махал руками видно, что просил о помощи. Это могла быть засада, но Николай почему-то остановился.
– Помогите! – сказал Карим и больше ничего.
– Ты откуда такой? – спросил Николай
– С Ростова!
Николай не стал требовать доказательств, одного слова, что с Ростова показалось достаточно. Корима усадили на задние сиденье к женщине и особо больше ничего не спрашивали, а он словно тому был и рад. Через сутки они были в Ростове. Единственное что сказал молодой человек, что дальше ему надо попасть в Зерноград. Николай дал Кариму на проезд до Зернограда и пожелал удачи. И они расстались, как можно скорей стараясь забыть пережитое каждым.
По приезду в Зерноград Карим бросился в к дяди в больницу.
– Ты был прав, ты один не обманывал меня. Они все умерли, погибли, заблуждаясь, – сказал Карим и разрыдался. – Они вернутся за мной! Но я не боюсь, я теперь не боюсь!
– Все будет хорошо, я вас спрячу, спрячу, они больше не смогут тебя мучить, я обещаю, – говорил Муста. Накопившиеся чувство хлынувшие из раненого сердца молодого человека разом предалась и Мусте, и они плакали вместе, мешая горя и радость пополам.
А через две недели Муста возвращался домой от Гали и Корима. Муста был счастлив. Он надежно их спрятал. Они их не достанут. А что он? Он был счастлив, теперь он знал, что не зря прожил свою жизнь.
«Он спас Корима, – размышлял Муста, – и пусть цена была страшная, заблуждения были развеяны. Свет истин разнес в пух и прах черное. И пусть Карим всего лишь один из тысячи, пусть один из миллиона главное пойти верной дорогой, главное наконец-то понять, что добро есть единственный верный и благодатный источник жизни на земле. Ха-ха-ха! – радостно рассмеялся Муста, что-то вспомнив, шел и думал. О, какие же они дураки, дураки, их пушки снаряды, их автоматы и пули, ни что, ни что по сравнению с истиной. Магомед, Христос да кто бы ни был все одно, все одно! Воистину говорю тебе, Бог наш един. Един, един! – выкрикнул Муста и на хирурга покосился прохожий. – Да Бог наш един. Я знаю, вы придете за ним за Каримом, ведь он по-сути мальчик опровергнул ваше все лживые догмы все постулаты. Он пошел по пути света, по дороги истиной и вы придете, но слышите вы не получите его, вы так уйдете оставшись не с чем. А у вас кто придал, тот, кто прикрывает святым именем Аллаха свои злодеяния нищие, но и нищий богач, султан есле в сердце его живет Господь, а вы те, кто предали монстры, ничего у вас нет. Я знаю, вы придете, вы уже вышли. Пришли сегодня в больницу и спрашивали обо мне. О, вы думаете, я не догадался, кто вы и зачем вы как шакалы разнюхиваете. Да шакалы, стервятники, я все знаю о вас, и что же вы думаете, что я убегу, что я спрячусь, и буду дрожать? О, жалкие, жалкие, ничтожества это вы дрожите, это вы всю жизнь спасаетесь, поджав хвосты. Но как вы не прятались бы, в какую не забрались бы нору, как вы не были изворотливы и как вам не помогал шайтан и черт придет час, случится минута и за все за каждую слезу за каждую пролитую каплю крови, за каждое слово лжи станет спрос. А я приду сам к вам, я уже иду. Да не к вам проклятые, я иду к Богу, я всегда к нему шел. А вот и вы, – и Муста улыбнулся, заметив возле подъезда своего дома двух бородатых незнакомцем. Они стояли, и было видно, что кого-то поджидали.
Муста подошел к ним первый.
– Не будем претворяться! Я знаю, кто вы! – сказал Муста. Вы сегодня обо мне спрашивали в больнице. Корима я спрятал, и не когда не скажу где! Можете меня убить, но разве вы не за этим пришли?
Один из убийц, что был за главного с уважением посмотрел на Мусту, смелость и дерзость хирурга восхитили его.
– Ты бы мог принести много пользы Аллаху и своему народу! – сказал он и достал пистолет.
– Я это всю жизнь и делал, в отличие от вас, – улыбнулся Муста. Стреляй, я не побегу, я не доставлю тебе удовольствия!
Убийца смутился.
– Давай же, давай, Аллах ждет меня! И воистину говорю тебе, Бог наш един – радостно сказал Муста.
Убийца отвел глаза и, не смотря на Мусту выстрелил.
VII
В декабре Петра Озерова выписали из госпиталя. Его встречали как героя, у дома собралась вся улица. Стрельников и Андрей не вернулись так где-то остались, навечно лежать без могил, и Петр прятал глаза. Была среди всех и Оксана. От былой красоты осталось мало, за считанные месяцы вся прежняя казачья кросса провалилась, утекла со слезами и серебром выкрасила волос проклятая седина. Наверно Оксана больше всех просила Бога, чтобы Петр вернулся живой. Ведь он был та единственная ниточка, что связывала ее со Степаном, пропавшим без вести. И Оксана вечером, когда все разошлись и убирали со стола, снова пришла в дом к Петру.
– Здравствуй Петя!
– Здравствуй Оксана, – ответил Озеров и опустил голову.
– Я это… Ты меня Петя извини, – и Оксана не знала, как говорить, какие правильные подобрать слова.
– Завтра поедим к Степану, – сказал Озеров и сам не узнал свой голос и как то у него вышло.
– Завтра, – расцвела Оксана и на миг к ней вернулась ее прежняя красота. Завтра, завтра! А у меня ничего не готово! Ой! Да я пирожков с печенкой, как Степа любит! – и Оксана от радости бросилась к Петру и поцеловала. – Спасибо Петенька, спасибо! Ну, я пойду, тесто поставлю. Спать не лягу! Да не усну теперь.
Тяжелый словно с ногами налившимися свинцом Петр Озеров утром пришел за Оксаной, чтобы ехать к Степану. Он, как и Оксана не спал всю ночь и все передумал. Не может оно так больше продолжаться. Он все откроет, а там будь что будет.
Оксана договорилась с соседкой, чтобы присмотрела за детьми и с пирожками встречала Озерова. Они вышли на улицу, было не так чтобы холодно, но зябко и противно, шел снег с дождем. Зима на Дону хуже пьяной бабы противно и прячешь глаза. Оксана шла за Озеровым следом, и когда он свернул с главной улицы и пошел к Дону растерялась.
– А куда это мы Петя? Нам же это на вокзал, наверное, надо!
– Не надо нам на вокзал. На казачьем острове Степан.
– Как это на острове? Хоронится? Да где же он там?
Петр вздохнул.
– Доберемся, узнаешь!
– Хорошо, Петя, хорошо, только ты не сердись! – сказала Оксана, а у самой что-то не доброе поселилось на сердце, и на душе заскреблись кошки. И пошла она на ватных ногах за своим страшным проводником сама не своя.
На лодочной станции Петр отвязал свою лодку, помог усесться Оксане. Поплыли.
Переправились, вышли на берег и встретились с голой облетевшей рощей. Было дико, нелюдимо вокруг как на заброшенном кладбище.
– Степа, Степа! – закричала Оксана не сдержавшись.
– Не кричи!
– Хорошо, Петя, хорошо, прости бабу глупую, у вас, наверное, какой условный сигнал?
– Пойдем!
– Пошли, Петя, пошли, а то ведь пирожки совсем остынут, а Степа любит, чтобы горячие.
Шли недолго и остановились у могилы с крестом из двух опавших палок перевязанных бечевкой.
– Пришли! – тихо сказал Озеров. Вот твой Степан.
Что-то такое Оксана предчувствовала, но гнала прочь страшную мысль и теперь еще долго стояла и не могла поверить, но вот он страшный грязный земляной холм. Оксана выпустила сумку с пирожками из рук те самыми, что всю ночь стряпала для мертвого как для живого, упала и зарыдала.
Петр Озеров стал ходить к Оксане каждый день, играл с детьми и приносил деньги. Получил боевые. Оксана не препятствовала, она вообще мало говорила и уходила в другую комнату. Ударили морозы, и на Дону стал лед, и Оксана все чащи и чащи стала уходить на казачий остров на могилу к Степану.
– Здравствуй Степа миленький! Как дела твои? Прости, вчера не смогла прийти, рассказывала Оксана, стоя у могилы. – Вот принесла, твои любимые с печенкой, – Оксана достала и положила на холм два пирожка. – Петр приходит! Видно, что любит, да он всегда еще со школы меня любил, а вот за тебя пошла! Не знаю, что ты мне посоветуешь? Дети к нему привязались. Мучается он! Не виню его! Но никого кроме тебя не люблю и не хочу! Хорошо тебе Степа, лежишь, отмучался, – и Оксана заплакала. – Возьми меня Степа к себе! Не хочу я больше так, возьми.
Оксана возвращалась обратно и поскользнулась и со всего росту упала на лед.
Хрупкий первый лед не выдержал, треснул и Оксана провалилась.
– Степа, степа, – только и успела выкрикнуть Оксана, и скрылось под тощей ледяной воды.
Часть седьмая. Алеша и Диана
I
Старшая санитарка смены Калачева разносила по палатам градусники.
Зимой каждое утро в психиатрической больнице начиналась с одного. Старшая санитарка смены, кутаясь в пуховой платок, заходила в холодные палаты, клала больным под мышку градусники и выключала на день свет, который было положено не гасить всю ночь. Больные послушно соглашались мерить температуру, и спрашивали когда будет завтрак. Ответ Калачевой, что завтрак будет скоро, никогда не удовлетворял больных. Не привязанные на ночь больные вставали с постелей, начинали нервно ходить по палатам и не мытые не расчесанные вереницей тянулись за санитаркой. Начинался бардак. Калачева злилась. Больные разбредались по отделению и оказывались в чужих палатах и разбрасывали, где попало градусники. Калачева ругаясь, собирала градусники и вместе с другими санитарками отлавливала больных и заставляла мерить температуру по новой.
В седьмой палате санитарка обнаружила мертвую больную, все бросила и пошла за врачом.
Кирилова была не настоящая фамилия покойницы. Настоящего имени покойницы никто не знал. Кирилова и Кирилова, но с таким же успехом она могла быть и Смирновой и Игнатовой, кем угодно. В психиатрическую больницу ее привезли с автовокзала без памяти и документов, в ночной рубашке и в шерстяной кофте. Скорее всего, оставшись без присмотра, она встала с постели, поверх ночной рубашке надела кофту, открыла двери и вышла на улицу. Неизвестно, сколько она ходила по улицам и куда ее вели, обрывки воспоминаний, потом на остановке она села в автобус.
Ночную рубашку при приеме в больницу у нее забрали, кофту оставили и выдали старый застиранный халат, заштопанные носки и тапочки разного размера. Она просила обратно свою вещь, была резка и не похожа на многих больных.
Врач не пришел. Сказал просто, чтобы унесли и положили на освободившееся место кого-нибудь из коридорных больных, так звали тех, которым не хватило прежде место в палатах.
«Все ровно кого, сказал врач. А то спотыкаешься как в лесу о коряги».
Распорядились о носилках. Калачева спросила разрешения взять в помощь одну больную, получила согласия и послала за Синичкиной.
В психиатрическую больницу Лизавета попала в одном халате и тапочках и теперь для прогулки, которая она думала, ее ждет, Лизавета одолжила у одной по местным меркам богачке толстую шерстяную зеленую кофту, теплые носки и колоши, а старую куртку ее выдали. И пришла в седьмую палату как потребовала от нее старшая санитарка смены.
Обритая в больнице наголо Лизавета ходила в белом платке, как монашка в праздник и с начала зимы уже долгие три недели не была на свежем воздухе. Казенной верхней одежды в больнице всегда не хватало и с приходом зимы и холодов прогулки заменяли проветриванием палат. И больные простуживались, чихали и кашляли. Лизавета смеялась и радовалась, как ребенок конфете, когда осенью прежде шел дождь. Она выставляла руку в распахнутую форточку, и умывалась холодной дождевой водой. И от этого ей казалось, что она на свободе. И она собирала дождевую воду в железную кружку и полевала цветы, чтобы им, как и ей хоть иногда было хорошо в этом горьком скорбном мести. И когда ей сказали одеться и прийти в седьмую палату, где была покойница, Лизавета пока не узнала в чем дело и какая ей предстоит прогулка, была необычно рада. Она уже многие дни мечтала о прогулки. Уже даже больше, чем выбраться из самой больницы.
Оказавшись в психиатрической больнице, Лизавета, не огрубела, не обозлилась на мир и окружающих, а наоборот стала еще сердечней. За два месяца, проведенных в больнице, Лизавета так убедила себя в том, что она оказалась в больнице совсем не случайно и была призвана помогать, что каждую минуту своей жизни пыталась обращать в добрые дела. И словно по какому-то зову оказывалась там, где кроме нее никто и не стал бы возиться. Просили пить, несла воды. Если кого-то начинали обижать, вставала на защиту. Если нужно было сменить белье лежачей, с радостью приходила на помощь.
От покойницы Лизавета пришла в оцепенение. Застыла и не могла пошевелиться, так была поражена. Левая рука покойницы была откинута в сторону, а правая была закинута за голову, и как палка стоит у стенки, не падала, и покоилась на металлической спинке кровати.
Желтое лицо старухи, искажала предсмертная судорога. Лютая злость затравленного зверя, который, даже будучи загнанным в угол, до последнего скалится и, не покоряясь судьбе, совершает последний прыжок, была в лице старухи. И какой-нибудь художник долгие годы безуспешно искавший образ не покорившегося человека, всю жизнь боровшегося с судьбой, проигравшего, но все ровно отыскавшего в себе силы и давшего последний бой смерти, с жадностью писал бы покойницу. И казалось, что покойница своей желтой костлявой рукой, слала проклятья, взывая себе в помощники само небо.
Лизавета знала покойницу и только вчера с ней виделась и разговаривала. Лизавета была тем единственным человеком в больнице, которого старуха подпускала к себе и от которого принимала помощь. Нрав рыси откуда-то был в сердце дряхлой старухи. Она отказывалась подчиняться, все норовила сбежать, как зверь, заключенный в клетку и в первый же день расцарапала в кровь щеку санитарке. «Старая облезлая кошка» шептался про нее персонал психиатрической больницы. А потом она заболела и больше уже не поднялась с постели.
Смерть в больнице все ровно как цветочный горшок на окне, растет, никого не пугает и если расстраивает то только санитарок потому, что прибавляет дурной работы.
Сестры Егоровы все время как были в палате стояли безмолвно и неподвижно, словно как лакеи, которые только после распоряжения своих хозяев начинают шевелиться, ждали первого шага старшей санитарки смены, чтобы сдвинуться с места.
Калачёва в калошах и новенькой темно-синей фуфайке уже скоро засверлила глазами, пришедшею по ее требованию Лизавету и с каждой минутой все более выходила из себя.
Поначалу Калачёву даже развеселила растерянность Лизаветы. Требуя от Лизаветы одеться и прейти в седьмую палату, где была покойница, Калачева считая Лизавету колошей и зная, какая Лизавета жалостливая, рассчитывала на испуг, на оцепенение и была рада, что не ошиблась, но уже было довольно.
– Это скоро кончится?! Не стой, как пень! – сказала Калачёва – Так мы с тобой весь день провозимся. Покойников, что ли не видела?! Да шевелись, не музей! Я тебя не на экскурсию сюда позвала.
Лизавета растерянно приблизилась и еще с минуту не знала, как и с какой стороны подступиться к покойнице. В грязной земляного цвета ночной рубашке и старой красной шерстяной кофте покойница невысокого роста истощенная болезнью на вид казалась не тяжелее воробушка. И грозный вид, с которым поначалу явилась в глазах Лизаветы покойница, испарился бесследно. Образ несчастного старого человека умершего в одиночестве без друзей и близких может за сотню километров от родного дома пришел на место грозному и от этого еще несчастней и больней сделалось в сердце Лизаветы, и она не знала, как быть.
– Не знала, что ты такая бестолковая! – рассердилась Калачёва. – Бери за край простыни. Да крепче, крепче бери. Не смотри что старуха.
Женщины вчетвером дружно взялись за края простыни и на счет три сняли покойницу с кровати и положили на носилки, приготовленные на полу.
– Вот как, на казенных-то харчах! – ядовито прыснула Калачёва, выпрямляясь и хрустя позвонками. – Ну что стали?! Сама она не дойдет.
Носилки с покойницей подняли и понесли. Санитарка и Лиза шли рядом, и при каждом удобном случае Калачёва заглядывала Лизавете в лицо и, находя ее, как и прежде растерянной, словно не в себе, посмеивалась.
Характер у Калачёвой был не подарок. Властная, деспотичная она вспыхивала по каждому пустяку. Больные это знали и старались ее лишний раз не раздражать и только удивлялись, как Лизавете удавалось завоевать покровительство Калачевой. Любила Катерина Григорьевна Калачёва работящих женщин. Сама работала как вол и того же требовала от подчиненных. И если бы кто только внимательней проследил бы за Лизаветой, то понял бы, что особой тайны в покровительстве Катерине Григорьевне Лизавете и не было. Работала Лизавета за двоих и была безотказной, за что Калачева ее ценила и могла простить то, что никогда не спустила бы той, которая по ее мнению за день не ударила палец о палец.
Покойница и вправду показалась Лизавете, словно каменной и рука обремененная ношей натянулась, словно стальной трос ныла от напряжения. Сильные, Раиса Михайловна и Лариса Михайловна, не чувствовали усталости словно, несли пушинку. Сестры Егоровы, как какие-нибудь лошади тяжеловесы ступали твердо и уверенно, так что даже Калачева, будучи женщиной крепкой не поспевала за ними. И без сомнения, если бы только потребовалось, сестры Егоровы сами играючи справились с носилками.
За покойницей увязалось с десяток больных из числа обыкновенных зевак и тех, кто лично знал покойницу и пришел ее проводить, последние были самые возбужденные. Они обгоняли носилки с покойницей, останавливались, и прощались с ней, махая руками. Но больше всего поражала одна старуха. Босиком, в грязной ночной рубашке она, качаясь как пьяная, шла за покойницей и, не издавая не малейшего звука, прямо клочками вырывала волосы на голове и бросала их вслед за носилками, как бросают цветы за гробом.
Тусклый коридор с покойницей, больные справляющие какие-то зловещие проводы и обезумевшая старуха вырывающая волосы на голове, словно сорняки на грядке, картина была настолько жуткой и в то же время такой завораживающей, что у Лизаветы перехватило дыханье. И она не в силах была отвести глаз и все время пока сумасшедшую не увели к себе в палату, не сводила со старухи глаз, словно с гипнотизера.
Нести покойницу в больничный морг Калачёва решила через столовую. Через столовую было быстрей, а главное проливные дожди вместо такого желанного снега, который не как толком еще не выпал, наделали столько грязи, что только этим путем можно было пройти сравнительно чисто.
В столовой им пришлось сделать вынужденный привал, чтобы открыть металлическую решетку открывавшую дорогу в больничный двор. Решетки были повсюду, где это только было возможно, на окнах, на дверях, даже на каких-то смотровых оконцах из которых ни то, что взрослый, пятилетний ребенок при всей своей гибкости не смог бы выбраться.
Калачёва торопила Раису Михайловну с ключами от решетки и была очень рассержена, что та копалась, больше чем это следовало. С минуту на минуту должен был приехать из города автобус с родственниками больных, и чем дольше они задерживались в столовой, тем больше Калачева выходила из себя. Ей не хотелось появляться с покойницей на глаза родственников больных, а потом получать выговор от главного врача. Ну вот, решетка наконец-то была открыта и Калачева облегченно вздохнула, оставалось уже совсем близко и, слава богу, автобуса из города еще не было слышно. Носилки с покойницей вынесли в больничный двор, Калачёва загнала повыскакивавших на улицу больных и Раиса Михайловна закрыла решетку.
Некрашеный покосившийся деревянный сарай, что был в больнице устроен под морг, встречал угрюмо гостью на носилках. И от дряхлости и не ухоженности казался еще неприветливей как какой-нибудь старый хрыч.
Сестры Егоровы вместе с Калачёвой стали опускать носилки на землю и все закончилось бы у них благополучно, не повторись тогда с Лизаветой от горьких раздумий о судьбе покойницы, словно какое-то наваждение. Подобное и прежде не раз случалось с ней в жизни, но после того как она переступила порог больницы и окунулась с головой во все ужасы больничной жизни, приступы усилились и могли случаться с Лизаветой по нескольку раз на день. Она расцветала как цветок от солнечных лучей и наполнялась силами, когда какая-нибудь больная, прикованная к постели, со слезами на глазах благодарила ее за заботу, но приходила в страшное отчаянье, когда не могла помочь, когда как сейчас случилось непоправимое. И вот в такие тяжелые минуты жизни как будто впадала в оцепенение похожее на то, когда задумаешься о том, что волнует и не дает покоя ни днем ни ночью и все вокруг как будто перестает существовать только ты и угнетающие мысли. Рой страшных горьких мысли и все об одном и об одном, что можно дойти до исступления.
Санитарки опустили носилки, а Лизавета, словно в беспамятстве застыв как изваяние, продолжала, что было сил, сжимать ручку носилок, так что у нее побелели пальцы от перенапряжения. Покойница поехала с носилок и, перевернувшись, упала в грязь лицом.
Калачёва заругалась. Лизавета вздрогнула, и еще окончательно не придя в себя, растерянно смотрела вокруг, прибывая в каком-то пограничном состоянии, словно между сном и реальностью, словно когда еще до конца не проснулся, но уже и не спишь, и беспомощен как младенец. Смотришь на предметы и не можешь уловить связь между собой и окружающим миром.
Наконец Лизавета обнаружила покойницу на земле и вскрикнула в испуге, и подхваченная чувством вины бросилась к покойнице, испугавшись за нее, словно старуха на земле была ни какой не покойницей, а живым человеком, которому требовалась помощь. Калачёва жестом приказала сестрам Егоровым оставаться на месте, с какой-то зловещей иронией наблюдая, как Лизавета бросилась спасать мертвую, словно живую.
Лизавета не сразу и с большим трудом, аккуратно, старясь не причинить вреда, словно и вправду спасала живого человека, перевернула на спину покойницу. Лизавета верила в то, что делала и прибывала, словно в каком-то бреду пока ей не открылось испачканное в грязь искаженное предсмертной судорогой лицо покойницы и, придя в себя, Лизавета содрогнулась, и в ужасе отпрянула назад.
Калачёва дождавшись долгожданной развязке, залилась смехом. Смех Калачёвой какой-то страшной музыкой загремел в ушах Лизаветы, и Кирилова вдруг в один миг снова показалось Лизавете, словно живой нуждающейся защите и помощи. Отшатнувшись прежде от покойницы, Лизавета, через миг обратно бросилась к ней и краем кофты стала оттирать от грязи ее желтое лицо искаженное предсмертной судорогой. Калачёва проглотила смех, так она была поражена, но какая-нибудь дворовая собака, которой наступили на хвост, гавкает и бросается на любого кто ей только подвернется, набросилась на сестер Егоровых.
– Ну что стали! Шевелитесь, – раздраженно закричала Калачёва на сестер Егоровых. – Ух, послал бог помощников!
Раиса Михайловна, не дрогнув ни одним мускулом на лице, словно была в маске, склонилась над покойницей и сняла с шеи покойницы чуть толще капроновой нити серебряную цепочку с серебряным крестиком.
Лизавета закрыла глаза, так ей сделалось противно.
– Твоё дело, можешь не смотреть, – сказала Калачёва. – Но если кому разболтаешь. Смотри у меня!
Лариса Михайловна следом за сестрой сняла с покойницы старую всю на дырах испачканную в грязь красную шерстяную кофту и точно так же, как и сестра отдала свою добычу Калачёвой.
– На вот, – бросила Калачёва старушечью кофту Лизавете. – Сменяй на что-нибудь и помалкивай!
Лизавета взяла кофту только чтобы она не досталась санитаркам.
– Так-то лучше. А то строишь из себя неизвестно что. Ну, все, все не реви, – ласково говорила Калачева, склоняясь над Лизаветой продолжавшей, как и прежде стоять на коленях. – Вставай еще чего простудишься. На что ты мне дохлая! Надо думать о живых. А о ней, – и Калачёва пнула ногой покойницу, – пускай теперь Бог думает.
Лизавета поднялась на ноги и заплаканная с кофтой покойницы, пошла обратно в отделение. И еще долга ей мерещилась покойница и ее выпачканное в грязь лицо искаженное предсмертной судорогой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































