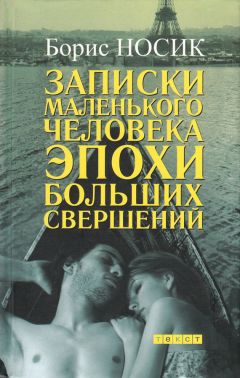
Автор книги: Борис Носик
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Часть шестая
Вступление редактораВ первой же строке спешу сообщить, что герой этого нашего как бы произведения, уже полюбившийся вам, а более, вероятно, надоевший – Зиновий Кр-ский, – жив и нашелся! Мы никак не могли знать об этом в начале нашего повествования по той простой причине, что сами знали только то, что он исчез окончательно (и казалось, бесповоротно) из поля зрения его друзей. Однако теперь нам не остается ничего другого, как сообщить вам эту добрую весть, ибо он объявился: прислал первое письмо, а вслед за ним еще и другие письма, своему старому другу Владимиру Рубцову, который, собрав их, принес Редактору этой книги, а Редактор, не видя, в чем жанровое различие между этими новым письмами и теми, что были оставлены Зиновием при его первом исчезновении, решил присовокупить их к тексту в качестве приложения и одновременно эпилога, ибо Редактор чувствовал, как двусмысленна книга, в которой судьба героя обрывается неясно и даже туманно. Получалась книга не только без начала, но и без какого бы то ни было достойного конца, без торжества добродетели, без наказания порока, без ясного идейного вывода или четко прослеженной цели. Впрочем, Редактор вполне скромно оценивает и этот несовершенный эпилог, вовсе не возлагая на него больших надежд по части оправдания читательского интереса. Но так или иначе эпилог теперь у нас есть.
Поскольку письма эти, похоже, не предназначались их автором для издания, а просто были написаны в ностальгическом порыве человека, лишенного Родины, то Редактор неплохо, слава Богу, знающий традиции мировой беллетристики и тем более мемуаристики, помещает их в виде приложения или как бы научного аппарата. При этом Редактор не может отделаться от ощущения, что это не простое приложение, а как бы даже логический итог данной жизни, как бы ее развязка и эпилог, достаточно печальный и даже трагический, каким только и мог быть итог столь печальной и неосмысленной (в плане, конечно, общественном) жизни, как жизнь Зиновия Кр-ского, которого в свете совершившихся событий Редактор даже не решается называть другом-приятелем, а держит за некоего знакомца, впутавшего его в эту длинную и небезопасную – при всем понимании мирных свобод, нас тешащих ныне, – историю.
С учетом всего этого, Редактор просто предлагает вниманию читателя (того, кто еще не оставил чтение этой книги) первое же по сроку получения (а может, даже и написания) заграничное письмо Зиновия и другие его письма.
Письмо первоеАльтенсберг
3 ноября
Дорогой Владимир!
Ты, верно, удивишься моему письму, а может, будешь им испуган или расстроен. Я ведь до сих пор не писал, потому что не желал навлекать на тебя заграничным письмом чье-либо (известно чье) неудовольствие, но теперь, поскольку мне показалось, что все несколько улеглось у вас там и у нас здесь, я отважился послать первую весточку. Как ты уже понял по штемпелю, марке, и всему прочему – я за границей, в Альтенсберге, в Германии, и поскольку ты помнишь, что в заграничные командировки никто меня никогда не отправлял, а в вояжи не выпускал, ты без труда поймешь, что я уехал насовсем, навсегда…
Страшное это слово «навсегда», однако оно уместно здесь, и ты, наверное, поверишь, что совсем не легко мне было на это решиться, но я все же решился – под давлением жены, упорно доказывавшей бесперспективность дальнейшего обучения нашего сына дома на Родине (сам знаешь почему), а также под давлением обстоятельств моей жизни и моих неудач (но это все же в последнюю очередь, потому что я и здесь, точно так же, как там, принципиально не верю в отличие удачи от неудачи).
И вот оно началось, это все – сумасшедшее нагромождение нелепиц и неурядиц, путешествие, в котором ничего не видишь и не замечаешь, жизненные перемены – непонятно к чему – не к лучшему и даже не к худшему (хотя мне здесь несравненно хуже), а к чему-то неустойчивому, неустроенному, без конца меняющемуся. Здесь я, человек дома необычайно терпимый, дружеский и подвижный, стал вдруг косным, и необщительным, и неподвижным. Семью нашу сразу разбросало по разным городам, потому что мальчик мой в пансионе, возле Берлина, там и школа, Кока нашла в Берлине работу, а я вот – непонятно отчего, здесь, в Альтенсберге, где ставят пьесу, переделанную из моей старой повести, когда-то переведенной на немецкий язык, – помогаю, или мешаю, им компилировать эту белиберду, но все же вроде бы при деле, впервые со времени приезда при деле и при деньгах – при очень небольших деньгах, впрочем, я здесь вообще, честно говоря, на птичьих правах.
Живу я пока у нашего режиссера. Это хороший, веселый и добрый парень, впрочем, по-своему, не по-нашему хороший и по-своему добрый, так же как он и весел по-своему, не по-нашему, очень странно и непривычно. Вечером они тут подолгу веселятся, что-то говорят, не очень значительное или интересное, но зато долго, за полночь, пьют пиво и жарят на гриле мясо, а я зеваю при этом, не в силах уловить смысл их разговора или разделить их веселье: то ли немецкий мой все еще недостаточно хорош, то ли там и правда нечему веселиться и нечего улавливать. Потом все ложатся вповалку, даже не очень ясно зачем, а у меня – свое постоянное место, у двери, в предбаннике – и как только уляжется последний гость, все начинают ходить в туалет, мимо меня, дальше в коридор и еще дальше – через лестничную площадку, все с тем же огромным ключом от туалетной двери. Женщины проходят в коротеньких, до пупа рубашонках, светя ягодицами, и так всю ночь – розоватые попки мелькают чуть не у самого моего лица: холодная лестница, холодная постель, и эти попки, розоватые от холода или от сна, – Боже, какая странная, призрачная, непонятная жизнь, и что я тут, кто я тут, что мне здесь?
Главное ощущение – это что я все время не понимаю чего-то, не до конца понимаю, не все понимаю и, может, никогда не пойму всего. Не понимаю, что обо мне думают, кто я, хорошо ли я поступил, сказав или сделав то-се, или я обидел кого-нибудь и как оно было воспринято. От этого у меня некая скованность в действиях и какая-то даже оглушенность, словно я летел на самолете весь день и вот никак теперь не могу очухаться.
О чем я только не написал тебе – о туалете, о попках, – просто какой-то сеанс психоанализа, а вот о главном – о том, почему я уехал и почему я один, – не написал. Ну да, может, это не случайно: мне пока и самому не так легко это понять. Может, попробую понять и кое-что объяснить тебе в своем новом письме, а пока до свидания.
Твой Зин.
Письмо второеАльтенсберг
6 ноября
Дорогой Владимир!
Помнишь, у нас была на факультете девочка-отличница Изольда – хотя бы из-за этого ее дурацкого имени ты должен был ее запомнить. Она была отличница, но потом все пошло не слишком – журналистскую работу она не умела, хорошей редакторской ей не досталось, но все же устроилась в какой-то институт, в какое-то бумажное ведомство по линии санитарного просвещения. Так вот, знаешь, я встретил ее незадолго перед отъездом из Союза, и она сказала мне, что ей в общем-то повезло в жизни, потому что она от своего санпросветведомства ездила в двадцатидневную командировку в Париж, а где бы еще и когда она съездила, да еще в Париж, да еще на казенный счет, да еще на целых двадцать дней – сказка, право, сказка. Она с таким упоением мне рассказывала про Париж, а я слушал так, будто не читал про все это с детства сто тысяч раз. Потом выяснилось, что уже прошло пять лет с тех пор, как она съездила, но она все еще живет этой невероятной удачей и долго будет жить, может, теперь уже до конца жизни. И ясно было, что она немножко жалеет меня, который не ездил в Париж и, наверное, никогда не поедет, жалеет всех нас – имя нам легион.
Я живу сейчас в нескольких часах езды от Парижа, и никаких существенных препятствий для такой поездки у меня нет. Я не еду, потому что у меня там нет никакого срочного дела, потому что я не считаю сейчас такую поездку лучшим отдыхом для себя, да и время не самое благоприятное – в общем, успеется. Однако тот факт, что я живу в нескольких часах (пусть даже будет – днях) езды и могу в любое время поехать, – сам этот факт немаловажен и не следует преуменьшать его значения. Могу поехать, хотя и не еду, – может, даже и не поеду никогда, но могу.
Не знаю, понял ли ты меня, Володя, но я должен кончить на этом, потому что сегодня я (как ни странно) работаю: они просят в театре об одной переделке (хорошо, хоть пока просят, а не делают сами).
Обнимаю.
Твой Зин.
Письмо третьеАльтенсберг
12 ноября
О, ты многим рискуешь, Володя, – такая лавина писем на тебя обрушится теперь от меня, изголодавшегося по общению: нет, нет, я понимаю, что, скорей всего, ты даже не ответишь мне, не сможешь или не пожелаешь ответить, но сам факт, что я разрешил себе написать письмо, сочтя, что «международная разрядка» лишила эту, пусть даже одностороннюю переписку (не знаю, можно ли ее при этом условии безответности назвать «перепиской») какой-либо непосредственной для тебя опасности, – сам этот факт словно приоткрыл клапан, запиравший поток моих чувств. И столько сразу захотелось сказать, рассказать тебе, и страшновато приступать к главному – что же со мной случилось за то время, что мы не виделись, и почему я здесь. А что, собственно, случилось? Все, что должно было случиться, случилось еще раньше – до отъезда, я оставил своему покровителю из главка рукопись, пусть слабый, но все же разборчивый след того, что происходило. Мысленно продолжая идти, можно было предугадать, что будет дальше. Дальше были горести отъезда, различные лишения, точнее, даже не лишения, а лишение – лишение себя чего-то очень дорогого, что разъятое по мелочам даже не производит никакого впечатления, но взятое в целом сливается в нечто томительное, до бесконечности наполненное мучительными деталями. Цветаевская рябина как символ, но ведь за ней улицы, дома, голоса друзей, родных, словечки, целые фразы, которые я никак не могу перевести на немецкий или на английский, ни пустить в обиход, ни получить должный эффект. Ну да, язык, голубчик, главное – язык, Слово не только было вначале, для меня оно – всегда, Слово вместо Дела. Так вот Слово-то у меня только русское, на всех других более или менее знаемых мной языках я косноязычен, ничтожен…Точнее, меня просто нет.
Иногда, в минуту особенной горечи, говоришь себе, все это временное, но ведь и сами мы временные жильцы временного мира, странники и пассажиры, так что почти безразлично, как доедешь последние две-три остановки…
Ты скажешь, что это просто рассуждения не очень молодого человека, упавшего духом, – что ж, таким я, наверно, и стал: и первое справедливо, и второе, и еще многое, дорогой Володя, я ведь и сам замечаю, как изменилась моя реакция на знакомые жизненные ситуации, а многие из них повторяются, так многое уже знакомо. Примеров уйма, самых курьезных, взять ту же ночлежку…
По приезде в Альтенсберг я не знал поначалу, за чей счет я буду жить в городе, где жить и так далее. Не знал, сколько они мне заплатят и заплатят ли вообще, а гостиницы тут, как известно, дороги, так что я решил тряхнуть стариной и поискать какую-нибудь молодежную ночлежку подешевле. Такая нашлась на окраине города в великолепном парке, и я даже был поначалу один в комнате, если не считать странного поляка, который терзал меня ностальгическими воспоминаниями и польским языком. Но однажды к ночи вдруг ввалились два школьника-старшеклассника. Сквозь сон я слышал, как они легли на двухэтажные койки – «вагонки», один в углу, другой почти рядом со мной, над поляком.
А среди ночи вдруг зашуршало что-то в комнате, заметались какие-то белые призраки – я это сквозь сон, но, когда меня по ошибке потянули за ногу, я разглядел эти белые рубахи в полумраке и услышал девчачий шепот: «Томас! Томас!» Потом вспыхнул свет, раздался смех, свет погасили: они нашли наконец своего Томаса, девчонки-школьницы в ночных рубашках, грубоватые, толстые, некрасивые (ну да, не смейся, наши были лучше). Волосатый юный Томас приподнялся на верхней койке, на груди у него был не то коготь, не то клешня на цепочке – и вот, когда свет погас, многопудовая малютка в белом вскарабкалась на второй этаж, к Томасу, повозились чуть-чуть и затихли.
Бедный поляк выбрался с нижней койки, из-под Томаса и спросил, не хочу ли я отправиться в душ. Было три часа ночи. Он сказал, что как раз сейчас хорошо идет горячая вода, так что он, пожалуй, помоется – сказал устало как человек, который привык к мелким неудобствам жизни. Когда он ушел мыться, я пытался уснуть, однако слушал все время, как они шепчутся («ауслендер», «ауслендер», стало быть, «иностранец»), с головой накрывшись одеялом, эти воспитанные немецкие дети, которые даже в этом злосчастном возрасте не хотели слишком уж огорчать пожилого иностранца. Что до самого «ауслендера», ему хотелось, чтоб они уж поскорее все это кончили и успокоились.
И вот что удивляло меня, дорогой Володя, в эту ночь, когда я слушал невольно, как они шепчутся и возятся по соседству, – то, что ситуация, всю жизнь так сильно возбуждавшая меня, более меня не возбуждает. То есть она трогала меня, однако по-иному, совсем по-новому. Со мной и раньше случалось подобное в моих бесчисленных путешествиях – в нашем собственном приволжском Мышкине или, например, в Чешских Татрах (там, наоборот, я спал наверху, а польские студенты всю ночь раскачивали снизу нашу двухэтажную койку под немолчный девичий стон – «О раны Боске!»). Так вот, раньше сердчишко мое обмирало от страха и от желания, мне хотелось прийти на помощь стонущей (пусть даже стонущей от избытка чувств, как в Татрах, или умеренно громко взывающей о помощи, как в Мышкине) женщине. Здесь же, в Альтенсберге, я больше думал о затаенно пыхтящем Томасе, чем о телке: мне было его жаль. Жаль его уходящей силы – той, какую он расходовал сейчас так неразумно, той, которую он раскидает по свету, дожив до моих лет. Толстозадые его подружки почему-то не вызывали во мне жалости, и я ощущал в этом какую-то грустную перемену в себе, разобраться в которой я не умею. Только, упаси Боже, не вообрази ничего гомосексуального. Скорей это связано с моим возрастом и с тем, что я стал отцом мальчика, сына – может, у тех, у кого девочка, у них иная реакция на все, а не только на сомнительную «Лолиту» Набокова.
Не знаю, почему я описал тебе именно этот случай. Может, он тоже расскажет о моей здешней жизни и моем нынешнем состоянии. Другой вопрос – могут ли представить для тебя сейчас интерес любые мои терзания, однако этим вопросом предпочту не задаваться, раз уж сел писать тебе письмо и раз уж так хочется его написать.
Твой Зин.
Письмо четвертоеАльтенсберг
25 ноября
Дорогой Владимир!
Наконец-то была премьера – нет, нет, не воображай себе радость юбиляра, счастливое, праздничное возбуждение по поводу того, что на сцене полупустого театра (режиссер сказал, что это еще не так плохо, больше у него и не бывает) кучка актеров, перевирая русские имена, изображает какую-то чушь несусветную (публика иногда даже смеялась, но, скорей всего, это смеялись в зале профессионалы, которые пришли поддержать коллег-исполнителей, друзья и родственники актеров), и по поводу того, что, выходя на жиденькие аплодисменты публики (еле удалось наскрести их на второй выход!), актеры волокут за собой немолодого иностранца – очкарика в мешковатом костюме, а наиболее осведомленная часть публики (те же родственники), зная, кто этот тип, добавляет в его честь два-три хлопка… Ты, наверное, помнишь, что мне и в Москве все это не доставляло никакого удовольствия, а уж в здешней дыре…
Потом даже был банкет. Конечно, своеобразный, довольно убогий и даже, на наш вкус, смехотворный (то есть без нашего хамского размаха). Для бедного автора он, конечно, имел большие преимущества перед русским банкетным празднеством. Все заинтересованные лица, все родственники, снобы и просто все желающие перешли в подвал, в служебный буфет и встали в очередь. Кто хотел, мог там купить бутылку пива, вина или кока-колы, а кто был голоден – мог купить сосиски. На свои деньги, конечо. Ни в какое сравнение с нашими премьерными банкетами, да что там, даже с нашими школьными вечерами, это не шло, но для меня, повторяю, это убожество было спасительным. Режиссер усадил меня за свой столик, а сам ушел принимать поздравления. Он был героем дня и, надо отдать ему справедливость, по временам делил со мной этот, довольно-таки скудный, поток приветствий и восторгов. В центре внимания собравшихся были какой-то известный драматург из Мюнхена и его жена, красивая сербка, которая даже пыталась говорить со мной по-русски. Сам драматург тоже почтил меня братским вниманием. Он подсел к нам за столик и заговорил на вполне сносном английском. Сказал, что нелегко, конечно, приходится в этом прогнившем обществе капиталистических мещан человеку творчества. «Помните, как у Маркса?» – спросил он, заговорщицки мне улыбнувшись. Я понял, что как человек оттуда я должен все помнить, как, что и где было у Маркса. Я ответил умученной улыбкой, которую при желании он мог понять как улыбку заговорщика, сообщника его детских проказ. Раздухарившись, он разразился длинной, строк на двести, цитатой на тот счет, что капитализм ужасен, а классовая борьба все крепчает и крепчает. «Главное, друг мой, классовая борьба», – сказал он мне в утешение, а потом стал извиняться, что его уже зовут к новому столику. Когда он ушел, хорошенькая блондинка, жена моего режиссера, сжала мне руку под столиком, улыбнулась вполне ободряюще и сказала:
– Это был сам Брст…
Или она сказала Прст. А может, даже Фрст. Я не очень хорошо разбираю на слух то, что они говорят.
– О, сам Фрст… – сказал я уважительно. И пожалел, что она не сообщила ничего более утешительного. Оказалось, что именно это она и намерена была сделать. Она спросила меня почти по-французски, где я ночую, и я машинально перевел это для себя: «Где вы ночеваете?» (Я иногда и свои собственные иноязычные фразы перевожу для себя на ломаный русский.) Я пожал плечами, а она сказала, что я могу пойти к ним, у них здесь комната. И погладила мне руку. Это было приятно. Впрочем, один из актеров сейчас же окликнул ее из-за соседнего столика с упреком:
– Труди!
Она объяснила, что этот актер очень любит ее мужа. Он и будет его любить, а мы ляжем с ней.
– А как же муж? – спросил я ее безъюморно, точно я был комиссар Фурманов.
Она терпеливо объяснила, что продюсер, который сейчас разговаривает с ее мужем, скорей всего, и будет любить ее мужа, так что ее муж нам никак не помешает. Я вежливо объяснил, что я боюсь осрамиться. Что у меня ничего путного не получится в присутствии ее мужа, даже если он прихватит в постель и актера с продюсером. После этого жалкого объяснения мне стало просто безысходно грустно. Боже, прости нам всем…
Сам видишь, дорогой Владимир, какие идейно незрелые мысли приходят мне в голову в этой стране, где атеистическая пропаганда стоит на низком уровне, христианская партия так сильна, а население так язычески бездумно.
Обнимаю.
Твой Зин.
Письмо пятоеАльтенсберг
27 ноября
Дорогой Владимир!
Я не знаю, отсылать ли это очередное письмо, и даже не знаю, писать ли его. Написанное и неотосланное тяготит почти так же, как просто написанное, хотя полезность воздержания в этом случае, казалось бы, очевидна. Феномен этот еще толком не исследован. Это, кстати, связано с вопросом о том, писать или не писать вообще. Пиши, если не можешь не писать («не могу молчать» и прочее). Казалось бы, говорить тут не о чем: человек становится литератором и пишет. Если признать право такой профессии на существование, можно примириться и с тем, что он пишет. Ну а когда написано, он идет дальше, ищет читателя…
Мотивы этого занятия бывают разнообразными, не всегда этичными (скажем, пишущим движут низменные чувства – ревность, злоба или даже корыстолюбие). Но зачастую побудительные мотивы оказываются вторичными, мало кому интересными, а вот сам текст…
Мне казалось, что я пишу тебе оттого только, что я здесь так одинок, что вокруг меня некий вакуум. Потом мне вспомнилось, что вакуум образовался не сейчас, а гораздо раньше, еще на родине. Я вспомнил, как он начал ощущаться мало-помалу, хотя внешне сохранялось впечатление, что я человек общительный, иными даже любимый.
На самом деле я замечал перемены: новые знакомства, хоть и возникали иногда, почти не получали продолжения. Я никогда не встречался с новым знакомцем более одного-двух раз. Что же касается старых друзей, то я утрачивал потребность в общении с ними, и результат был плачевным: они отходили от меня, уходили в собственные заботы и новые связи. Оставалась жена, Конкордия, но и здесь оставалась лишь иллюзия общения: все чаще, протягивая к ней руку, я мог нащупать только пустое место – пустой стул напротив, пустую подушку рядом, пустоту в ее взгляде.
Никогда, конечно, этот вакуум не был столь полным, как здесь, за границей. В ход пошли все, можно сказать, средства достижения одиночества – расстояние, неприкаянность, бездомность, языковой барьер, разлука с сыном, раздельная жизнь с Кокой и наше с ней все более возрастающее непонимание друг друга.
В общем, если тебе угодно будет объяснить этот поток писем, хлынувший на тебя из чужой страны, моим одиночеством, ты не будешь так уж не прав, дорогой Владимир, хотя к этому можно будет прибавить и другие обстоятельства, которые ты как человек, не лишенный воображения, без труда представишь себе. Впрочем, о них в другой раз и, может, наконец из другого места, потому что Альтенсберг надоел мне изрядно. Не уезжаю, кажется, лишь по той причине, что изверился в перемене мест.
Не сочти это баловством и причудой, поверь, что мне и впрямь опостылел древний, прекрасный Альтенсберг с его барочной ратушей, с его ренессансным замком, с узкой улочкой и магазинами (все как есть хорошие и разные, точно русские поэты), с его закопченными окраинами и аккуратным модерном. Ты можешь вспомнить, что я описал все это еще до отъезда. Что ж, я не кривил душой: я предвидел, оказалось, провидел… Конечно, тогда отчасти я себя еще уговаривал, точнее, отговаривал. Сейчас пишу так, потому что мне и на самом деле здесь плохо. А где хорошо? Вот уж этого я точно не знаю. Помнишь старый анекдот про еврея, который долго и безнадежно крутил глобус в кабинете милицейского начальника, разрешившего ему уехать, а потом спросил: «Послушайте, а у вас нет другого глобуса?»
Но другого глобуса и правда нет, с чем надо примириться и дотянуть на этом.
Твой Зиновий
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































