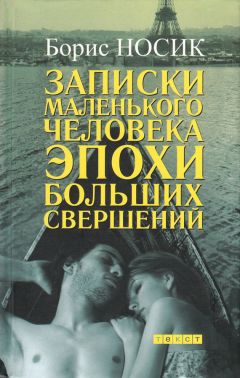
Автор книги: Борис Носик
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
– Мы пойдем сегодня к Люси! – восклицал он. – У нее здесь лучший виски.
«О, здесь умеют разбавлять виски», – добавлял он с восторгом.
Улыбка Люси была для него как личное поздравление президента, а признание Элен, торгующей бретонскими блинами с начинкой в собственной «крепери»[17]17
Блинной (фр).
[Закрыть], – не меньше ордена Подвязки или на худой конец Креста Виктории.
Съев десяток блинов с шоколадом в заведении Элен, Русинов разнеженно глядел на яхты в гавани, вспоминая утреннее купанье. Временами он переставал следить за разговором спутников, и тогда ему приходили на память прежние, домашние друзья-интеллигенты, точно так же вот искавшие себе экологическую нишу в чужой жизни и чужих мирах. Один присосался к исмаилитам Памира. Другой к золотоискателям. Третий к лесосплавщикам. Американская жизнь представлялась Русинову (впрочем, он готов был признать свою неосведомленность) достаточно пресной, чтобы ее можно было бросить ради бретонского Лакрона…
– О да, Рикардо! Слышишь, Семен? Рикардо…
Русинов не заметил, отчего и когда речь зашла о Рикардо, но с готовностью подтвердил:
– О да, Рикардо! О Рикардо!
Вскоре все прояснилось. Рикардо – это был бородатый скульптор-испанец, тот самый, из «Селекта». Так вот он, этот Рикардо, сам построил себе дом на клочке земли, купленном у бретонского фермера.
– О, эти бретонские фермеры! – воскликнул Джон. Русинов отметил для себя, что на шкале человеческой ценности бретонские фермеры, видимо, стояли у деклассированного американца на втором месте, после рыбаков. И пока Русинов осмысливал и обсасывал этот факт, глядя в атлантическую даль, пьющая (и платящая) часть компании твердо решила, что завтра они все вместе отправятся на ферму Рикардо, а сейчас…
– Сейчас в бордель! – сказал разгулявшийся Русинов.
– Это здесь сложней, – сказал Джонни, заказав еще виски и приготовившись к длинным объяснениям. У него была собственная классификация бретонских женщин (если и не научная, то вполне восторженная) и даже особая классификация портовых шлюх, тоже, по его словам, отчего-то подолгу морочащих голову клиенту. Этот бретонофильский монолог Русинов пропустил мимо ушей как мало для него актуальный. Он понял лишь, что должен встать из-за столика крепери и следовать за Джонни. Они отправлялись то ли в найт-клуб, то ли в какой-то ночной дансинг, в общем в прибрежное гнездо разврата.
Если бы в юные годы кто-нибудь сказал ему, что в найт-клубе, да еще во французском найт-клубе, да еще в портовом бретонском найт-клубе на атлантическом побережье Франции может быть скучно, Русинов тут же заподозрил бы, что дезинформатор подослан местным райкомом партии. Между тем именно эта элементарная скука мучила Русинова в прославленном лакронском найт-клубе. Кроме них троих, здесь тосковали еще два туриста и один рыбак. Зал обслуживала тощенькая криворотая Мари, а за стойкой толпились втроем хозяин, толстая страшная хозяйка и прыщавый мальчик.
Джонни интимно (и с тем же придыханием восторга) сообщил Русинову на ухо, что хозяин живет с криворотой Мари, а хозяйка с прыщавым мальчиком (что он выяснил далеко не сразу, о, здесь умеют хранить тайны!). Разоблачение это, впрочем, не прибавило найт-клубу в глазах Русинова ни веселья, ни привлекательности, хотя криворотая фам фаталь[18]18
Роковая женщина (фр).
[Закрыть], меняя стаканы у них на столике, и подарила его необычно долгим взглядом. Мало-помалу Джонни и Олег перебрались к стойке, а потом ушли танцевать по очереди с криворотой Мари. Позднее они разбудили Русинова и вывели его на свежий воздух. Еще раз Русинов проснулся, когда Олег выходил из машины.
– Джонни заберет тебя спать на яхту, – сказал Олег. – А если хочешь – спи здесь.
Машина стояла на набережной. Почти все кафе были уже закрыты, ночной Лакрон затихал. Перспектива тащиться на яхту, стоявшую на рейде, показалась Русинову несоблазнительной, и он только махнул рукой. Засыпая, он еще пытался позавидовать Олегу, которому, если этнографические и сексологические наблюдения Джонни окажутся неверными, вероятно, предстоит еще… Русинов проснулся на заднем сиденье машины глубокой ночью. Ему стало холодно. Он отыскал Олегов свитер, переменил позу и подумал, что во всех этих неудобствах была для него какая-то неясная еще для него самого бродяжья сладость. Так или иначе, это был бесплатный ночлег в чужой машине, что совсем неплохо. А что было бы без машины? Скамейка в парке? Лесная опушка? Может, даже сухой кювет…
Первым на набережной появился Джонни. Было еще совсем рано. Русинов сидел за уличным столиком под непогашенной вывеской еще запертого кафе и смотрел на нежно-розовую лакронскую бухту. Джонни раздобыл себе где-то кофе и виски и очень гордился тем, что все может достать в Лакроне, даже в такую рань. Трезвый и мудрый с утра, он рассказал о коварстве бывшей жены, о неизменно двусмысленном положении американского эмигранта. Для французов он оставался всегда миллионером и представителем супердержавы.
– Вы тоже, – сказал он Русинову.
Русинов покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Я больше никого не представляю. У меня нет никого, ничего. И никакого прошлого.
Сказав так, он почти тут же понял, что это неправда. Россия была у него за спиной, с ним до конца, хотя это, может, и не имело больше никакого значения. Ни для него, ни для нее. А может, все же имело?..
Джонни вставал несколько раз, чтобы проследить за маневрами своей яхты, стоявшей под ветром на якоре. Когда он возвращался, они продолжали свою мирную беседу. Около полудня появился Олег. Он так сдержанно рассказывал о своих успехах, что Джонни подмигнул Русинову: уж он-то знал бретонских шлюх и все эти сложности, даже если шлюха, даже если за деньги. Русинов склонен был относить сложности на Олегов счет: слишком уж он много пил…
Когда джентльмены выпили виски, вся компания села в машину и поехала к Рикардо.
* * *
Море скрылось за косогором. Здесь были мирные зеленые холмы, поля, старинные фермерские дома и сторожевые башни церквей, каменные кресты «кальверы», унизанные нескладными фигурками святых и пророков.
На задворках большой фермы Рикардо построил себе из грубых камней просторный дом, похожий не то на сарай, не то на пастушескую хижину в горах. Скульптор был коренастый, могучий и бородатый мужик. Он сразу, во избежание недоразумений, объяснил им, что он не испанец, точнее, не просто испанец: он галисиец, а это не одно и то же.
Джонни, кажется, не осознал важности этого сообщения (у них там в Америке всякий не американец, а кто-то еще), однако Русинову это было знакомо: аварец – это не дагестанец и лакец – не дагестанец тоже, карачаевец не совсем балкарец, а южный осетин коренным образом… В эпоху, когда океан панельных бараков теснил человеческое жилье, люди еще более цепко, чем прежде, держались за эти невидимые простым глазом различия. И самые черные из предрассудков, давно отосланные передовой наукой куда-то на свалку истории – в эпохи феодальной и даже дофеодальной дикости, – заявляли о себе сегодня нежданными взрывами, с корнем вырывая унитазы в совмещенных сортирах новостроек.
Итак, Рикардо был галисиец, левый анархист и скульптор-модернист. Поэтому он купил кусок земли (так делали все буржуа), сам построил свой курень (так делали все скульпторы), а с приходом гостей немедленно затеял яичницу по-галисийски. Впрочем, для начала настоящие мужчины взялись за виски, а Русинов побрел осматривать ферму. Хозяин ее, как и положено, был нелюдимый, мрачный, неподкупный бретонец. Русинов догадывался, что это значит: он не пойдет тебе сам навстречу и не потащит тебя сразу в дом на обед, как сделал бы таджик. Он будет стоять независимо, как монгол, ожидая, что ты заговоришь сам и напросишься к нему в дом. И Русинов не заставил его ждать долго. Он подошел сам, поздоровался, спросил о ценах на овес, посетовал на тяготы фермерского труда и без особого риска ошибиться предположил, что фермерские дети бегут в города. Потом он осмотрел хлев с коровами, клетки с собаками, курятник, а также сарай-гараж с трактором и машинами. А потом, все же робея немного, попросил разрешения осмотреть дом.
Фермер ничего не ответил. Он повернулся и пошел к дому. Русинов пошел ему вслед. Он обожал старые крестьянские дома – еще с той поры, когда мальчишкой впервые попал в деревню (между Яхромой и Подьячевом), где после пролетарского убожества Мещанских улиц Москвы в первый раз вдохнул пыльный древесный запах сельского дома, увидел просторные сени («мост» по-местному), чердак, таинственную комнатку на мосту, с сундуками, свежими вениками, травами, увидел деревянные лесенки, ведущие на сеновал, в коровник и сортир…
Бретонский дом не обманул его ожиданий. Здесь была гигантская кухня со старой печью и старыми шкафами (новый холодильник был похож на сундук в углу и почти не портил интерьера), множество каких-то, по всей видимости, нежилых комнат на втором этаже, где стояли старинные буфеты, сундуки и шкафы с бесчисленными ящиками (что там в них – может, любовные письма графа из соседней разграбленной усадьбы?).
– Есть еще один дом. Тот получше, – сказал фермер. – Только там совсем жить некому.
Он привел Русинова в темную комнату, похожую на кабинет алхимика: мерцали в полумраке старинной формы бутыли, колбы, трубки.
– Сидр, – сказал фермер, – выпьем сидру.
– Спасибо, я не пью! – сказал Русинов. Фермер даже не притворялся, что он обижен. Если бы Русинов стал сейчас вдаваться в подробности, то мог бы рассказать, что не пьет с того самого первомайского праздника, когда они, еще десятиклассниками, до блевоты напились после демонстрации дешевого сидра (кто б мог предвидеть – именно сидра), изготовленного Останкинским заводом безалкогольных напитков.
– Большой дом, – сказал Русинов. – Хозяйство большое.
– Работать некому, – сказал фермер. – Сын уходит в армию.
– Я мог бы к вам наняться… На весь год. Но на полдня работы.
– А где будешь жить? – спросил фермер.
– Я мог бы приезжать… А мог бы и у вас поселиться…
– Живи тут, места много, – сказал хитрый фермер.
– Можно и тут, – сказал хитрый Русинов.
– Много я тебе платить не могу, – сказал фермер.
– Триста пятьдесят в месяц и питание, – сказал Русинов (это была нищенская оплата). – Жить буду во втором доме.
– Триста и питание.
– Пожалуй, – сказал Русинов.
– Выпей сидра, – предложил фермер.
Русинов понял, что он доволен сделкой, и еще раз отказался от сидра. Русинов был представлен кудрявому сыну фермера и сделал безуспешную попытку познакомиться с его девятнадцатилетней дочерью, грубой и некрасивой девицей. Она мялась при этом и пятилась, как девушка из урметанского кишлака.
Когда Русинов вернулся в хижину Рикардо, яичница по-галисийски уже дымилась на столе.
– Где ты был? – крикнул Олег.
– Я был у фермера… – сказал Русинов.
– О, это крепкий орешек! – сказал Джонни. – Они не будут с тобой разговаривать.
– Я еще никогда у него не был, – сказал Рикардо. – Но мы уже здороваемся.
После завтрака гости в срочном порядке были погружены в машины, и Рикардо с женой отвезли их на океанский берег, где они собирали улиток, морских ежей и еще какую-то шевелящуюся живность, чтобы сожрать ее живой в соответствии с традициями изысканной французской кухни.
После трапезы начались беседы о политике, а непьющий Русинов ушел гулять в поле. Поле было окружено бордюром из маков, роз и маргариток. Откуда-то из дальнего городка доносился звон колоколов. Жужжала тоненькая проволочная изгородь, подключенная к электроустройству «горизонт», и наученные опытом коровы послушно паслись в отведенном для них квадрате, опасаясь жужжащей проволоки (впоследствии Русинов, поднося к губам стакан с молоком, ожидал, что его дернет током).
После обильного обеда-ужина разговор за столом вернулся на круги своя. Говорили о необходимости порядка (Рикардо уповал на анархию) и неизбежности беспорядка (Олег, как все русские, был пессимист), о нечистоплотности капиталистов («саль капиталист», «грязный капиталист»), о том, кто больше не прав и какой народ лучше. Русинов пытался уснуть, в полудреме разыгрывая в деталях свою жизнь на ферме. Так как его естество, угревшись в послеобеденном тепле, наконец воспряло, то и проблема пола, естественно, занимала в его виденьях приличествующее (хотя и неприличное) место. С сельским хозяйством он мысленно справлялся без труда, с бретонским фермером у него установились вполне пристойные отношения, но корова-дочка неизменно его искушала. Однако он понимал, что если жениться на дочке, то придется вкалывать полный день. Да он и не хотел жениться, даже мысленно. Прогулки со скучающей вдовой по окрестностям отчасти разрешили сексуальную проблему (вдова была в его видениях интеллигентна и не лишена прелести). Однако общественное мнение (в лице того же фермера) немедленно предъявило моральный счет ленивому эмигранту. К тому же вдова, лишенная других развлечений, стала чересчур навязчива… В общем, так или иначе, ему приходилось бежать. Бежать? Куда бежать?
Потеряв всякую надежду уснуть, Русинов пошарил вокруг своего спартанского ложа и нашел газету. Конечно, чтение газет не было тем адекватным общением, какого жаждала (и так давно уже не получала) его душа. Но все же оно могло оказаться содержательней, чем пьяная беседа, которая доносилась снизу и которая утратила уже всякий намек на содержательность и связность, вылившись в блаженный поток самовыражения.
– В «Селекте», – говорил Джонни, – совсем не с кем стало поговорить. Там не осталось людей. У рыбака Роже была дочка…
– Да. Вуаля, – крякал Олег. – Никого. Ни души. Когда бывал Питер…
– Я помню, как правительство предложило нам сдать оружие… – говорил Рикардо (по наблюдениям Русинова, он был не рожден для войн и оружия). – И тогда что сделали галисийцы… Нет, не каталонцы, не баски, а галисийцы…
Русинов уже в третий раз перечитывал какую-то заметку, когда блаженная дрема стала наконец к нему подкрадываться. В ней утвердились азиатская истома, протяжная музыка, чайхана, какие-то полузабытые слова – муаллим, рахмат, мдина, акбар, рабат, рабби… Русинов открыл глаза. Что-то вторглось в его сон, грубо толкнув его. Он прислушался. Внизу по-прежнему талдычили все то же, впрочем, еще менее связно. Рука нашарила газету, и теперь смутный смысл французских слов вдруг прояснился видением подвала в клубе, болезненным ощущением от ствола парабеллума, упертого в живот… Он перечитал заметку. В ней говорилось, что группа террористов (кто-то заметил двух темнолицых арабов и бородатого кудрявого европейца, полиция занимается розыском – где ей, сердечной?) убила в Голландии миллионера Рабба и перебросила через границу во Францию… Старичок Рабб нажил свои деньги («награбил свои грязные миллионы») на послевоенной торговле и мирно играл в картишки, в свободное время занимаясь к тому же благотворительностью. Его труп был изрешечен пулями и запихнут в багажник бээмвэшки… Русинов сразу взмок на своих палатях. Он услышал пьяный голос Рикардо. Левый должен быть левым. Он должен быть настоящим галисийцем… Шоколадный мусс. Папа Мао. Интересы Дриспуччии. А партизаны, а белла чао… Его стало мутить, точно он снова, как в детстве, перепил сидру. Потом он явственно ощутил вкус шоколадного мусса и позывы к рвоте.
Нет, дело не в муссе. Не в сидре. Тошнота тайного. Как будто прикоснулся к дьяволу. Как будто толковал с русским кадровиком в его святая святых, придавленной железным шкафом, где хранятся прозрачные драмы человеческой жизни, возведенные в ранг постыдной тайны. Мир тайного. Мир тошного. Мир тошной силы…
Русинов осторожно спустился с палатей, бросился вон из хижины. Олег мочился в котлован новой постройки, затеянной Рикардо. Русинов встал рядом и поблевал.
– А я ничего, держусь, старик, – сказал Олег, икнув. Он, вероятно, забыл, что Русинов не пил с ними.
Русинов бросился к колонке, чтобы прополоскать рот.
– Куда ты бежишь? – медленно спросил Олег.
– Куда я бегу? – Русинов остановился. Его снова стало мутить.
Всю ночь его мучили кошмары. Он ехал в метро. Кто-то трогал его за плечо, и, обернувшись, он упирался лбом в Жан-Пьера.
– Ну как, старик, неплохо? – улыбался ему Жан-Пьер, и Русинов кричал в страхе от того, что не успеет все высказать и что кричит недостаточно громко:
– Нет! Плохо! Все у вас плохо! И я никакой тебе не старик, сволота. Вы еще пожалеете, недотыкомки! Вы еще кровью умоетесь, когда это вам все удастся… – Ствол парабеллума упирался ему в живот, но он не боялся выстрела. Страх его происходил от того, что никто не слышал его голоса. И он кричал все громче, все отчаянней: – Стреляй, сволочь! Стреляй! Сколько вас там было против старика мироеда? Ну, что же ты – ага, струсил, сволота, струсил…
Потом было какое-то застолье, и все сидели, повернувшись к нему спиной, и лиц не было видно, но он знал, что здесь где-то Жан-Пьер и те смуглолицые тоже. И Русинов снова кричал им что-то, плакал, умолял их одуматься.
– Идиоты! – кричал он. – Вы же кровью будете харкать! Вы же все нары займете по тюрьмам и сожрете друг друга в лагерях…
Но они сидели, повернувшись к нему спиной, и кругом был глухой город Париж, изрисованный детскими лозунгами…
– Ну что ты орешь, дурачок? – Олег похлопывал его по голове снизу. – Ну, набрался… Завтра в Париж поедем. Шанталь ждет…
Олег ушел к себе на лавку. Русинов с тоскою смотрел в дверной проем, снова чувствуя приступ тошноты. Утро не наступало.
* * *
Чтобы продлить свое пребывание в Париже, Русинову пришлось идти в префектуру. Это было неизбежное испытание, знакомое каждому эмигранту. Это был день, когда эмигрант больше не был профессором, рабочим, писателем, врачом, мужем Шанталь, властителем дум. Он был просто эмигрант и остро ощущал это свое качество, отчего-то им самим воспринимаемое как унижение. Взгляд этот был навязан извне, и его словно сговорились утвердить полицейские, отпиравшие в восемь ворота префектуры на острове Сите, а потом весь день гонявшие это непонятливое стадо по загородкам. Его поддерживали замотанные и на редкость высокомерные служащие префектуры.
К середине дня Русинов успел прийти в бешенство и бранился по-русски и по-французски. Стоявшие рядом с ним итальянец и русский унимали его, доказывая, что он не прав. Оба до смешного одинаково и почти на одинаковом французском утверждали, что в Италии (и соответственно в России) он простоял бы в полиции гораздо дольше и еще вряд ли бы что выстоял. Русский с удивлением добавил, что реакция Русинова похожа на критическое отношение к капиталистической действительности. И тогда Русинов взорвался. Он сказал, что он не давал при въезде подписки о некритическом отношении к этой действительности. Более того, он никогда не верил в полное благоустройство и благополучие, которое должно начаться сразу по эту сторону границы.
– И все-таки немножко верили? А? – спросил русский.
Русинов помолчал, порылся в памяти, признался:
– Чуть-чуть, пожалуй, да. Не то чтобы в Царство Божие на земле, и все же…
Полицейский поставил две железные перегородки и начал процеживать толпу к лестнице.
– У всякого государства свой порядок, который надо уважать, – сказал итальянец.
– Да, да, вот именно, порядок, – пролепетал русский, улепетывая в узкий проход.
Русинов крикнул им вслед по-русски:
– Сволочь…
Вот сволочь! Они были дома конформисты, и теперь они конформисты здесь – все им нравится, всем готовы лизать, только еще не знают кому…
Получив в конце концов продление своего срока (срока жизни. Оставалось выяснить какой? В каком состоянии духа?), Русинов медленно побрел прочь от острова Сите и префектуры. Утром звонил Дашевский, который выбил для него какой-то аванс: это опять сулило продление неопределенного существования, в общем-то необременительного, но бесцельного, как нынешняя его прогулка по Парижу.
От Рынка Цветов Русинов дошел до Мадлен, понаблюдал проституток с ключами, полюбовался невиданными фруктами в витрине шикарного магазина и побрел дальше. Ему попадались все те же туристы, буржуа, служащие и левые интеллигенты (последнее здесь оказалось тавтологией, интеллигенты – значит, левые). Он подумал, что западный плюрализм (как склочно сказал бы комментатор московского телевиденья) на поверку оказывался мифом. Ну да, были чудаки, было разнообразие хобби, ну так ведь и в заводском клубе Ярославля бывает с полдюжины разных кружков «по интересам».
Впрочем, на площади Оперы Русинов увидел нечто новое: молодые люди в белых и оранжевых хитонах, обритые почти наголо (на бритой голове мотался лишь чуб, наподобие запорожского) пританцовывали под звуки каких-то инструментов и напевали:
Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна, Кришна, Харе, Харе,
Харе Рама, Харе Рама,
Рама, Рама, Харе, Харе…
Русинов подошел ближе и был наказан за свое любопытство. Один из этих остролицых изможденных юношей всучил ему за два франка журнал про Головобога, Учителя Шактиведанту и секту «Харе Кришна». Русинов получил заодно и вручаемое всем приглашение на ежевечерние собрания секты в молельном доме возле метро «Аржантен». Его звали принять участие в песнопениях, чтении «Бхагавад-гиты» и вегетарианском ужине.
Ровно в семь аккуратный неофит Русинов, робея, ткнулся в вестибюль двухэтажного дома на тихой улочке недалеко от Булонского леса, разулся и в носках вошел в маленькую залу на первом этаже. Здесь несколько обритых юношей в оранжевых хитонах уже стояли в нише и клали поклоны перед странными темнолицыми куклами, одна из которых была похожа на собаку. Другая, у которой лицо было голубое, вероятно, и была богом Кришной. Юноши, напевая что-то непонятное, кадили индийскими курениями, разбрасывали цветы по зале. Потом началось общее моление. Русинов за компанию приплясывал в шейковом ритме на кафельном полу, напевая про Кришну, Кришну, Раму, Раму, пока ноги у него не замерзли. Тогда он уселся на площадке деревянной лестницы и теперь выражал свое участие в молебне только улыбкой. Потом все перешли на второй этаж, уселись на полу, и дежурный гуру стал читать из «Бхагавад-гиты» на санскрите и на французском, а также толковать прочитанное на какой-то смеси европейских языков. Как и всякая другая теология, толкование это с трудом доходило до ленивой головы Русинова, усыпленного ритмической молитвой, танцем, а также атмосферой благодушного доброжелательства. В конце этого бесконечно длинного урока коренастый плотный человек подсел к Русинову и резко спросил:
– Ты кто?
– Человек… Кто еще? Русский. Из Союза.
Однако плотный человек не удовлетворился ответом и хотел проникнуть в суть вещей. Ему недостаточно было вежливо французского: «Советик?» Или уточняющего «рюс рюс?».
Дознавшись, что Русинов был еврей, человек с гордостью перечислил членов секты, которые, по его догадкам, были евреи, хотя называли себя шведами, американцами, англичанами. Еще процентов сорок, по его сведениям, были армяне, хотя называли себя американцами и ливанцами. Сам плотный человек был армянин с двойным подданством – советским и тунисским. Звали его Вартан. Он не мог выбраться в Кузьминки, где жила его семья, не ехал в Тунис, где ждали его дом и лавка, потому что дела фирмы «Духовное небо» задержали его в Париже. Он объяснил, что фирма обслуживала секту, а секта – фирму. Фирма продавала индийские благовония, секта распространяла слово правды. После урока, чтений, бдений и вегетарианского ужина, приготовленного индусом-поваром, Вартан повел Русинова в общагу фирмы и здесь познакомил его со своим братом, великим кришноведом-эрудитом.
– Насчет армян не слушайте его, это все чепуха, – сказал брат.
Вартан скептически улыбался, слушая прекраснодушные суждения брата, – ему было ясно, что армянин – это армянин, а еврей – это еврей.
– Наше временное воплощение не так уж существенно, – сказал брат-эрудит. – Воплощение это преходяще и краткодневно. Да и что она означает, точка земного шара, в которой ты родился?
Брат приехал из Америки. Оставив непонятного голуболицего Кришну, Русинов и брат с удовольствием толковали об американской литературе, о «старой» и новой родине, о цветаевской рябине. Брат Вартана презирал потуги Фолкнера и Уайлдера, это натужное цепляние за точку поверхности, за приверженность месту и традиции. Ему были смешны национальные украшения Беллоу и Маламуда.
Вартан снисходительно слушал их разговоры. Он был реалист из Кузьминок, очень точно знавший, что следует покупать в магазине «Тати» по соседству с фирмой на бульваре Барбес-Рошешуар. В то же время он был исступленный мистик, которому долгое половое воздержание и вегетарианская пища все чаще давали возможность трансцендентного видения. Воздержание не вдохновляло Русинова. Вегетарианская пища его не отпугивала. Перебирая в памяти пишущих вегетарианцев, он наткнулся на абсурдного старика Шоу и затосковал о шашлычном запахе бухарского Ляби-Хауза.
Возвращаясь в мансарду, Русинов вспоминал мальчиков и девочек из «Харе Кришны». Они выглядели истощенными, но были довольны жизнью. Те, что носили оранжевые хитоны, блюли целибат. Обладатели белых хитонов жили с детьми и женами, но сексом занимались редко, исключительно с благородной целью продолжения рода. Они улыбались друг другу и ели фрукты. В своем загородном ашраме они дышали воздухом, танцевали, заклиная бога Кришну, а в промежутке между молениями производили духи для фирмы Вартанова брата.
Итак, это был коллектив. В одиночку петь свое «Харе, Харе» им было, наверное, скучно. Они собрались, чтобы петь и работать в коллективе… Русинов с наслаждением подумал о своей пустой мансарде и Олеговой книжной полке…
Утром Олег поймал Русинова на лестнице и повел его на завтрак. Завтракать с Олегом было занятие малополезное, так как Олег с утра ничего не ел. Он пил виски или пиво. С другой стороны, такой завтрак не таил в себе и особой опасности, ибо Русинов знал наперед все, что скажет Олег. Это было как послание из далекого прошлого – студийный коридор, перекур на съемках, завтрак в гостинице с кодлой из съемочной группы. Олег уже поймал спозаранку свой легкий кайф, через пелену которого до него доходили слова Русинова, энергичные жесты Шанталь, звонки в дверь.
– Я больше никуда не спешу, – сказал Олег. – Я хочу дожить вот так, не спеша.
Он был моложе Русинова. Он вовсе не собирался умирать. Просто он нашел свой легкий кайф равнодушия ко всему, что происходит вокруг. В сущности, Париж мало что изменил в его жизни – лишь упорядочил его алкогольную эйфорию, ввел ее в разумные европейские рамки, лишил русского надрыва.
Глядя на Шанталь, Русинов думал о Софи. Она уже, вероятно, вернулась. В сущности, ему уже пора выйти из подполья. Она была так добра к нему, так нежна, за что же лишать ее удовольствия. У нее нет никакой вины ни перед ним, ни перед человечеством. Ее левый энтузиазм слегка занудлив, но, если сегодня вечером отвести ее на молебствия «Харе Кришны», она станет поклонницей Кришны. Может только в первые дни она будет еще сбиваться на молитве: «Мао-Кришна, Мао-Кришна, Кришна, Кришна, Мао, Мао…» Однако товарищи из дружного коллектива «Харе Кришны» поправят ее, и она забудет светлое имя кровавого председателя…
Надо ей позвонить… Мысль о том, что каждый разговор из дома стоит здесь тридцать сантимов, усложняла для Русинова и без того щепетильную здешнюю жизнь. Он решил попросту двинуться в центр и поискать ее на работе, в туристическом агентстве возле эспланады Инвалидов.
Она была на месте. Ему стало стыдно, нет, скорее, все же неловко, когда он увидел, как она рада ему. Она торопливо рассказывала что-то о путешествии, об атцеках, о мальтеках, о тамошней непонятной жизни, совсем непохожей на нашу. Об их нищете, да, нищете и проникновении американского капитала. Она произнесла это, впрочем, без уверенности, на всякий случай, да он и не ждал от нее никаких выводов – бедная девочка летает по свету, видит непонятную, такую далекую от нее жизнь – спасибо, есть хоть еще эти слова, эти пригодные на все случае жизни формулы, которые помогают ей защититься от непонятности и бессвязности впечатлений – нищета, проникновение капитала…
Вошел ее шеф и неожиданно предложил Русинову работу – ездить с тургруппами, путешествовать, чуть-чуть переводить, чуть-чуть улаживать дела, чуть-чуть зарабатывать при этом, конечно…
Русинов сказал, что он подумает, а она была рада, что у него будет такая работа, рядом с ней, привязанная к Парижу…
Обедали у нее дома, а потом Русинов повел ее на молитвенный вечер в «Харе Кришну» и там, наблюдая, как она танцует, робко подпевая: «Харе Кришна, Харе Рама», – он вдруг сказал, неожиданно для самого себя: «Опиум для народа. Проникновение капитала…»
И тут же пожалел о своих словах, увидев на ее глазах слезы, тут же раскаялся, гладил ее спину весь молебен, а потом даже повел ее в кино (очень дорого, недопустимая роскошь в этом городе, страшное мотовство).
Назавтра он снова без цели бродил по городу, по излюбленным своим эмигрантским кварталам, за Рошешуаром и в Бельвиле… Проходил по темным коридорам, где черные лица сливаются с мраком, забирался во дворы и перенаселенные шанхаи, а потом вдруг на одной из убогих, обшарпанных дверей увидел дощечку с именем – «Размик Хачатрян». Так звали старшину со склада ПФС, еще во времена солдатской службы Русинова. Может быть, это он и есть, тот самый Размик, вернувшийся с эчмиадзинских задворков в парижские трущобы. Войти вот так и сказать: «Размик, ахпер-джан, бареф!» И окажется – не он. Нет, нет, куда лучше выйти на бульвар, сесть на скамейку и проиграть все не спеша – и эту встречу, и то, что было в Армении, в армии, в юности, он ведь тогда женился на ростовской беленькой шлюшке, тот Размик, а она пошла однажды искупаться в городском бассейне (подумать только, жена эчмиадзинского армянина пошла купаться – в купальнике, в бюстгальтере и трусах, конечно, но все равно, голая под трусами и бюстгальтером, о, позор, о шлюха, – развод!). Кстати, чем она занимается здесь, твоя жена, Размик, тутошний Размик с Барбес – может, и правда стоит на бульваре Клиши, бренчит ключами на Сен-Дени и рю Блондель, пособляет мужу поддерживать уровень?
Русинов увидел в тот день много странных вещей. Впервые в жизни он увидел настоящую биржу, биржевых маклеров, которые орут, как сумасшедшие, и поднимают пальцы, и звонят куда-то, и машут руками. Он видел в здании биржи мемориальную доску биржевых маклеров, павших в годы войны с оружием (или чем-то еще) в руках (такая же точно стоит на «Мосфильме», и в Доме журналистов, и в московском ЦДЛ). Он видел испанку-нищенку, индуса-музыканта и красивую таитянку. Он стоял добрый час на станции метро «Одеон», зачарованный музыкой, долетавшей из длинных сортирно-крысиных переходов. В одном играла флейта, а в другом скрипка, весело-печальная музыка, глубоко под землей… Иногда вместе с музыкой до него доносился шорох атлантической волны, и звук этот сливался с плеском весла, долетавшим с верхневолжского озера Пено.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































