Текст книги "Борис Пастернак"
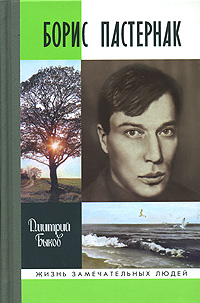
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 77 страниц)
Вернувшись из Тифлиса, он застал обоих сыновей Зинаиды Николаевны в кори, потом Адик заболел скарлатиной, а Стасик ветрянкой, и новый, 1934 год встречали в обстановке непрекращающейся дезинфекции, без дров и вдобавок без воды, что затрудняло дезинфекцию многократно. Обе комнаты, всю мебель, все вещи пришлось опрыскать формалином. Пастернаки, впрочем, старались не унывать – он так и пишет Тихонову: «1-го сели с Зиной друг против друга выяснить, кто из нас первый не выдержит этих молчаливых переглядок и рассмеется». Рассмеялись оба. Все-таки они были еще молоды, и любовь их была сильна.
3В начале 1934 года определяется тот во многом таинственный, но глубоко логичный поворот в судьбе Пастернака, следствием которого стала его недолгая – примерно до середины 1936 года – советская слава. Это был период, когда на него явно возлагались особые надежды: в нем желали видеть государственного поэта. Он представлялся идеально компромиссной фигурой, устраивающей всех: любимец интеллигенции, виртуоз стиха, активно включился в работу Союза писателей (пусть в качестве члена грузинской бригады), явно работает над собой, переводит стихи с родного языка вождя… чего еще надо?
Его просоветская ориентация была несомненна, – а между тем в стихах «Второго рождения», вышедшего вторым тиражом в начале 1934 года, не было и тени сервильности. Ему завидовали. Его дружба с Бухариным, которого 22 февраля 1934 года расчетливо бросили на «Известия» вместо Тройского (ушедшего якобы по болезни), многим колола глаз. Бухарин после своего прошлогоднего покаяния был реабилитирован, наметилась очередная «оттепель» (Сталин их устраивал с похвальной регулярностью), после разгрома РАППа попутчики были в чести, – словом, сбылось пророчество Маяковского, высказанное еще в 1927 году: время задвинуло Маяковского и выдвинуло Пастернака.
Этот процесс был сложен и не сразу заметен. 6 марта 1934 года в «Известиях» появилась большая подборка Пастернака «Из грузинских поэтов». Пастернак стал постоянным автором «Известий». Вскоре начался прием в ряды нового Союза писателей СССР – Пастернака принимают одним из первых. Планируется Всесоюзное совещание поэтов, и в мае 1934 года Пастернак вновь подвергся нападкам бывшего товарища по «Лирике» и ЛЕФу – Асееву на этот раз не понравилось, что Бориса Леонидовича интересует даль социализма, а от насущных тем он отворачивается. 13 мая, в докладе о поэзии, Асеев упрекает Пастернака «в обскурантистском воспевании прошлого за счет настоящего». Асеев в докладе противопоставлял «наше», советское мастерство Кирсанова – изощренному Пастернаку; тут уж даже Сурков, который всю жизнь Пастернаку отчаянно завидовал, – возразил, что техническая виртуозность Кирсанова не имеет ничего общего с подлинным, хоть и «чуждым» мастерством Пастернака.
Сегодняшнему читателю может показаться безумием эта бурная, государственно опекаемая дискуссия о лирике. В стране индустриализация, коллективизация, голод, великая ломка, жесточайшая внутрипартийная борьба – а писатели спорят о стихах, газеты печатают материалы к дискуссии, только что не принимаются постановления ЦК! Между тем дело было далеко не только в поэзии и уж явно не только в Пастернаке; действовала тонкая система эвфемизмов. Нельзя было в силу понятных причин называть вещи своими именами: решался вопрос о том, возможно ли советское искусство, то есть искусство, сочетающее мастерство с идеологической выдержанностью; следует ли отказаться от рапповской идеологической доктрины, ставившей во главу угла пролетарское происхождение и коммунистическую идейность, – или идеология РАППа подлежит лишь некоторой ревизии; то есть формальное мастерство уже допускалось, но писать по-своему было еще нельзя.
Асеев в своем докладе поделил всех поэтов на разряды, обозначив их «минус один», «минус два» и «минус три». В «минус три» у него попали Пастернак и еще ряд авторов, якобы сознательно уходящих от современной тематики. Асеев чувствовал, что раздача ярлыков – самый действенный метод советской полемики: обозвать Пастернака обскурантом – это могло прилипнуть… В «минус два» попали «исказители действительности», причем эти были в свою очередь поделены на два разряда: активные, то есть злостные (в качестве примера было названо «Торжество земледелия» Заболоцкого), – и пассивные, то есть невольные (тут попало молодому и талантливому Луговскому, конструктивисту-романтику, только что выпустившему отличную книгу «Большевики пустыни и весны»). В «минус один» попали литераторы, «скользящие по теме» – то есть небрежные, невнимательные, поверхностные и пр. Что касается плюса, то в «плюс один» угодили Кирсанов, Дементьев и Корнилов. Заметим, что из этой тройки до седин дожил один Кирсанов: Дементьев в припадке безумия покончил с собой, Корнилов был репрессирован в 1937 году, а позднее арестовали и его беременную жену Ольгу Берггольц, в заключении потерявшую ребенка. Поистине, слишком любить свою эпоху куда опасней, чем от нее дистанцироваться: Заболоцкий отсидел пять лет и все-таки выжил, Луговскому вообще ничего не сделали, а Пастернак не конфликтовал с государством напрямую до самой оттепели.
Ответ Пастернака был блистателен. Он выступил в прениях по докладу 22 мая. Перед этим выступлением, возмущаясь асеевскими идеологическими передергиваньями и «лефовской схоластикой», долго сидел в садике на Тверском с Тарасенковым: «Ну что я скажу?!» Тарасенков уговорил выступить. Пастернак произнес, как записывал Тарасенков, «трудную, но прекрасную речь». Убийственны для ассеевского доклада были два его тезиса. Во-первых, он заметил, что, «если бы рифмы подбирались не на словах, а на нефти или на прованском масле, поэзия лефовцев была бы совершенно бессодержательной». Эта метафора в расшифровке не нуждается: если подходить к слову только как к инструменту, видеть в литературе чистую прагматику – она утрачивает всякий смысл и перестает быть зачем-либо нужна. Во-вторых, если верить записи Тарасенкова, Пастернак сказал следующее: «Я не хочу, чтобы мы, говоря о своей любви и о своей сирени, обязательно указывали бы, что это не фашистская сирень, не фашистская любовь. Пусть лучше фашисты пишут на своей любви и сирени, что это-де не марксистская любовь, не марксистская сирень. Я не хочу, чтобы в поэзии все советское было обязательно хорошим. Нет, пусть, наоборот, все хорошее будет советским». Заканчивая свою речь, Пастернак сказал, что асеевские плюсы и минусы «отдают приготовительным классом», и призвал поэтов «беречь чувство товарищества».
23 мая, во второй день прений по асеевскому докладу, Петр Юдин заявил, что на писательском съезде основной доклад будет делать Бухарин – ввиду того, что сами поэты не умеют формулировать достаточно четко. Бухарин, горячо симпатизировавший Пастернаку, был знаковой фигурой – с ним было связано представление о либеральном крыле в партии. Это означало, что Пастернак – по крайней мере на время – выведен из-под критического огня и, как ни странно, поднят на знамя.
Глава XXV
«Вакансия поэта»
1Самое откровенное и определенное высказывание о тридцатых годах, как их мыслил Пастернак, – содержится в стихотворении, которое часто называют «Стансами». В оригинале оно названия не имеет, но это и впрямь парафраз пушкинских «Стансов» 1826 года, знаменовавший переход от умеренной и виноватой фронды к широкой и радостной лояльности – переход, о мере насильственности которого спорят до сих пор.
Судьба Пушкина переломилась в тот сентябрьский вечер 1826 года, когда Николай вывел его за руку к «ближнему кругу» и уверенно заявил: «Это мой Пушкин». Были ли «Стансы» попыткой самооправдания или закономерным этапом в творческой эволюции лучшего русского поэта – вопрос из разряда вечных; точка зрения Пастернака выражена недвусмысленно – он оправдывает Пушкина, ставит себя на его место, проводит явную аналогию с началом николаевского правления и объясняет неизбежность государственнических иллюзий.
Столетье с лишним – не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье.
Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.
В первой публикации («Новый мир», майский номер 1932 года) четвертая строфа отсутствует. Пастернак снял ее сам, восстановив год спустя в переиздании «Второго рождения».
Параллели между своей и пушкинской судьбой тут не по-пастернаковски откровенны и для автора лестны – не зря он призывает себя «утешаться параллелью». «И те же выписки из книг» – явный намек на собственное составление «иностранной лениньяны» в 1924 году, в сопоставлении с пушкинскими архивными разысканиями 1833–1836 годов. «И тех же эр сопоставленье» – поиски аналогий между нынешней властью и временами Петровских реформ, с двоякой целью: сделать власти комплимент «в доступной для нее форме» и одновременно задать ей некий ценностный ориентир, призвав к созидательности и великодушию. У Пушкина этот призыв более отчетлив, прямо императивен – «Во всем будь пращуру подобен… И памятью, как он, незлобен». пастернаковский призыв завуалирован. И вообще, если в пушкинском стихотворении главное – попытка воздействовать на власть и предупредить друзей о своем новом статусе, то для Пастернака вся проблема – в самооправдании; очень уж непривычна для него роль лояльного к власти, полноправного гражданина своей страны и вдобавок первого поэта.
Интересно, что советская власть, почувствовавшая в Пастернаке пушкинского преемника и фигуру, типологически близкую Пушкину, – разобралась в основах пастернаковского мировоззрения лучше иных критиков. Скажем, гораздо лучше Ходасевича, писавшего так: «Разумеется, я не буду всерьез „сравнивать“ Пастернака с Пушкиным (…). Но эпохи позволительно сравнивать. (…) Наряду с еще сопротивляющимися – существуют (и слышны громче их) разворачивающие, ломающие: пастернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском большевизме услышали его хулиганскую разудалость – и сумели стать „созвучны эпохе“. Дальше там – о распаде языка, который Пастернак будто бы разрушал…
2Ошибочно было бы представлять российскую историю как чередование оттепелей и заморозков; все обстоит несколько сложней – цикл тут не двухтактный, а четырехтактный. Цикл исторического развития состоит в России из четырех повторяющихся стадий: реформаторство, радикально разрушающее прежний уклад и переходящее в торжество безнаказанной преступности; последующий период резкого дисциплинарного зажима; оттепель, сохраняющая «режим» и выпускающая пар; застой с переходом в маразм. Прослеживается такая закономерность с тех пор, как можно говорить о едином русском государстве, и не изменилась до настоящего времени. Как отдельные герои, так и «массы» не имеют на этот цикл никакого влияния: в эпохи реставраций даже самые мудрые и харизматические оппозиционеры обречены на поражение, на излете застоя революции удаются и полным ничтожествам. В отсутствие гражданского общества власть не встречает никакого сопротивления, а потому падает под собственной тяжестью, утратив всякую адекватность, – так что революции осуществлялись бы и без всяких революционеров (как, в сущности, случилось в марте 1801 года). Всякий «зажим» начинается с высылки «олигархов» – незаконно обогатившихся сторонников реформатора—и сопровождается канонизацией этого реформатора при полном содержательном отрицании его достижений. «Оттепель» сопровождается бурным расцветом искусств, поскольку сочетает относительные свободы с относительной же стабильностью существования – оптимальная ситуация для художника. Отличие всех оттепелей от периодов реформаторства заключается в том, что реформаторы имеют в виду радикально изменить государственный строй – а оттепели его лишь «оптимизируют», ремонтируя косметически.
Период ленинского реформаторства закончился мятежом правой оппозиции, вслед за которым наступил недвусмысленный и явный сталинский зажим, с высылкой Троцкого, канонизацией вождя и полным содержательным отрицанием его реформ. Реставрация Империи шла полным ходом. Именно об этой ситуации – судя по всему, Пастернаком ясно осознававшейся, – написано стихотворение «Борису Пильняку», датированное тем же тридцать первым годом:
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.
Впоследствии, даря оттиск поэту и собирателю автографов Алексею Крученых, Пастернак сделал расшифровку: «она опасна, когда не пустует (когда занята)». Опасна и для власти, и для поэта. Эта строфа свидетельствует о понимании Пастернаком типологии российской истории: в самом деле, в эпоху «зажимов» всегда предусматривается вакансия Главного Поэта, противостоящего власти, присваиваемого ею и уравновешивающего ее. Сильный и единоличный лидер предполагает наличие такого же сильного и одинокого оппонента в литературе. При Николае эту роль играл Пушкин. И Пастернак понял, кем хотят заполнить вакансию теперь.
Он годился, как никто. И не только потому, что не было равных ему по таланту, и не потому даже, что аналогии с Пушкиным звучали уже в полный голос – восторженные читательницы отмечали, что он так же смугл, так же порывист, и даже те же негритянские губы! – а прежде всего потому, что не ассоциировался с предыдущим периодом бурного реформаторства, был тогда несколько даже в стороне. Напомним, что Пушкин попал в ссылку именно при либеральном Александре I, а при Николае был из нее возвращен и обласкан. Для периода зажима и глобального похолодания нужен был поэт, ориентированный на традицию, на классические образцы, – поэт имперского звучания и масштаба. Все взоры обратились на Пастернака, и этим он был весьма смущен. Для полноты сходства недоставало только повышенного внимания Сталина к Зинаиде Николаевне – но история работает тоньше и до буквальных аналогий не опускается. Хорошо и то, что оба в тридцатом году (с разницей в сто лет) женились на красавицах с одинаковыми отчествами.
Почему эпохе постреформаторского зажима типологически присуща «вакансия поэта»? Это единственный инструмент взаимного влияния государства и общества, защищенный от репрессий статусом Первого Художника. Поэт должен обладать набором специфических черт: мятежная юность, участие в спорах архаистов и новаторов на стороне последних, некоторое количество репрессий, которыми отметил молодого бунтаря реформаторский режим, чтобы новый – «зимний» – мог осыпать его милостями. Эпический склад дарования, тяга к большой форме, многократные подступы к ней (Пушкин всю жизнь мечтал о большой прозе). Стремление к объективации, которое так точно подмечала в Пастернаке Надежда Мандельштам. Неприязнь к бунту и сектантству, умеренный консерватизм в зрелости, тяга к дому и уюту («Юность не имеет нужды в at home», – с горечью записывает Пушкин в 1836 году). Последующее резкое разочарование в недолгой лояльности, тяжелый духовный кризис…
Ниша втянула Пастернака, вакансия востребовала его. Ответственность и впрямь накапливалась колоссальная. Для его творческого поведения как раз характерна таинственность, прикровенность – об этой таинственности как условии своего поэтического и человеческого выживания он впоследствии и Сталину напишет. Но вакансия поэта исторически обусловлена, от нее никуда не денешься. В сорок седьмом он скажет:
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси!
…
Но продуман распорядок действий
И неотвратим конец пути…
«Вакансия» – явление того же порядка, что и неотвратимый распорядок действий. Вожди, может, и хотели бы ее отменить. Но это так же не в их власти, как не во власти актеров отменить ту или иную роль в шекспировской хронике. Сказано «Входит поэт» – значит, входит. И единственное преимущество этой глубоко трагической роли в том, что тебя не тронут – обругают, ввергнут в опалу, но сохранят. Тем двусмысленней ты будешь выглядеть в глазах завистливых современников – и уцелевших, и пострадавших.
Лидия Чуковская вспоминала, как в ответ на комплименты отца относительно «взлетов» в переводах из Шекспира Пастернак посреди снежного поля в Переделкине вдруг закричал – даже «заорал», «громко, с надрывом, с отчаяньем и даже приседал от натуги, словно камни выталкивал из горла»:
– Перестаньте, пожалуйста!.. Не говорите, пожалуйста, ничего. Взлеты! Я сам от себя должен узнать, что я – порядочный человек… А не от вас. Даже не от вас!
Таково бремя «вакансии».
Но есть и более страшное бремя – бремя лояльности; в русской традиции лояльных к власти крупных художников не так много, и почти все они поплатились либо талантом, либо репутацией.
Без единения общества и государства невозможно выбраться из кризиса, но такое единение имеет смысл лишь при условии, что у народа и власти имеется общая цель. Иллюзия такой общей цели (и соответственно единства) в российской истории возникала нечасто. Мог ли Пастернак всерьез рассматривать возможность сотрудничества с государством в то время, как перед глазами у него был пример Маяковского, всего себя отдавшего государственному служению?
Но в том-то и дело, что Пастернак в 1931–1935 годах имел дело с другим государством и прекрасно отдавал себе в этом отчет. Утопия двадцатых строилась на жизнеотрицании, антиутопия тридцатых – на возвращении к норме, уюту, чуть ли не обывательщине. Будучи в оппозиции к предшествующей эпохе, не находя себя во временах осуществлявшейся утопии, – во времена поверженного радикализма и постепенного реставраторства Пастернак не мог не почувствовать себя более комфортно. Он категорически осуждал «буйство с мандатом на буйство», но вполне допускал «строительство с мандатом на строительство».
Лишь в тридцать девятом, а то и позже, Пастернак понимает, что разница между двумя типами государства здесь не принципиальна: власть казалась трезвой и упорядочивающей, а обернулась куда более ужасной, чем «буйство с мандатом на буйство». Это было уже «убийство с мандатом на убийство» – чего Пастернак, конечно, в начале тридцатых понимать не мог. Его позиция в тридцать первом по-человечески порядочна, как всякая готовность подставляться, заблуждаться и брать на себя часть ответственности за эпоху. Эту же позицию разделял и Булгаков, иронически относившийся к «подкусыванию советской власти под одеялом». Те, кто уже тогда «все понимали», не пережили «Второго рождения»: заблуждение Первого Поэта дороже прозрений людей, освоивших нехитрый навык быть всегда правыми и повторять любимое местное заклинание «Мы говорили».
Первым поэтом Пастернак был фактически назначен в мае 1934 года.
В ночь с 13 на 14 мая был арестован Осип Мандельштам.
Глава XXVI
В зеркалах: Мандельштам
1У Ахматовой был любимый тест для новых знакомых: чай или кофе? Кошка или собака? Пастернак или Мандельштам?
Тут в полной мере сказалась присущая ей тяга к простым и точным решениям. Два полюса человеческой натуры в самом деле легко определить при помощи этих трех дихотомий: два наиболее выраженных варианта – «Чай, собака, Пастернак» и «Кофе, кошка, Мандельштам» – во всем противостоят друг другу. Пастернак и Мандельштам – особенно в тридцатые годы – являют собою выраженные, наглядные противоположности.
И это при том, что во множестве перечней, в списках симпатий и антипатий, в разносных или восторженных контекстах – их имена стоят рядом, намертво спаянные общностью времени, друзей, связей, эпохи и даже судьбы. Вечный удачник Пастернак и хронический неудачник Мандельштам не избежали Голгофы – каждый своей; конечно, никто не сравнивает лагерной бани, в которой умер Мандельштам, с переделкинской дачей, на которой умер Пастернак, – но убили-то обоих. Для одних устойчивый союз «Мандельштам и Пастернак» означал все чуждое в искусстве: заумь, выпендреж, снобизм. Существовали даже термины – «мандельштамп» и «пастернакипь», которыми обозначалось эпигонство. Для других «Мандельштам и Пастернак» – две непременно соседствующие фотографии под стеклом на столе, два синих тома «Библиотеки поэта».
Любовь к Мандельштаму и Пастернаку равно считалась знаком фронды. Некоторые даже умудрялись обоим подражать. Пастернак и Мандельштам превратились в интеллигентском сознании семидесятых не то в Розенкранца и Гильденстерна, не то в Глазенапа и Бутенопа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































