Текст книги "Борис Пастернак"
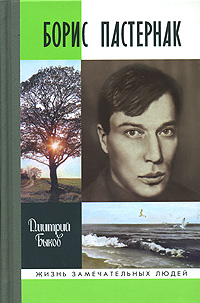
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 77 страниц)
Глава XX
«Спекторский». «Повесть». Окончание
1Пока же вернемся к тому, как Сережа Спекторский счастливо совмещает две страсти, между которыми всю жизнь метался Блок. Днем он с обожанием смотрит на Арильд, ночи проводит у Сашки.
Надо достать денег. Сначала – немного, для Сашки, чтобы она смогла покончить со своим ремеслом (вопрос еще – согласится ли она, но герой об этом не задумывается). Потом – много, для Арильд. Потом – очень много, для всех. Начинаются раскольниковские мечты – но ведь процентщица не более, чем постаревшая Сашка, говорит себе Спекторский. Значит, надо как-то иначе. В этих болезненных мечтах проводит герой дни и ночи, платонически обожая Арильд и почти платонически – Сашку (интересно, что ее зовут, как Бальца. Не исключено, что тема проституции бросила на мужчину в маске странный отблеск).
Спекторский не мечтает о социальном переустройстве. Все его мечты пока ограничиваются тем, чтобы женщины «не раздевались, а одевались»; «главная вещь – чтобы они не получали деньги, а выдавали их». Мечта странная – нечто вроде поголовного перевода проституток в бухгалтеры. Спекторский – ни в коей мере не борец, и тема революции с темой любви для него еще не завязана в тугой узел, как случится в романе позднее; пока он хочет даже не возмездия, а только свободы, которую женщинам принесет неведомый благодетель. От этих мечтаний герой почти сходит с ума, но это безумие светлое, подсвеченное двойной любовью.
В одну из суббот госпожа Фрестельн уехала на Клязьму, «уехал также куда-то и сам» – Сережа идет к Анне, охваченный странным предчувствием; ему кажется, что она умерла, она с утра не показывалась из комнаты, да вдобавок болела недавно. В самом деле, когда он входит, она в глубоком обмороке; нашатырь возвращает ее к жизни, Сережа рыдает от страха, счастья и облегчения. Арильд гладит его по волосам.
– Анна, – произносит он, сам от себя не ожидая ничего подобного, – я прошу вашей руки. Я знаю, это не так говорится, но как мне это выговорить? Будьте моей женой.
Анна в волнении вскакивает, признается в ответ, что Сережа ей давно небезразличен («Вы, конечно, об этом догадывались? Неужели нет?»), но добавляет, что давно наблюдает за ним и побаивается его. «Ничего из того, что меньше человека, в вас долгого и частого пребывания не может иметь. Но существуют вещи, которые больше нас». Именно эти вещи и пугают Анну в Спекторском. Он в ответ молчит, боясь разрыдаться, – и она, по-матерински успокаивая его, отвечает ему более определенным и решительным согласием: «Я готова ждать, сколько будет надо. Но сперва приведите себя в порядок, мне неведомый и слишком, вероятно, известный вам самим».
Сережа отправляется к себе – и тут впервые за всю повесть вспоминает о Марии Ильиной, с которой был у него странно прервавшийся роман летом прошлого года. «Ну, и Мария. Ну, и допустим. Мария ни в ком не нуждается. Мария не женщина. (…) Перед ним с отвратительной меланхоличностью неслись пустые институтские помещенья, гулкие шаги, незабытые положенья прошлого лета, невывезенные Мариины тюки. Он страдал от этих холодных образов, как от урагана праздной духовности, как от потока просвещенного пустословья (…). Ерундили, ерундили, а другой подоспел, и следов не найти». Как видим, внезапный отъезд Марии герой склонен себе объяснять наименее лестным для нее и себя образом – «другой подоспел», хотя в романе о другом ни слова; главное же – чувство легкой брезгливости и стыда, с которым он вспоминает о многопудовых корзинах и чемоданах – и столь же тяжеловесных, напыщенных разговорах, которыми обменивался с Ильиной. «Повесть» написана с января по май 1929 года – то есть два года спустя после апогея эпистолярного романа с Цветаевой и его резкого обрыва.
Здесь же герою является смутное подозрение о том, что «другим» мог быть Бальц, что это он «собрал ее за границу». «Он тут же почувствовал с достоверностью, что – угадал. У него сжалось сердце». На этом герой окончательно распрощался с Ильиной и с любыми воспоминаниями о ней, хотя из логики ее образа никоим образом не вытекает возможное сближение с Бальцем, да и Бальц как будто должен любить женщин иного типа… Натяжка, однако, не смущает ни автора, ни героя. Они – мстят: в частности, за то, что Мария «не женщина». Именно потому, что ее никак не получается жалеть. Здесь-то и зерно романа, и главный выбор в пользу женственности (а не «праздной духовности»), в пользу жизни и плоти (а не «наваждения»). Все дальнейшее – только развитие этого выбора, ставшего стержнем последних глав романа в стихах.
Оставшись один в комнате, Спекторский начинает набрасывать план драмы (в стихах или прозе), чтобы отослать ее издателю Коваленке и тем выручить денег на первое время семейной жизни. Герой этой драмы намерен продать себя в рабство – кому угодно – для выручения некоей суммы денег; деньгами он должен распорядиться сам, в обмен же обещает хоть покончить с собой. Героя претенциозно именуют Игреком Третьим (потому что надо же его назвать хоть как-нибудь, наивно поясняет Спекторский). На этом диком аукционе («не без Уайльда», хотя все «совершенно всерьез») Игрек выражает желание почитать собравшимся свои стихи и поиграть экспромтом – чтобы потенциальные покупатели увидели товар лицом. Тут начинается дождь – и в драме, и в реальности; Арильд заходит к Спекторскому, чтобы с ним прогуляться, как договаривались, – но видит, что он сидит спиной к ней и страшно увлечен писаньем; тут-то ей и открывается, каким тайным позором отмечено было его лицо и чего она, собственно, боялась. «Анна (…) разглядела и его беду, и ее пожизненную неисправимость» – то есть его обреченность писательству; связать свою жизнь с одержимым она не готова. Чрезвычайно эффектна вся эта сцена, выглядящая при пересказе невыносимо натянутой: Анна с туго свернутым зонтиком, заглядывающая в комнату героя, герой, не замечающий ее, ливень за окном, – и окончательное решение: «Отказывать ему не приходилось трудиться». Анна едет к знакомой англичанке, у которой рассчитывает заночевать, – Сережа знай себе дописывает проект драмы. Игрек играет и читает, чем приводит окружающих в восторг. После этого он скромно замечает, что они полюбили его еще недостаточно – надо же наконец и деньги собрать. Следует замечательная формулировка, точная, как все самооценки Пастернака: «В той крупной купюре, в какой выпущен человек, ему нет приложенья. Ему надо разменять себя, и они должны ему в этом помочь». Находится благотворитель, человек строжайших правил. Игрек немедленно поступает в его полное распоряжение, а миллионы тайно отдает на революцию. На четвертый день жизни у благотворителя в особняке тот является к Игреку, говорит, что ему неловко владеть человеком, тем более таким хорошим, и умоляет его идти на все четыре стороны; Игреку неловко в свою очередь, – и тут-то им приносят сообщение о беспорядках, организованных на деньги Игрека… В этот чрезвычайно интересный момент писание прерывается возвращением Фрестельнши и Гарри. Жена фабриканта возмущена отсутствием «своей камеристки» – Сережа теперь только замечает, что настала ночь и Анна исчезла. С ее слов ему известно, что по воскресеньям она ходит к обедне в англиканскую церковь. На рассвете он приходит туда – и в комнате напротив видит силуэт Анны. Она тоже не спит и ждет его.
После примирения (хотя мириться, собственно, не из-за чего) Спекторский провожает Анну на новое место – в семью потомственных военных, Скобелевых, – а затем, преисполненный счастливыми ожиданиями, отправляется с Фрестельнами в их тульское имение. Перед отъездом Анны у них случился разговор обо всем на свете, она рассказала ему о своих шотландских корнях – мелькнуло имя Марии Стюарт; этого, конечно, достаточно для абсолютной любви. В коридоре вагона Сережа предается мечтам – и обреченность их ясна только автору: «Так передвигались люди тем последним по счету летом, когда еще жизнь по видимости обращалась к отдельным и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть». Этим заканчивается событийная часть «Повести» – откуда перекидывается прямой мост к последним поэтическим главам «Спекторского», восьмой и девятой. Об Анне Арильд в романе не будет больше ни слова – все, что касалось «отдельных» людей, кончилось навеки.
Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?
Судьба отдельного лица – былого счастливого студента Сережи Спекторского – в прошедшие пять лет складывалась странно. В шестнадцатом, как мы помним, он посетил сестру в Усолье, виделся мельком с Лемохом-старшим; судя по «Трем главам из повести», сам побывал на фронте. Что делал во время революции – неясно. «Прошли года. Прошли дожди событий. Прошли, мрача Юпитера чело. Пойдешь сводить концы за чаепитьем – их словно сто. Но только шесть прошло». Далее следует великолепное отступление о послевоенной – и послереволюционной – Москве, в которой, кажется, половину населения выкосило: «Дырявя даль, и тут летали ядра, затем что воздух Родины заклят и половина края – люди кадра, и погибать без торгу – их уклад». Иногда хочется вместо «без торгу» поставить так и просящееся сюда «без толку». Спекторский, разумеется, не из людей кадра (то есть людей долга); он не готов погибать без торгу, поскольку чувствует в себе слишком большое и до сих пор нереализованное содержание; в момент написания романа Пастернаку и его герою еще свойственны скорее чувство вины перед «людьми кадра» и преклонение перед ними. В начале восьмой главы Пастернак снова рисует то «небо третьего Интернационала», о котором говорил в «Воздушных путях», – и настаивает на стихийной и поэтической, а не «кадровой», природе революции.
Оно росло стеклянного заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.
Как видим, Пастернак еще готов терпеть победу класса над единицей «по вдохновенью», то есть по воле истории; но победа класса «по уставу» его решительно не устраивает – он в нее и не верит. Для него революция – явление ни в коем случае не классовое; и тут впрямую возникает революционная тема – тема мстящей женственности, к которой сводится у Пастернака любой разговор о революции. Восьмая глава написана значительно позже остальных – во времена, когда, как сказано в «Охранной грамоте», «вдруг кончают не поддающиеся окончанью замыслы». Восьмая и девятая главы «Спекторского» пишутся, как завещание, – в 1928–1929 годах.
Почему Пастернак уперся в мертвую точку, в четырнадцатый год, и не смог написать о нем ни слова ни в 1928-м, ни позднее, в 1936 году, когда сочинял «Записки Патрика»? Проще ответить, почему он смог со всем этим сладить в сороковые-пятидесятые: исчезло желание приспосабливаться к эпохе и исходить из ее переменчивых требований. Конечно, одного усилия Пастернака было бы недостаточно – время должно было стать значительно хуже, чтобы захотелось наконец решительно расплеваться с ним; в сорок шестом именно так и было. В двадцать девятом Пастернак прибегает к метафорическому описанию революции, а войну не описывает вовсе. В «Спекторском» революция – «девочка в чулане»:
Вдруг крик какой-то девочки в чулане,
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.
И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.
(По правде сказать, это – насчет бесконечных степеней – очень неловко сказано, и неточной рифмы поздний Пастернак тоже не любил. Когда начиналась экзальтация и уклончивость, это и в лирике не всегда проходило бесследно, а в эпосе, который он хотел написать «как можно суше», и вовсе режет слух.)
И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.
Кажется, только что она разбивала дверь – «дверь вдребезги», – но чего мелочиться: раз пошла такая вольница, давай уж и окно… Тут возникают любопытные коннотации – как раз в двадцатые годы напечатали выпущенную главу «Бесов» («У Тихона») и Пастернак наверняка ознакомился с исповедью Ставрогина. Именно на эту ассоциацию наводит мысль о девочке в чулане – в чулане повесилась Марфуша, которую Ставрогин ради бесовского эксперимента растлил. Как видим, темы пола (в данном случае полового извращения) и революции были связаны в сознании литераторов, начиная с маркиза де Сада, но никто еще до Пастернака не понимал революцию как женскую месть. Скорее уж ее склонны были трактовать как мужское своеволие, пир безнаказанности, 120 дней Содома, – и Ставрогин, из которого Верховенский порывался сделать символ революции, был прежде всего извращенцем, почти маньяком. В пастернаковском же понимании революция оправдана тем, что это мщение за «дремучий стыд» или «стыд дочерний»; а оправдывать ее надо было – иначе как мог Пастернак жить, думать, писать стихи? Все это делать на Западе он не мог, воздуха не хватало, – а чтобы оставаться в России, следовало изобрести себе такую революцию, которая бы не оскорбляла в нем человека и поэта. Так «Спекторский» окончательно выруливает на тему любви, «мести и зависти» – на тему, к которой «Повесть» лишь робко подходила, сближая любовь героя с мечтой о социальной справедливости.
Разумеется, такое оправдание происходящего не означает тотального приятия революции: революция заявляет, «что ты и жизнь – старинные вещицы, а одинокость – это рококо». Ты и твое одиночество превращаются в нечто устаревшее, пыльное и подлежащее упразднению. Какое, помилуйте, рококо среди такого окорота и рокота!
Тогда ты в крик. Я вам не тут! Насилье!
Я жил как вы. Но отзыв предрешен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.
Здесь в авторе ненадолго пробудился былой насмешник Сергей Спекторский. История, разумеется, и впрямь не в вещах, – а в том, как их отбирали. И уж коль скоро ты, интеллигент, по блоковской формулировке «подгребал щепки к костру» («Интеллигенция и революция») – глупо бегать вокруг него с криками. Насилье? Да, насилье. А чего ты, собственно, хотел? Тут и обнажается изначальная, как уже сказано, уязвимость интеллигентской позиции. Обреченному дворянину хотя бы есть чем утешаться – к его услугам величие момента; но интеллигент, «пущенный нагишом», являет собою зрелище трагикомическое (не случайно в это же время у Ильфа и Петрова нагишом был пущен инженер Щукин).
Спекторский к девятнадцатому году уже состоит в Союзе литераторов.
В дни голода, когда вам слали на дом
Повестки и никто вас не щадил,
По старым сыромятниковским складам
С утра бродило несколько чудил.
В этом подчеркнуто будничном зачине девятой главы – все приметы мощной манеры зрелого Пастернака, без тени экзальтации, чуть не прозой излагающего фабулу. «Храни живую точность – точность тайн», – пожелал он собственной поэзии в восьмой главе романа; в последней главе «Спекторского» он органичен, внятен и точен, как никогда прежде.
То были литераторы. Союзу
Писателей доверили разбор
Обобществленной мебели и грузов
В сараях бывших транс портных контор.
Писатели, знамо, гордятся этим поручением и распределяют, «какую вещь в какой комиссарьят»: новая власть знает, что «чудилы» не разворуют «обобществленного». Спекторский, разгребающий завалы милых мелочей из прежней жизни, превращается в истинный символ поколения. Он разбирается с ненужными вещами, сам чувствуя себя ненужной вещью, – а впрочем, и отсвет заката ложится на полки («Закат бросался к полкам и храненьям и как бы убывал по номерам»), становясь такой же рухлядью из бывшего быта. Здесь же, на складе, развяжутся все узлы недописанного романа: во-первых, сначала Спекторский узнает мебель, среди которой бродил в квартире Ильиной, – «Мариин лабиринт». Потрясенный напоминанием, он выбегает на улицу курить и задается вечным вопросом оставшихся, когда им что-то напоминало об уехавших:
Он думал: «Где она – сейчас, сегодня?»
И слышал рядом: «Шелк. Чулки. Портвейн».
«Счастливей моего ли и свободней
Или порабощенней и мертвей?»
Мария уже не вернется на страницы романа, и ответа на свои вопросы Спекторский не получит, как не получил их в 1929 году и Пастернак, думая о цветаевской судьбе в эмиграции. Здесь же, на складе, обнаружился и фотоальбом с фотографиями героя – Пастернак задолго до «Доктора» любил разом завершать все линии и, как всякий поэт, в прозаической фабуле выстраивал рифмы. Тут же мимо шел рассказчик, который с самого вступления не подавал голоса, – и, «соблазнив коробкой „Иры“» («Нами оставляются от старого мира только папиросы „Ира“» – реклама Маяковского), затащил Спекторского к себе. Выясняется, что рассказчик-то живет как раз в том самом доме, куда Сережа некогда ходил на урок «к отчаянному одному балбесу»: «Он знал не хуже моего квартиру, где кто-то под его присмотром рос». Попутно Спекторский вспоминает и о вечере в этом же доме, на шестом этаже, где он впервые увидел Лемохов и Ильину, и сообщает рассказчику судьбы двух братьев. Тут же происходит и последнее совпадение, венчающее книгу:
В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник,
Певица и смирившийся эсер.
Любопытна тут параллель (сознательная ли? ведь с момента окончания пятой главы прошло два года) между двумя гастрономическими метафорами. Если квартира на шестом этаже казалась пекарней, то бывшее жилище ученика-балбеса названо теперь компотником. То есть опять-таки съедят – и если взглянуть на перечень жильцов, то уж по крайней мере насчет ответственного работника и смирившегося эсера можно не сомневаться, да и швее, пожалуй, расслабляться не стоит.
Между тем в квартире гостья: развязка забежала по делу да так и осталась, в лучших пастернаковских традициях.
Я знал, что эта женщина к партийцу… —
то есть к ответственному работнику; сейчас она сидит и читает в бывшей «зале», но вот рассказчик повел Спекторского к себе – и они прошли мимо читающей, заметив только ее «круглые плечи», тень от которых ложится на стену. Женщина эта впоследствии сделалась начальницей рассказчика – «Бухтеева мой шеф по всей проформе», и потому он не особенно задерживается на подробностях ее встречи со Спекторским: было бы не совсем comme il faut разглашать подробности личной жизни шефа.
Мы шли, как вдруг: «Спекторский, мы знакомы», —
Высокомерно раздалось нам вслед,
И, не готовый ни к чему такому,
Я затесался третьим в tête-à-tête.
Ну, если рассказчик не был готов – что и говорить о читателе, на которого рухнуло сразу столько неожиданностей?! Сперва герой увидал на складе мебель Ильиной, потом повстречался с давним приятелем и оказался в квартире бывшего ученика, потом в этой же квартире обнаружил ту самую Бухтееву, с которой встречал 1913 год… Ольга Бухтеева, подобно многим девушкам Серебряного века, после долгих попыток успокоить мятущуюся душу любовными приключениями превратилась в комиссаршу: «Она шутя обдернула револьвер и в этом жесте выразилась вся». С точки зрения фрейдиста жест действительно показательный.
А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки,
Сказал без слов: «Мой друг, как ты плюгав!»
Интересно, что Бухтеева тут становится буряткой; в первых главах романа, как мы помним, она еще имела черты Фанни Збарской, история отношений с которой в преображенном виде составила завязку; представить ее в этой коллизии узкоглазой буряткой затруднительно; можно еще допустить, что Бухтеева из московской инженерши стала уральской комиссаршей (попавшей комиссарить в те самые места, где проживает с мужем Наташа Спекторская), – но допустить, что она обурятилась в процессе революционизации, сложно. Переживание революционной бури, что ли, так на нее подействовало? Вместе с тем в этой смене маски есть глубокая логика; Пастернак уже в «Повести» писал об изумлении интеллигентов, увидевших в семнадцатом году совсем другую, непредвиденную движущую силу революции. Поначалу Дева-Революция в самом деле представала изломанной декаденткой. И однако – в семнадцатом и в последующие годы революция предстала женщиной из народа, даже и лукавой буряткой, ежели угодно.
Дальнейшая беседа растерявшегося Спекторского с неузнаваемой Бухтеевой, двух случайных любовников из 1912 года, – передана крайне уклончиво: «Был разговор о свинстве мнимых сфинксов, о принципах и принцах, – но весом был только темный призвук материнства в презренье, в ласке, в жалости, во всем». Насчет призвука материнства как раз все понятно – высокомерие, снисходительность «взрослой» женщины, которая только потому и считает себя умней и старше героя, что успела вдоволь пострелять; раньше она, опять-таки по-матерински, жалела его перед тем, как совратить, – считая себя много опытней. Адюльтеры и стрельба всегда отчего-то кажутся развратникам и стрелкам важным фактором духовного роста. С такой же высокомерной снисходительностью большевики в двадцатые годы поучали поэтов, а девушки Серебряного века, вписавшиеся в новую жизнь, – своих былых учителей, посвящавших их в тайны ars amor и ars poetica. Вероятно, доживи Гумилев года до двадцать второго, Рейснер с ним поговорила бы именно так, – хотя она-то, в отличие от Ольги Бухтеевой, любила его по-настоящему. Что до свинства мнимых сфинксов, то под этим обозначением можно понимать что угодно: хоть народ, хоть деятелей искусств. Принципы и принцы – это вообще темно и вяло; допустить разве, что они беседовали о судьбах бывшей аристократии? Самое странное, что Бухтеева на Спекторского ужасно зла, при всем своем материнстве. Непонятно, собственно, за что она ему мстит.
«Вы вспомнили рождественских застольцев?.. —
Изламываясь радугой стыда,
Гремел вопрос. – Я дочь народовольцев!
Вы этого не поняли тогда?»
Курсив авторский – точнее, бухтеевский: видимо, очень уж кричала. Господи помилуй, да с какой же стати ему было это понять? Вы что, ему намекали на это, когда «трепещущую самку раздел горячий ветер двух кистей»? Или у дочерей народовольцев есть специфичные физиологические признаки? Для Спекторского, кажется, было не принципиально, из какой среды происходит инженерская жена, – сама же она вела себя, как обычная кокотка. Бухтеева же, не в силах, видимо, простить себе, что в оны времена не только она всеми по-комиссарски распоряжалась, но и ею, видите ли, обладал пылкий студент, – продолжает греметь комиссарским голосом: «Я родом – патриотка. Каким другим оружьем вас добить?..»
Час от часу не легче: теперь она еще и патриотка! Очень может быть, что тогдашняя влюбленность в юношу представляется ей с нынешней комиссарской высоты слабостью и пошлостью, но кто кого соблазнял, в конце концов?! Кто обещал – «И тени детства схлынут в поцелуях»? Перерождение Бухтеевой само по себе более чем красноречиво – и сколь бы Пастернак ни оправдывал революцию, выходит у него что-то совершенно неожиданное. Из-за этого роман поначалу и печатать не хотели (истории его публикации мы коснемся ниже), хотя никакой крамолы в замысле не было. Конечно, Спекторский никого по чуланам не насиловал и не запирал, и никто от него, выбивая стекло, не сбегал; но, видимо, перед женщиной виноват всякий, кто ею воспользовался. И ведь не сказать, чтобы Спекторский сделал это без любви, – Арильд говорила, что в нем нельзя заподозрить низость! Даже Ильиной, с ее подозрительностью, понятно, «что этот человек никак не Дон Жуан и не обманщик». За какую же такую плюгавость честный интеллигент Спекторский, ни разу ничего не умыкнувший со складов, должен подвергаться материнскому презрению Бухтеевой и вдобавок выслушивать ее лекции о народовольцах? Возникает парадоксальное ощущение, что Спекторский-то как раз прошел через революцию, не изменив себе, – тогда как из Бухтеевой происшедшее сделало монстра, закомплексованного и вечно настаивающего на своей правоте упорнее Сережиной сестры Наташи.
Правда, в строчке «Каким еще оружьем вас добить?» можно увидеть реминисценцию из пророка Исайи: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями! Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши на ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими… Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от Очей Моих, перестаньте делать зло» (Ис 1:4 и далее). Тогда упреки Ольги Бухтеевой преследуют другую цель – не унизить, но разбудить Спекторского, заставить его новыми глазами взглянуть на мерзость собственного запустения; под «народом, обремененным беззакониями», явно понимается интеллигенция, чья земля (культурная почва) действительно опустошена, как после разорения чужими. Тогда все, что она говорит Спекторскому, – призыв «омыться, очиститься»; и не зря здесь сказано о привкусе материнства – не будет же мать просто так наказывать свое дитя, она преследует и некие воспитательные цели… Однако, согласитесь, есть существенная разница между словами: «Каким еще оружьем вас добить!» – и воплем Исайи: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство?» Да и странен был бы текст Исайи в устах бурятки-комиссарши.
Книгу о Спекторском завершает строчка «Пока я спал, обоих след простыл». Она же и кольцует это сочинение, первая глава которого начинается словами «Весь день я спал»; тогда все эти сказочные совпадения можно объяснить тем, что рассказчик просто-напросто проспал дольше обыкновенного и увидал историю Спекторского во сне. «Не спите днем!» Отсюда же и неправомерное внимание к отдельным подробностям, и скомканность целого, и бесконечные встречи сквозных персонажей – угрюмца, девочки, проходимца… Если же отбросить сновидческую версию, последняя строчка приобретает особый смысл: оба героя бесследно исчезают из жизни рассказчика, поскольку в реальности больше нет места обоим этим типажам – и честному интеллигенту, и яростной комиссарше. Для двадцать девятого года вывод вполне точный.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































