Текст книги "Борис Пастернак"
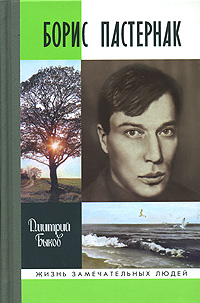
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 77 страниц)
Пастернак повел себя в беседе с вождем, как богатырь на классическом русском распутье, где направо – плохо, налево – хуже, а прямо – лучше не спрашивай. Хорошо, тогда мы взлетим.
Образ летящего – или, точней, плывущего – в небесах всадника, с девой за плечами, возникнет потом в самом таинственном стихотворении Живаго – в иррациональной, страшноватой «Сказке». Конечно, образ этого небесного богатыря пришел из гоголевской «Страшной мести»: таинственный призрак вне пространства и времени, которому судьба странствовать на своем огромном коне до тех пор, пока не накажут последнего, самого страшного злодея в роду его обидчика… Но что-то тут есть и от собственных тайных мечтаний: богатырь, который не может ни проиграть, ни выиграть схватку, – а потому уходит из времени и пространства:
Конь и труп дракона
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.
То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
Нельзя победить дракона без рокового ущерба для себя; что остается? Уйти в выси, облака, годы и века. Что и было продемонстрировано в разговоре со Сталиным – когда Пастернаку предлагалось на выбор погубить себя, свою честь или своего друга, а он взял и развернул кругом своего собеседника.
Правда, сам он после этого разговора надолго себя возненавидел и, по собственному признанию в беседах с друзьями, год не мог писать. Это нормально – такие контакты даром не проходят; главное было сделано. Но в тот, первый момент после того, как Сталин бросил трубку, Пастернак кинулся звонить в Кремль, потребовал Поскребышева (еще можно было! Запросто соединяли!), просил соединить со Сталиным… «Товарищ Сталин занят». – «Но он только что со мной разговаривал!» – «Товарищ. Сталин. Занят!» – властной кремлевской чеканкой ответили ему. «Но… но скажите, могу я хотя бы рассказать об этом разговоре?» – «На ваше усмотрение», – ледяным тоном ответил Поскребышев.
Усмотрение его было таково, чтобы немедленно связаться с братом Надежды Яковлевны и сказать, что, по всей вероятности, исход дела будет положительный. Евгений Хазин принял сказанное за обычный пастернаковский близорукий оптимизм и никакого значения разговору не придал. Отдельная тема – почему Пастернак не начал сразу же рассказывать о звонке Надежде Мандельштам или Анне Ахматовой. Вероятнее всего, ему было стыдно. Есть вещи, о которых заинтересованные лица должны узнавать немедленно, – но есть вещи, любое прикосновение к которым болезненно, мучительно, так было и с этим разговором. Тут, впрочем, тоже изрядное расхождение. Ахматова говорит Лидии Чуковской: «Он мне тогда же пересказал от слова до слова». Надежда Мандельштам пишет: «Никому из заинтересованных лиц, то есть ни мне, ни Евгению Эмильевичу (брат Мандельштама. – Д. Б.), ни Анне Андреевне, он почему-то не обмолвился ни словом».
Нам кажется достоверным, что версии сталинского разговора с Пастернаком курсировали по Москве в тридцатые годы никак не с пастернаковской подачи. Не сумев завербовать очередного поклонника, Сталин решил скомпрометировать собеседника: «Не сумел защитить друга». Только в ответ на это Пастернак начинает распространять собственную версию происшедшего. В пятьдесят восьмом, по воспоминаниям старшего сына, он разъярился, услышав, что и в иностранной прессе мелькает сплетня, будто он плохо защищал Мандельштама:
– От кого, кроме меня, могли они это узнать? Ведь не Сталин же распространял эти сведения!
А кто кроме него? В конце концов, его задача в том и заключалась, чтобы либо сделать Пастернака «своим», либо подорвать его моральный авторитет. А уж каналов для распространения информации у него было, нало полагать, не меньше, чем для ее сбора.
5Личное обращение Пастернака к Сталину последовало год спустя, когда 24 октября 1935 года в Ленинграде были арестованы муж Анны Ахматовой Николай Пунин и ее сын Лев Гумилев.
Ахматова немедленно выехала в Москву хлопотать – представления не имея, как и через кого. Остановилась она сначала у Эммы Герштейн (та вспоминала о ее страшном состоянии – «как будто камнем придавили»). Вид ее действительно был ужасен – она, как ведьма, ходила в большом фетровом колпаке и широком синем плаще, ничего вокруг себя не видела, страшилась перейти улицу. По воспоминаниям Герштейн, Ахматова могла только бормотать: «Коля… Коля… кровь…» (Потом, четверть века спустя, она говорила Герштейн, что сочиняла в это время стихи, – верится с трудом.)
Ахматова потребовала отвезти ее к писательнице Лидии Сейфуллиной, муж которой – журналист-«правдист» Валериан Правдухин – мог выйти на прямой контакт с Кремлем. Сейфуллина тут же вызвалась написать письмо, в котором готова была поручиться за Лунина и Гумилева. Правдухин стал хлопотать о том, чтобы письмо немедленно попало наверх. Пришел Пильняк, повел Ахматову к Пастернаку, – предложил ему написать Сталину лично, ибо пастернаковское письмо будет иметь больший вес. Уговаривать не пришлось – Пастернак сразу согласился. Написала Ахматова и собственное письмо – очень короткое, как почти все ее письма. Она уверяла в невиновности мужа и сына и заканчивала простой мольбой: «Помогите, Иосиф Виссарионович». Свое письмо Пастернак написал 30 октября. Сначала, как укажет сам Пастернак в позднейшем письме к Сталину, прошение было более многословным и, главное, личным, словно автора и адресата связывали, помимо немногочисленных и формальных контактов, напряженные размышления друг о друге; словно не только Пастернак думал о Сталине «как художник впервые», но и вождь задумывался о нем – «впервые как генсек». Этот вариант показался Пильняку чересчур личным, едва ли не панибратским; его забраковали. По воспоминаниям Зинаиды Николаевны, новое письмо Пастернак отнес в Кремль сам и опустил в ящик для обращений около четырех часов дня; более достоверной представляется версия Герштейн: «Пильняк повез Анну Андреевну на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину». Она припоминает, что письма Пастернака и Ахматовой были в одном конверте.
Текст пастернаковского письма сохранился в кремлевском архиве и в 1991 году был опубликован:
«Дорогой Иосиф Виссарионович, 23-го октября в Ленинграде задержали мужа Анны Андреевны, Николая Николаевича Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева. Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. Помимо той ценности, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности.
Преданный Вам Пастернак».
Текст полон достоинства и свободен от «политики». Пастернак просит за Пунина и Гумилева не потому, что верит в их лояльность, а потому, что за них ручается Ахматова, в чьей честности он не сомневается. Как раз на лояльность Ахматовой он осторожно намекает («честное, трудное и безропотное существование» – то есть ее жизнь при советской власти стала невыносимой, но она никого не винит). Есть здесь и вполне оправданная подстраховка – причин ареста родственников Ахматовой Пастернак не знает, они могут быть достаточно серьезны, чтобы он оказался скомпрометирован заступничеством, – но не заступиться нельзя, поскольку сам Сталин попрекнул его равнодушием к судьбе товарища; то есть он заступается как бы по непосредственному указанию вождя – виновен или невиновен друг, а дружба превыше закона: надо «на стену лезть».
Письмо было доставлено в Кремль 1 ноября, а уже 3-го Пунин и Гумилев оказались на свободе. О их освобождении звонком на квартиру Пастернаков сообщил сам Поскребышев.
Было это ранним утром. Зинаида Николаевна побежала будить Ахматову. По собственным воспоминаниям, она «влетела» в комнату, отведенную гостье, и тут же ее обрадовала. «Хорошо», – сказала Ахматова, повернулась на другой бок и заснула снова.
Зинаида Николаевна разбудила Пастернака. Тот крайне удивился, что его письмо так подействовало. Жена пожаловалась на равнодушие Ахматовой. «Не все ли нам равно, как она восприняла случившееся? – спросил Пастернак. – Важно, что Пунин на свободе». Ахматова проспала до обеда.
О причинах такой «холодности» на прямой, последовавший много лет спустя вопрос Зинаиды Николаевны она ответила издевательски: «У нас, поэтов, все душевные силы уходят на творчество…» На самом деле тогдашняя ее сонливость вполне объяснима – не сон это был, а последствие глубочайшего шока; Анна Григорьевна Достоевская вспоминает, как, когда ждала первого ребенка и почувствовала схватки, разбудила мужа – а тот пробормотал: «Бедная!» – и заснул опять. Нервные натуры на пределе напряжения часто впадают в сон-беспамятство – это что-то вроде рефлекторной самозащиты; возможно, впрочем, что Ахматова с ее фантастическим чутьем и многократно подтверждавшимся даром предвидения уже после передачи письма почувствовала, что теперь все будет хорошо, и успокоилась. А верней всего, на радость у нее просто не было сил.
Внезапное чудо было отпраздновано широко – чередой пошли гости, Пильняк заводил туш, громко и радостно возглашал: «Анна Ахматова!» – и выводил ее к новым посетителям. Сама Анна Андреевна говорила потом, что сохранила самые добрые воспоминания о Сейфуллиной, даже Сталину была благодарна («это был единственный человеческий поступок за всю его жизнь»), – но следов признательности Пастернаку в ее воспоминаниях не заметно. Даже Эмма Герштейн удостоилась ее молчаливой благодарности – прощального поцелуя. Почему она ни слова не рассказывала об участии в этом деле Пастернака? Назвать это неблагодарностью не поворачивается язык – скорей всего дело было в ином: Ахматова при ее врожденном и гипертрофированном чувстве собственного достоинства крайне болезненно переживала ситуации, в которых выступала просительницей. Большинство ее друзей чувствовали это и никогда таких ситуаций не подчеркивали – в доме же Пастернака, вероятно, Ахматовой все напоминало об этом, и прежде всего поведение Зинаиды Николаевны. Единственным актом сдержанной – и заочной – благодарности Пастернаку стало адресованное ему стихотворение («Он, сам себя сравнивший с конским глазом…»): под ним стоит красноречивая дата «январь 1936».
Ахматова не стала письменно благодарить вождя за чудо – трудно было найти для этого слова, позволяющие сохранить достоинство; более ахматовским поступком было – в благородном, сдержанном молчании это чудо принять. Только через четверть века она покаялась в том, что вынуждена была обращаться к Сталину с просьбами: «Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача… Я была тогда с моим народом – там, где мой народ, к несчастью, был». Пастернак же отозвался благодарственным письмом, чрезвычайно важным в контексте его отношений со Сталиным: это самое пространное обращение поэта к вождю. Его опубликовали в «Источнике» в том же 1991 году. До того оно было известно в пастернаковском пересказе («Люди и положения»): «Было две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться к середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю».
Сначала Пастернак написал письмо с благодарностью за освобождение Лунина и Гумилева, но отсылать не стал: друзья отсоветовали, как ясно будет из дальнейшего. Непосредственным поводом для обращения к Сталину стала его резолюция на письме Лили Брик от 24 ноября 1935 года. Брики решили обратиться к Сталину не в последнюю очередь из-за того, что он так быстро помог Ахматовой по ее и пастернаковской просьбе: в этом усмотрели знамение нарастающей либерализации. Лиля Юрьевна пожаловалась вождю на то, что Маяковского не издают, из школьных учебников литературы изымают его тексты («Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин»), улиц в честь поэта не переименовывают (хоть и собирались) и даже музея в Гендриковом делать не хотят. Письмо выдержано не в просительном, а скорее в требовательном, чуть не директивном тоне: «Наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского… Мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров». Сталина, однако, этот тон ничуть не задел – в письме он увидел важную подсказку: именно после этого Маяковского начали насаждать, по словам того же Пастернака, «как картошку при Екатерине».
Резолюция Сталина звучала так:
«Тов. Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится – я готов. Привет! И. Сталин».
Обычно, когда И. Сталин передавал привет, все начинало вертеться очень быстро. Завертелось и тут – о Маяковском стали писать статьи и книги, выпускать биографические хроники, так что все живое из его облика вылущивалось до основания… По счастью, вовсе уж сделать его бронзовым было нельзя. Стало можно изучать литературные связи Маяковского, а они протягивались к Блоку, Есенину, французам, американцам, мексиканцам… Благодетельным это переключение общественного внимания оказалось и для Пастернака: с него снималась обязанность стать лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи.
В декабре 1935 года он отправил Сталину книгу своих переводов «Грузинские лирики» в сопровождении следующего письма:
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Меня мучает, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудное молниеносное освобождение родных Ахматовой, но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно неведомым образом оно как-нибудь до Вас дойдет.
И еще тяжелое чувство. Я сначала написал Вам по-своему, с отступлениями и многословно, повинуясь чему-то тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое.
Я давно мечтал поднести Вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществиться. Или тут быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению? «Грузинские лирики» – работа слабая и несамостоятельная, честь и заслуга всецело принадлежит самим авторам, в значительной части замечательным поэтам. В передаче Важа Пшавелы я сознательно уклонялся от верности форме подлинника по соображениям, которыми не смею Вас утомлять, для того, чтобы тем свободнее передать бездонный и громоподобный по красоте и мысли дух оригинала.
В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел): во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни. Именем этой таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам
Б. Пастернак».
Письмо дает наглядное представление не только о состоянии Пастернака, но и о тяжелейшем психическом мороке, овладевшем страной. Если Булгаков в предсмертном бреду беседовал со Сталиным, стоявшим среди каких-то «белых камней», если сотни репрессированных или замерших в ожидании ареста писателей и неписателей отправляли в Кремль слезные, умоляющие, влюбленные письма, – чего было ждать от Пастернака, человека с выдающейся способностью чувствовать воздух эпохи? Примечательна попытка вести разговор в простом и непосредственном тоне, как с женой или другом, – вот, хотел вам написать по-своему, отговорили… попробую хоть теперь… в передаче Пшавелы отошел от подлинника (только ему и дела там, в Кремле, до подлинника Пшавелы, – но Пастернак до последнего пытается разбудить в нем грузина, ведь грузин – это не может быть плохо!). И эта юродивая благодарность за то, что лучшим назвали не его, а Маяковского…
Между тем быть «лучшим, талантливейшим» – означало участвовать в проработочных кампаниях и коллективных поездках, восторгаться каждым шагом власти и получать ордена, плести новые и новые кружевные фиоритуры восточной лести – и в один прекрасный момент быть низринутым за то, что взял полутоном выше или ниже, а чаще всего за то, что надоел. Поистине благодарность Пастернака за то, что вакансию заполнили мертвым, имеет глубокий смысл: слава Богу, теперь компрометировать будут не меня, а я смогу писать, как прежде, «в таинственности»! В которой мы с вами, товарищ Сталин, так хорошо друг друга понимаем: вы ведь тоже любите тайны…
Когда Бухарин перед Новым годом попросил Пастернака написать что-нибудь в праздничный номер «Известий», последовала «искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон», – как комментировал впоследствии сам Пастернак свои «Два стихотворения». «Художник» по крайней мере выдержан на обычном для Пастернака уровне (и есть в нем выдающиеся строчки), но «Я понял: все живо» – худшие стихи, когда-либо Пастернаком опубликованные. Тут уж не лошадь объезжает себя в манеже – лошадь бегает ямбом; этот двустопный амфибрахий похож на прыжки в вольере. Бросился на стенку—упал, бросился– упал… Мы не отказывали себе в наслаждении цитировать лучшие стихи Пастернака, процитируем же и эти – из горького удовольствия показать, как поэтический дар ответно издевается над поэтом, решившим его укротить. Пастернак никогда не перепечатывал этого известинского ужаса, – но из песни слова не выкинешь, пусть он нас простит.
6
Я понял: все живо.
Векам не пропасть,
И жизнь без наживы —
Завидная часть.
Бывали и бойни,
И поед живьем, —
Но вечно наш двойня
Гремел соловьем.
Глубокою ночью,
Задуманный впрок,
Не он ли, пророча,
Нас с вами предрек?
…
Спасибо предтечам,
Спасибо вождям.
Не тем же, так нечем
Отплачивать нам.
И мы по жилищам
Пройдем с фонарем,
И тоже поищем,
И тоже умрем.
И новые годы,
Покинув ангар,
Рванутся под своды
Январских фанфар
И вечно, обвалом
Врываясь извне,
Великое в малом
Отдастся во мне.
И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин, и Сталин,
И эти стихи.
Железо и порох
Заглядов вперед
И звезды, которых
Износ не берет.
Немудрено, что после этого стихотворения современники усомнились в его душевном здоровье! «Пастернак опустошен и пишет черт знает какую ерунду», – сказал Тынянов Чуковскому 7 января 1936 года. (Пастернак и сам на Минском пленуме сказал об этих стихах: написаны «черт знает как»; совпадение неслучайное, без черта явно не обошлось.) Михаил Голодный на том же Минском пленуме Союза писателей принялся гадать, что означает двойня, гремевший соловьем; он предположил, что это Пастернак с Байроном (с которым он когда-то, по собственному признанию, курил). Флейшман осторожно предполагает, что это отсылка к «Определенью поэзии» («Это – двух соловьев поединок»). С тем же успехом это может быть союз художника и вождя, то есть предельно крайних двух начал, соловьиный дуэт Маркса – Энгельса или Ленина – Сталина. Слава Богу, из публикации в апрельском «Знамени» Пастернак снял и эту строфу, и последующую; а то и в самом деле, очень уж хорошо звучит, эпично – «бывали и бойни, и поед живьем»… Всякое бывало, конечно, и живьем кушали – очень даже свободно; но под соловьев все это как-то сходило… Главное – восстановлена историческая преемственность: все живо, векам не пропасть. Все, что объявлялось буржуазным наследием, дряхлым прошлым культуры, – взято в оборот; классику изучают, балет танцуют – чего ж еще? Показательно, что ощущение связи времен появилось у Пастернака именно тогда, когда в общих своих чертах восстановилась империя и стал насаждаться ложноклассический тяжеловесный стиль; это лишний раз доказывает, что он был человеком классической культуры, традиционалистских до консервативности взглядов, любому футуризму предпочитал реализм, причем как можно более аскетичный в смысле выразительных средств… Совершенно в духе пионерского монтажа эта радостная, румяная благодарность: «Спасибо предтечам! Спасибо вождям!» Хороша по звуку здесь только одна строфа – «И мы по жилищам пройдем с фонарем, и тоже поищем, и тоже умрем». С фонарем – стало быть, по-диогеновски ища человека, но в общем контексте стихотворения это, увы, скорее наводит на мысль о ночных обысках; тем более что Диоген ходил не по жилищам, а по улицам. Дальше начинается совершенный бред, единственно адекватной реакцией на который мог бы стать смех у завалин; особенно хороша, конечно, «мысль от сохи»… Венчается все неудобопонятным «железом и порохом заглядов вперед» – и, разумеется, неизносными, несносными звездами.
Как ни ужасен этот стихотворный уродец – не забудем, что с него началось пастернаковское увлечение короткой строкой, великолепный лаконизм «Сказки», «Свадьбы», «Синего цвета»: нужно мужество, чтобы в начале каждого нового периода писать плохо, – и пока пастернаковская ясность не стала органичной, она производит впечатление мучительной ломки, силового заталкивания речи в ритм. Так же развивался и Толстой: страшно после «Войны и мира» читать его детские сказки – а ведь с них начиналась гениальная нагая проза «Хаджи-Мурата» и «Отца Сергия».
Пастернак в Минске комментировал это так: «В течение некоторого времени я буду писать плохо, с прежней своей точки зрения, впредь до того момента, пока не свыкнусь с новизной тем и положений, которых хочу коснуться. Плохо это будет со многих сторон: с художественной, ибо этот перелет с позиции на позицию придется совершить в пространстве, разреженном публицистикой и отвлеченностями, мало образном и неконкретном. Плохо это будет и в отношении целей, для которых это делается, потому что на эти общие для всех нас темы я буду говорить не общим языком, я не буду повторять вас, товарищи, а буду с вами спорить, и так как вас – большинство, то и на этот раз это будет спор роковой и исход его – в вашу пользу. И хотя я не льщу себя тут никакими надеждами, у меня нет выбора, я живу сейчас всем этим и не могу по-другому. Два таких стихотворения я напечатал в январском номере „Известий“, они написаны сгоряча, черт знает как, с легкостью, позволительной в чистой лирике, но на такие темы, требующие художественной продуманности, недопустимой, и, однако, так будет, и я не могу этого переделать, некоторое время я буду писать как сапожник, простите меня».
После этого благородного самоуничижения, встреченного добродушным смехом, его на некоторое время оставили в покое: перековывается человек… Тем более что от главного адресата никакой реакции не воспоследовало – а насчет истинного адресата «Художника» сомневаться было невозможно; и стихи были чеканные – не цитированным чета:
Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.
Далее следуют хорошо известные пять строф, характеризующие «артиста в силе»; среди них важнее всего мысль о том, что не художник подлаживается под время – а само оно подстраивается под него; это продолжение старой темы из «Высокой болезни» – век хочет быть как я:
Он этого не домогался.
Он жил как все. (Опять прямая цитата из «Высокой болезни» – «Всю жизнь я быть хотел как все».) Случилось так,
Что годы плыли тем же галсом,
Как век стоял его верстак.
Чувствуя неуклюжесть последней строчки – «как век, стоял его верстак», то есть «верстак стоял подобно столетию», а не «верстак стоял все время», – Пастернак для «Знамени» переписал всю строфу:
Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.
Важная тема ушла – а между тем Пастернак хотел напомнить, что большой художник не нарочно совпадает с эпохой: просто генеральные интенции их развития, как правило, до поры тождественны. Задним числом он оправдывает и Пушкина, который совпал с николаевской эпохой (правда, ненадолго – и скоро в том убедился); подчеркивает и свое совпадение со временем – в стремлении к простоте, в уважении к «деяниям» и «поступкам». «Век хочет быть как я», а вовсе не я, задрав штаны, поспешаю за веком, – потому что оба мы реализуем один и тот же Замысел, и тут дело не в соотношении масштабов, а в общем векторе. Именно по этой логике и возникает параллельный портрет, который Пастернак впоследствии, в сборнике «На ранних поездах», отбросил:
А в те же дни на расстоянье
За древней каменной стеной
Живет не человек – деянье:
Поступок ростом в шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел:
Он – то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.
За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел:
Он не взвился небесным телом,
Не исказился, не истлел.
В «знаменской» публикации Пастернак эту строфу снял – для внимательного читателя смысл ее слишком ясен: в заслугу «гению поступка» ставится то, что, пока он вершит свои немыслимые преобразования, уклад вещей остается неизменен, то есть восстанавливается преемственная связь веков; революция продолжается, но не так, как вел ее «предшествующий» (ясно ведь, кто предшествовал Сталину). Ничто больше не взвивается небесным телом, не искажается и не гибнет, идет жизнь со всеми приметами нормальной, размеренной и даже комфортной, – а между тем происходят грандиознейшие перемены, скрытые до поры под видимостью стабильности!
В собранье сказок и реликвий,
Кремлем плывущих над Москвой,
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.
Но он остался человеком,
И если, зайцу вперерез,
Пальнет зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
Ситуация – если отбросить моральные оценки, всегда детерминированные временем, – обрисована точно. Как всякая настоящая лирика, «Художник» амбивалентен – то есть допускает множественные толкования; да, художник поглощен вождем, но знаковое слово здесь «тяжелеет» – и эта поглощенность ему в тягость, даже если речь идет о постоянной (со времен «Нескольких положений») пастернаковской метафоре искусства как всевбирающей губки. Да, гений поступка изображен простым и человечным – «он остался человеком», – но в доказательство приводится именно эпизод охоты, а мы еще по «Высокой болезни» помним, что тема преследования и загнанности всегда выглядит у Пастернака трагической и вводится как предвестие катастрофы. Наконец, художник и «поступок ростом в шар земной» названы началами предельно крайними – и если под художником понимать нечто гуманистическое и созидательное, то на противоположном полюсе окажутся бесчеловечность и разрушение. Не в последнюю очередь это сопоставление – чересчур смелое по ужесточавшимся временам – стало причиной отказа Пастернака от последующих публикаций второй части диптиха, без которой, надо заметить, первая превратилась в банальную декларацию творческой зрелости и стыда за сделанное.
В полном же варианте «Художник» свидетельствовал совсем об ином – о том, что Пастернак тождественным образом понимает свою эволюцию и путь страны. О том, куда этот путь ведет, подробнее сказано в кратком публицистическом тексте «Новое совершеннолетье», опубликованном 15 июня 1936 года в бухаринских «Известиях»: «Свободна яблоня, гнущаяся до земли под тяжестью своего урожая. Свободна от пустоцвета, от незадач опыленья, от засухи и червяка, ото всего, что, ценою бесплодья, облегчило бы и выпрямило ее ветки».
Вот оно: вам нужда свобода – мне нужна несвобода. Чтобы плодоносить.
«Новое совершеннолетье» – заглавие, отсылающее к цитате из «Охранной грамоты», к характеристике собственных поэтических занятий: «От остальных друзей, уже видавших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового несовершеннолетья тщательно скрывал». Здесь речь идет о втором отрочестве, пережитом Пастернаком, когда он решительно порвал с музыкой и начал с нуля, сосредоточившись на стихах. В статье 1936 года он открыто уподобляет собственное стадиальное развитие такому же прерывистому пути страны, которая, тоже отрекшись от прошлого и начав с нуля, достигла наконец совершеннолетия на вновь избранном поприще. «Новое совершеннолетье» – это чудо восстановленной преемственности, когда после периода бунтов и разрывов, после футуристических и космических утопий двадцатых годов созревший художник протягивает руку своему прошлому. Мы сегодня уже знаем, что кажущееся восстановление традиции чревато куда большими жертвами, чем ее разрыв; что реставрация только делает вид, будто вправляет вывихи, а на самом деле ломает руки… но этот страшный урок еще только предстояло затвердить.
Сталинская – на деле написанная Бухариным – конституция формально даровала населению все политические свободы (кроме «свободы союзов»), ее восторженно встретили западные левые интеллектуалы, увидевшие в ней образцовый документ демократического государства, возвращение России в семью цивилизованных народов – в тот самый момент, как Германия и Италия, зараженные коричневой чумой, эту семью покинули. Пастернаковское понимание свободы как несвободы в первый момент может показаться оруэлловским («Мир – это война»), но оно естественно вытекает из всей мировоззренческой концепции Пастернака и его христианства. Поэзия есть долг (о чем Пастернак часто говорил близким и в сороковые, и в пятидесятые. «Талант дается Богом только избранным, и человек, получивший его, не имеет права жить для своего удовольствия, а обязан всего себя подчинить труду, пусть даже каторжному», – говорил он невестке, Галине Нейгауз, в 1957 году, подкрепляя эту мысль автоцитатой: «Не спи, не спи, художник»). О какой свободе может говорить христианин, или мастер, или влюбленный? Они жесточайшим образом закрепощены Служением – по своему добровольному выбору. Свобода яблони – в том, чтобы плодоносить, и ей необходим садовник, который бы защищал ее «от засухи и червяка» – такой видится Пастернаку функция государства.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































