Текст книги "Борис Пастернак"
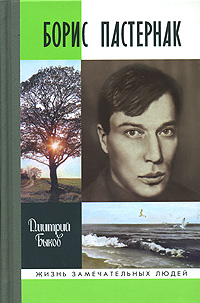
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 77 страниц)
Пастернак всем своим опытом наглядно доказывает, что душевное здоровье не только не мешает поэту, – напротив, оно ему необходимо. Творчество как раз и есть высшая форма такого здоровья – или по крайней мере безотказный способ лечения. Болезни тела не мешали Пастернаку никогда (и даже, как мы видели, подталкивали его к творчеству); болезнь духа одолела его единственный раз, в тридцать пятом, и блокировала творческую способность надолго. Причиной этой болезни были завышенные ожидания, бремя которых возложили на него собратья по перу и представители власти; не возражая против того, чтобы занять вакансию поэта, – в конце концов, тут была гамлетовская, мужественная покорность судьбе, – он не был готов к тому, чтобы занять вакансию поэта лживого и бессовестного. Пушкин под гнетом своего добровольно-принудительного государственничества погиб; ровно сто лет спустя Пастернак сумел выжить – ценой опалы, которая во многом оказалась спасительной.
Для того чтобы проникнуть в «светлое поле сознания» (дефиниция Пруста), подсознание выбирает непредсказуемые лазейки. Если поэт по тем или иным причинам боится вслух признаться, что в стране свирепствует террор и что ему попросту страшно, страх принимает причудливые формы; Пастернак пережил внезапный и беспричинный припадок ревности. Началось это в марте, когда в Ленинграде он остановился в той самой гостинице (ныне «Октябрьская»), где Зина встречалась с кузеном. Но апогея достигло летом. Появляется страшное письмо к Зине из Парижа: «И сердце у меня обливается тоской и я плачу в сновидениях по ночам по той причине, что какая-то колдовская сила отнимает тебя у меня. Я не понимаю, почему это сделалось, и готовлюсь к самому страшному. Когда ты мне изменишь, я умру. Это совершится само собой, даже, может быть, без моего ведома. Это последнее, во что я верю: что Господь Бог, сделавший меня истинным (как мне тут вновь говорили) поэтом, совершит для меня эту милость и уберет меня, когда ты меня обманешь».
Летом тридцать пятого Зинаиде Николаевне, только что со страхом отпустившей Пастернака в Париж, не до измен – она беспокоится из-за болезни мужа, она вся в хлопотах и воспитании сыновей, да и вообще после периода веселой сексуальной свободы (совпавшего с советской сексуальной революцией двадцатых годов) держится на редкость строго, как и ее молодое, но уже пуританское государство. Но в тридцать пятом, когда из-под ног у Пастернака уходит почва, ему кажется, что от него уходит жена. Страна, которую он только было полюбил, переродилась. «Отсюда наша ревность в нас».
На конгрессе он собирался выступать по тетрадке; Эренбург эту тетрадку просмотрел и посоветовал порвать. По его свидетельству, она была исписана старомодными, книжными французскими фразами, речь шла об абстрактных материях, о великой роли искусства… все было путано… Трудно сейчас сказать, насколько прав был Эренбург: вполне возможно, что Пастернак собирался говорить о свободе художника – а это была явно не та тема. Он прибыл на конгресс в неприятный, острый момент: все шло совсем не по сценарию, почему его, собственно, и мобилизовали так срочно. Советская делегация вынуждена была отвечать за ущемления свободы слова в СССР, за судьбу Виктора Сержа (В. Кибальчича), – журналиста, троцкиста, отбывавшего трехлетнюю ссылку в Оренбурге. Его процесс (1933) имел широкий резонанс в Европе. Троцкистка Мадлен Паз взяла слово (его предоставил Мальро, поскольку настаивал на полной свободе для всех участников конгресса) и стала утверждать, что в СССР преследуют инакомыслящих. Ей возражали Тихонов и Киршон – одинаково неубедительно, причем Киршон заявил, что из-за таких, как Серж, погиб Киров. Андре Жид сказал, что не даст так грубо нападать на СССР, – но именно он после конгресса отправился в советское посольство с просьбой об освобождении Сержа. (Флейшман ошибочно указывает, что Пастернак также писал Калинину – уже по возвращении из Парижа – с просьбой освободить Сержа; фраза из письма к Зинаиде Николаевне от 14 августа 1935 года, из Болшева, – «Родим свободу Виктору», – подразумевает другого Виктора. Речь идет о Викторе Феликсовиче Афанасьеве, сыне того самого музыканта Ф. Блуменфельда, о чьих похоронах написано стихотворение «Упрек не успел потускнеть». После ходатайства Пастернака десятилетний срок был снижен до пяти лет, но в 1938 году, еще в заключении, Афанасьев получил новый срок – снова десять лет – и то ли погиб, то ли был расстрелян год спустя. За Сержа Пастернак не заступался никогда – он просил только за друзей и родственников, то есть тех, за кого мог поручиться.)
После скандала вокруг Сержа появление Пастернака на конгрессе 24 июня было важным аргументом советской делегации: он олицетворял собою настоящую поэзию и чистую совесть. Зал встал, Мальро представил его: «Перед вами один из самых больших поэтов нашего времени» – и перевел с листа: «Так начинают». Пастернак сказал несколько общих слов, – последовала овация. «Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником». Это все, что Цветаева и Тихонов совокупными усилиями смогли контаминировать для печати из его речи (Цветаева ходила на конгресс и, не будучи его участницей, много общалась с советской делегацией; это тоже раздражало Пастернака – он-то уже знал цену Тихонову, а увлекающаяся Цветаева была в восторге от мужественного поэта, да еще и подчеркивала этот восторг, стремясь уязвить разочаровавшего ее Бориса). По его собственному свидетельству (в разговоре с Исайей Берлином), Пастернак высказал все-таки под занавес свою заветную мысль: «Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы оказать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация – это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо». Берлин специально расспрашивал Мальро – но француз этой речи вообще не помнил.
Вначале Пастернак думал остаться в Париже недели на две-три – именно за столько времени его брались привести в себя французские врачи; здешние снотворные наконец начали на него действовать, а главное – он пришел в восторг от самой атмосферы Парижа. «Это целый мир красоты, благородства и веками установившейся человечности, из которого, как заимствованье, в свое время рождались всякие Берлины, Вены и Петербурги». Очень уж он истосковался в России без главного – без человечности, которая здесь была естественной, ею дышало все. Потом раздумал задерживаться – и Щербаков отсоветовал, и по жене Пастернак скучал все сильней. Впрочем, была у его скорого возвращения и материальная причина – он получил на руки мало валюты, на лечение требовалось куда больше (в выдаче этих денег полпредство ему отказало).
Все это время он мечется по городу, выбирая платье жене, почему-то ему уж очень нужно любой ценой привезти ей как можно больше платьев, – он говорит об этом со всеми, даже с Мариной Цветаевой: «феерическая бестактность», как выражался Маяковский, и притом двойная. Надо было в самом деле очень плохо понимать Цветаеву (или демонстративно желать ее оскорбить), чтобы советоваться с ней по какому бы то ни было бытовому вопросу; ей невыносима была сама мысль о том, что ее – Поэта! – спрашивают о платье. Но был у этой бестактности и второй аспект: Цветаева все еще продолжала считать себя «в состоянии романа» с Пастернаком, как иные державы десятилетиями считают себя в состоянии войны. «Но какая она, твоя жена?» – спрашивает Цветаева, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло. «Ах, она красавица! Просто – красавица!» И начинает описывать, какой у нее бюст. Можно себе вообразить, как это подействовало на Цветаеву, если – по свидетельству Эммы Герштейн – даже в сороковом году, при первой встрече с Ахматовой, разговор о Пастернаке упирается в этот эпизод. В прихожей, перед выходом на улицу (они с Ахматовой отправляются в театр), Марина Ивановна начинает показывать, как именно Пастернак обрисовывал бюст, – и поражает целомудренную Герштейн неприятной развинченностью движений.
Вместо себя Цветаева отправляет с Пастернаком по магазинам дочь. Яркая красота дочери давно вызывает у Цветаевой не то чтобы ревность – она слишком высоко себя ценит, – но упорную неприязнь: ей кажется, что это не ее Аля, не тот чудо-ребенок, которого она лепила в революционной Москве по своему образу и подобию; вместо Алиангела перед ней «нормальная девушка» – этого она не переносила.
У Пастернака, как было уже сказано, о женской красоте были на редкость традиционные представления; молодая прелесть Али никак на него не подействовала. Что, быть может, и к лучшему. В пятьдесят шестом, перед Алиным возвращением из лагеря, он скажет Ивинской и ее дочери: «Она такая некрасивая… Совсем непохожа на мать, такая маленькая голова…» Если голова и казалась маленькой, то разве от слишком больших глаз; вообще же Аля – одна из самых очаровательных женщин в русской литературе, и Ивинская при первой же встрече с ней (они подружились сразу) была поражена несовпадением действительности и пастернаковской характеристики. Но, хотя Пастернак и не оценил ее прелести (и даже имени не запомнил толком, как выяснилось), болтали они славно – в Але было то самое душевное здоровье, какое он в это время так ценит и какого так не хватало ему самому. Они ходили по магазинам, выбирали подарки, Аля хотела вернуться, он не отговаривал. Вопрос о возвращении вообще обсуждался чаще других – с Алей, с Мариной, с Сергеем. Пастернак не давал окончательного ответа, уходил от разговора; явные советские симпатии Сергея – не имевшего о советской жизни никакого представления – мешали ему говорить откровенно. «Я был как спартанский мальчик, которому лисица выгрызает внутренности, а он не должен кричать», – сказал он в 1956 году посетившему его молодому поэту Льву Лившицу (ныне известному как Лев Лосев).
Але он с первого взгляда очень понравился; они сразу перешли на «ты», да вдобавок она была так одинока даже в среде «левой» эмигрантской молодежи, что гулять и разговаривать с «Борисом» стало для нее истинным наслаждением. В письмах к нему она часто вспоминала номер гостиницы, пропахший апельсинами, и полуголого Лахути, бродившего по коридорам: ему нечего, совсем нечего было делать в Париже.
Вскоре после окончания конгресса Пастернак сидел с Цветаевой и ее семьей в кафе. Разговор шел опять о возвращении и был Пастернаку в тягость. Он встал, сказал, что идет купить папирос, вышел из кафе и не вернулся. В другое время он, конечно, не позволил бы себе ничего подобного, но сейчас, сбежав, испытал искреннее облегчение. «Вы „идете за папиросами“ и исчезаете навсегда», – написала ему Цветаева, помещая его в ряд всех бросивших – предавших – ее. Но и ей, кажется, легче было от того, что случилась «невстреча»: «Женщине – да еще малокрасивой, с печатью особости, как я, и не совсем уже молодой – унизительно любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок. Я бы хотела бы – не могла. Раз в жизни, или два? – я любила необычайно красивого человека, но тут же возвела его в ангелы».
Знала бы она, каково красавцу и ангелу.
34 июля Пастернак выехал из Парижа в Лондон, а оттуда 6 июля – в Ленинград пароходом. В Лондоне он мельком виделся с Р. Ломоносовой и ее мужем. Возвращался в одной каюте с Щербаковым и две ночи подряд изводил его разговорами. Щербаков сначала кивал, потом пытался не слушать, потом засыпал, потом просыпался – а Пастернак в душной каюте все сидел на кровати и говорил, говорил.
Одни считают, что это был бред. Другие – что Пастернаку важно было прикинуться душевнобольным перед чиновником, которому предстояло писать отчет об антифашистском конгрессе, а конгресс-то, в общем, провалился: не спасли его ни смешное выступление Бабеля, который, по воспоминаниям Эренбурга, «веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами», ни овация, которой встретили невнятную речь Пастернака, ни агрессивные выступления прочих членов делегации. Пастернаку выгодно было в отчете Щербакова предстать полусумасшедшим, которого и посылать никуда не следовало. «Может быть, я многим обязан его диагнозу моего состояния», – мудро замечал Пастернак в разговоре с сэром Исайей. Щербаков по возвращении в Москву сказал Зинаиде Николаевне, что Пастернак остался в Ленинграде и что лучше бы его оттуда забрать – он явно неадекватен. Борис Леонидович остановился у Фрейденберг. Оттуда он дал жене телеграмму, чтобы она за ним не приезжала, а затем написал и письмо: «Боюсь всех московских перспектив – дома отдыха, дач, Волхонской квартиры – ни на что это у меня не осталось ни капельки сил. Я приехал в Ленинград в состояньи острейшей истерии, т. е. начинал плакать при каждом сказанном кому-нибудь слове. В этом состояньи я попал в тишину, чистоту и холод тети Асиной квартиры и вдруг поверил, что могу тут отойти от пестрого мельканья красок, радио, лжи, мошеннического и бесчеловечного ко мне раздуванья моего значенья, полуразвратной обстановки отелей, всегда напоминающих мне то о тебе, что стало моей травмой и несчастьем, и пр. и пр. И надо же наконец обрести тот душевный покой, которого я так колдовски и мучительно лишен третий месяц! (…) Ты сюда не приезжай, это слишком бы меня взволновало. (…) У Щербакова список вещей, задержанных на ленинградской таможне. Попроси его, он поможет тебе их выручить и получить».
Щербаков помог – они благополучно выручили три шерстяных вязаных платья и прочую всячину. Зинаида Николаевна приняла решение по-своему гениальное; по крайней мере, современные психоаналитики, сторонники простых и решительных техник, аплодировали бы ей. Она понимала, что раз гостиницы производят на Пастернака впечатление удручающее, он там вспоминает о ней и представляет ее, девочку, с Милитинским, – значит, надо вышибить клин клином и перевезти его в гостиницу, где они должны прожить какое-то время только вдвоем. Так страшное воспоминание будет вытеснено прекрасным. Она взяла у Щербакова письмо на ленинградскую таможню и отправилась в город. Билетов по летнему времени не было, Щербаков помог достать. В Ленинграде Зинаида Николаевна, несмотря на протесты Ольги Фрейденберг, перевезла мужа в «Европейскую». О чудо, лобовой ход подействовал: они прожили вместе неделю, «очень хорошо», по ее воспоминаниям.
Есть темное свидетельство Анны Ахматовой, будто Пастернак в июле 1935 года «делал ей предложение». Анне Андреевне свойственно было не вполне адекватно интерпретировать заботу о ней, проявляемую поэтами-современниками. Преувеличение собственной женской притягательности было непременной и, пожалуй, невинной составляющей ее лирического образа. Уверенность, что все в нее влюблены, не безвкусна, а трагична и величава: всеобщая героиня, всеобщая жертва – «и многих безутешная вдова». Когда Мандельштам за ней ухаживал – в самом прямом и общечеловеческом смысле, во время ее тяжелой простуды в 1923 году, – ей казалось, что ухаживание носит характер двусмысленный, и она попросила Мандельштама видеться с ней реже, «чтобы не возникли толки». Однажды она рассказывала, что Пастернак во время их встречи в конце двадцатых так увлекся, что начал «хватать ее за колени». Весьма возможно, что в тридцать пятом, в Ленинграде, Пастернак в самом деле виделся с Ахматовой, хотя никаких свидетельств, кроме ее слов, нет. Возможно, он посетил ее в Фонтанном доме – и увидел, в каких условиях она там жила; условия были и в самом деле фантастические – Ахматова, как и Цветаева, всю жизнь расплачивалась за принадлежность к миру «нечеловеков». Николай Пунин, блестящий знаток русского футуризма, основатель авангардной коллекции в Русском музее и сам большой авангардист – в том числе и в жизни семейственной, – был мужем Ахматовой с 1925 года, но от жены при этом не уходил, так что Ахматова жила с Луниными во флигеле Фонтанного дома, а при всех попытках уйти от Лунина подвергалась прямому шантажу: «Я не могу без вас жить, я не могу без вас работать!» – и в конце концов возвращалась к нему (и его семье). В середине тридцатых у нее начался роман с ленинградским врачом-патологоанатомом, человеком тяжелым, нервным и разнообразно одаренным, – Владимиром Гаршиным; встречи происходили в том числе и в Фонтанном доме, где за стеной жили Лунины… Вероятнее всего, Пастернак предложил Ахматовой переехать к нему в Москву – она же расценила это как «предложение» (и, если знать ее, – не могла расценить иначе).
О своей болезни Пастернак вспоминал неохотно. «Причины были в воздухе, и широчайшего порядка», – писал он родителям два года спустя. Родители сильно обиделись на его неприезд, еще сильнее обиделась Цветаева, которая уехала в Фавьер из Парижа 28 июня, не дождавшись даже, когда Пастернак уедет в Лондон. Тесковой она писала 2 июля: «О встрече с Пастернаком (– была – и какая – невстреча!)…» Ему самому она писала куда жестче – в конце октября 1935 года: «О тебе: право, тебя нельзя судить, как человека… Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет – не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь). (…) О вашей мягкости: вы – ею – откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дары ран, вами наносимых, вопиющую глотку – ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы – чтобы „не обидеть“. Вы „идете за папиросами“ и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. (…) Но – теперь ваше оправдание – только такие создают такое. (…) Я сама выбрала мир нечеловеков – что же мне роптать?
Твоя мать, если тебе простит, – та самая мать из средневекового стихотворенья – помнишь, он бежал, сердце матери упало из его рук, и он о него споткнулся: «Et void que le coeur lui dit: T’es-tu fait mal, mon petit?’»
Конечно, Пастернак знал французскую песенку Жана Ришпена: «В одной деревне парень жил и злую девушку любил… Она сказала: для свиней дай сердце матери твоей!» Парень вырвал материнское сердце, бежит с ним к девушке, спотыкается, падает – а сердце спрашивает: «Мой сын, не больно ли тебе?» В оригинале мягче – «Et le coeur disait en pleurant: „T’es tu fait mal, mon enfant?“» У Ришпена – «He больно ли тебе, дитя мое?» – а у Цветаевой – «Не больно ли тебе, мой маленький?» (отмечено И. Коркиной и Е. Шевеленко). Кто вынесет такой упрек?
Марина Ивановна не простила разочарования, несоответствия собственному запросу – и выдумала вдобавок самую романтическую версию его неприезда к матери: он – не человек. Как Гёте, Шиллер, Рильке, Пруст или Штраус. Да ведь он ничего не решал: ему не дали времени заехать в Мюнхен на пути в Париж, не дали даже переночевать в Берлине, – а обратно ему предстояло бы ехать через фашистскую Германию (с антифашистского-то конгресса)… Щербаков запретил ему отклоняться от общего маршрута, и Пастернак при всем желании не мог объяснить Цветаевой, что ослушаться уже нельзя. Для Цветаевой ослушание – основа благородства; она не понимает, как можно из страха перед властью поехать на конгресс, а потом отказаться от встречи с матерью. Пастернак пасует перед этой романтической позицией – Цветаевой еще только предстояло приехать сюда и все понять.
Как ни странно, после недели, проведенной с женой в «Европейской», Пастернак до некоторой степени излечился. А дальше возобновилась работа над прозой, и ему стало легче. В тридцать шестом над его головой прогремели последние громы большой славы – и началась сначала тихая, а потом все более явная опала. То есть он вернулся наконец в обстановку, к которой привык и о которой мечтал: от него ничего больше не ждали сверх того, что он умел и любил делать.
Глава XXX
Переделкино
1История умалчивает, кому принадлежит светлая мысль разбить под Москвой писательский дачный поселок. Эта мера естественно вписывается в литературную политику середины тридцатых – заключавшуюся главным образом в осыпании милостями. Шел тщательно организованный советский ренессанс. Отщепенцы временно были прощены. Разгромленный организационно, РАПП еще не подвергался репрессиям; попутчиков не просто реабилитировали, но выдвинули на первые роли. Писатели приравнивались к ударникам труда – и точно так же, как ударники, объединялись в бригады; выезды «на объекты» – в Среднюю Азию, Белоруссию, на стройки третьей пятилетки, – приняли массовый характер. Очень много ездили и ели. Деятели культуры становились особой кастой. В Москве появились дома художников, актеров, писателей – последние получили роскошный дом в Лаврушинском; не забудем, что до тридцать пятого Пастернак жил в коммуналке, на Волхонке, отдав отдельную квартиру на Тверской первой жене и сыну. Теперь он получил отдельную квартиру в Лаврушинском, но этим дело не ограничилось. Апофеозом прикорма стало строительство на одной из живописнейших станций Киевской железной дороги «Городка писателей».
Весьма возможно, что идея исходила от Сталина. Это в его вкусе. Общество, структурированное по профессиональному признаку, уже не может структурироваться по идейному – все слишком держатся за кастовые привилегии. Нечто подобное – интуитивно, конечно, – пытались устроить в восемнадцатом году большевики, когда в Петрограде появлялись общежития для инвалидов, сифилитиков, бывших проституток… впоследствии – Дом искусств, Дом ученых…
Люди так называемых творческих профессий приравнивались к производственникам. Почти осуществилась мечта Маяковского – «Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год». Госплан не привлекли, но писательское руководство вспотело – стали появляться социальные заказы на романы о том-то и том-то, переводы из тех-то и тех-то…
Переделкино, как и почти все Подмосковье, было тогда местом глухим и незастроенным. До революции здесь было имение славянофила Юрия Самарина, с чьим внучатым племянником Дмитрием Пастернак – вечные совпадения! – был хорошо знаком. В имении теперь размещался детский туберкулезный санаторий. Переделкино с его символическим названием было первым подмосковным дачным поселком «для творческих людей» – Телемской обителью в сосняке; распределением дач ведал Горький. Новая литературная политика сказалась в том, что первые дачи были получены как раз попутчиками – они достались Федину, Малышкину, Пильняку, Леонову, Иванову, Пастернаку. Здесь же, когда писателей станет много – в одной Москве тысяч пять, – выстроят Дом творчества: нечто вроде санатория, куда можно будет приезжать на месяц или два и работать в тиши, среди дружественных белок и настороженно-враждебных коллег.
С 1936 года Пастернак проводил на переделкинской даче почти все время, бывая в Москве лишь «когда необходимо» («На ранних поездах»). Сначала ему дали огромный шестикомнатный дом с холлом и верандой, на тенистом участке, где ничего не росло. Рядом жил Пильняк, напротив – Тренев: Пильняк – чуть ли не единственный московский друг Пастернака, Тренев – старый драматург, человек безобидный и порядочный. В тридцать восьмом возьмут Пильняка, и Пастернак захочет переехать – он не мог жить рядом с домом, постоянно напоминавшим ему о судьбе друга. После смерти Малышкина (этот умер сам, большое по тем временам везение) Пастернаку и его жене достался дом, в котором теперь музей, – так называемая «дача № 3», небольшая, уютная, на просторном и светлом участке.
«Это именно то, о чем можно было мечтать всю жизнь. В отношении видов, приволья, удобства, спокойствия и хозяйственности, это именно то, что даже и со стороны, при наблюдении у других, настраивало поэтически. Такие, течением какой-нибудь реки растянутые по всему горизонту отлогости (в березовом лесу) с садами и деревянными домами с мезонинами в шведско-тирольском коттеджеподобном вкусе, замеченные на закате, в путешествии, откуда-нибудь из окна вагона, заставляли надолго высовываться до пояса, заглядываясь назад на это, овеянное какой-то неземной и завидной прелестью поселенье. И вдруг жизнь так повернулась, что на ее склоне я сам погрузился в тот, виденный из большой дали мягкий, многоговорящий колорит».
Ему казалось, что это склон жизни, – письмо адресовано отцу, написано в тридцать девятом, 15 июля, после переезда на новую дачу. В письмах этой поры ноты прощания с жизнью отчетливы и умиротворенно-печальны. Но ему предстояло прожить еще двадцать лет – лучших и главных.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































