Читать книгу "Сага о Форсайтах"
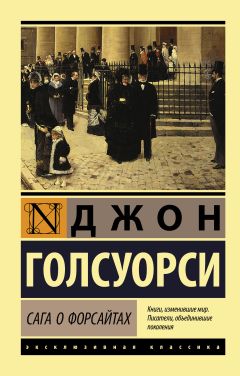
Автор книги: Джон Голсуорси
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Охота продолжается
Спустя два дня после обеда у Джемса мистер Полтид доставил Сомсу обильную пищу для размышлений.
– Некий джентльмен, – сказал он, заглядывая в ключ к шифру, спрятанный у него в левой руке, – 47, как мы называем его, весь этот месяц оказывал усиленное внимание 17 в Париже. Но в настоящее время нет еще ничего определенного. Встречи происходили в общественных местах, совершенно открыто, в ресторанах, в Опере, в Лувре, в Люксембургском саду, в гостиной отеля и т. п. Ни она не встречалась с ним ни у него в номере, ни наоборот. Они ездили в Фонтенбло, но ничего существенного. Короче говоря, положение вещей сулит надежды, но требует терпения. – И, внезапно подняв глаза на Сомса, он прибавил: – Одна довольно любопытная подробность: 47 носит ту же фамилию, что… и… мм… 31.
«Эта скотина знает, что я ее муж», – подумал Сомс.
– Зовут его – странное имя! – Джолион, – продолжал мистер Полтид. – Нам известен его адрес в Париже и его местожительство здесь. Нам, разумеется, было бы нежелательно идти по ложному следу.
– Продолжайте в этом направлении, но будьте осторожны, – упрямо сказал Сомс.
Инстинктивная уверенность, что этот профессионал сыщик проник в его тайну, заставляла его держаться еще более скрытно.
– Простите, – сказал мистер Полтид, – я сейчас узнаю, нет ли чего-нибудь новенького.
Он вернулся, держа в руках несколько писем. Заперев за собой дверь, он бегло просмотрел конверты.
– Вот, есть письмо лично мне от 19.
– Да? – сказал Сомс.
– Гм! – пробормотал мистер Полтид. – Она пишет: «47 сегодня уехал в Англию, адрес на его багаже – Робин-Хилл. Расстался с 17 в Лувре в 3.30. Ничего заслуживающего внимания. Остаюсь продолжать наблюдение за 17. Вы можете проследить за 47 в Англии, если найдете нужным». – И мистер Полтид поднял на Сомса взгляд, лишенный профессионального выражения, точно он собирал материал для книги о человеческой природе, которую решил написать, когда оставит свое дело. – Очень умная женщина 19 и замечательно гримируется. Недешево обходится, но есть за что платить. До сих пор они не подозревают, что за ними следят, но по прошествии некоторого времени, знаете, случается иногда, что впечатлительные люди начинают чувствовать это, хотя бы у них и не было никаких подозрений. Я бы посоветовал сейчас оставить 17 в покое и понаблюдать за 47. Следить за перепиской, знаете, очень рискованно. Я не очень бы советовал делать это при настоящем положении вещей. Но вы можете передать вашему клиенту, что дела идут успешно.
И снова его прищуренные глаза блеснули на безмолвствующего посетителя.
– Нет, – внезапно сказал Сомс. – Я предпочитаю, чтобы вы, соблюдая всяческую осторожность, продолжали слежку в Париже и не занимались этим объектом здесь.
– Отлично, – сказал мистер Полтид. – Будет сделано.
– Каковы… как они себя держат друг с другом?
– Я вам прочту, что она пишет, – сказал мистер Полтид, открывая ящик стола и вынимая оттуда пачку бумаг. – Она излагает это весьма конфиденциально. Да, вот оно! «17 весьма привлекательна… что касается 47, то клыки стерты (жаргон для определения возраста, знаете ли) …явно неравнодушен… выжидает время, – 17, вероятно, уклоняется от объяснения, – сказать ничего нельзя, не ознакомившись ближе с делом. Но, в общем, можно предположить, что она находится в нерешительности – способна в один прекрасный день поддаться импульсу. Оба выдерживают стиль».
– Что это значит? – спросил Сомс, не разжимая губ.
– Это, – улыбнулся мистер Полтид, показывая два ряда белых зубов, – это такое специальное выражение. Другими словами, это история не на два дня: они или столкуются всерьез, или совсем не столкуются.
– Гм! – пробормотал Сомс. – Это все?
– Да, – сказал мистер Полтид, – но это сулит надежды.
«Паук!» – подумал Сомс.
– До свидания.
Он направился к Грин-парку, чтобы выйти к вокзалу Виктория и поехать подземкой в Сити. Погода стояла теплая для последних дней января. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь туман, горели на подернутой инеем траве, точно сверкающая паутина.
Маленькие паучки – большие пауки! И самый большой паук – это его собственное упорство, запутывающее все больше и больше своими нитями все пути к выходу. С какой целью этот тип увивается около Ирэн? Неужели это действительно так, как предполагает Полтид? Или, может быть, Джолион сочувствует ей в ее одиночестве, как он однажды выразился, – ведь он всегда был такой сентиментальный радикал? А что, если это на самом деле так, как говорит Полтид? Сомс остановился. Этого не может быть! Этот субъект старше его на семь лет, ни внешностью он не лучше, ни богаче! Что же в нем может быть привлекательного?
«К тому же он вернулся, – подумал он, – не похоже, чтобы… Поеду-ка повидаться с ним!» И, вынув визитную карточку, Сомс написал:
«Не могли бы Вы уделить мне полчаса как-нибудь на этой неделе – я буду ждать Вас в любой день в «Клубе знатоков» от 5.30 до 6 или, если это Вам удобнее, мог бы зайти во «Всякую всячину». Мне нужно Вас видеть.
С. Ф.»
Он свернул на Сент-Джеймс-стрит и передал карточку швейцару клуба «Всякая всячина».
– Передайте это мистеру Джолиону Форсайту, как только он придет, – сказал он и, окликнув один из этих недавно вошедших в моду таксомоторов, сел и поехал в Сити…
Джолион получил эту записку в тот же день и отправился в «Клуб знатоков». Что нужно от него Сомсу? Не узнал ли он чего-нибудь о Париже? Переходя Сент-Джеймс-стрит, Джолион решил не делать тайну из своей поездки. «Но, во всяком случае, – подумал он, – не следует ставить его в известность, что она там, если он только уже не осведомлен». В таком сложном состоянии духа он вошел в клуб, и его провели наверх, где у небольшого окна с выступом сидел Сомс и пил чай.
– Нет, благодарю, я не хочу чаю, – сказал Джолион, – я лучше покурю, если можно.
Шторы еще не были опущены, хотя на улице уже зажглись фонари; кузены сели, молча оглядывая друг друга.
– Я слышал, вы были в Париже, – наконец сказал Сомс.
– Да, только что вернулся.
– Мне говорил Вэл; ведь он и ваш сын, по-видимому, вместе отправляются на фронт.
Джолион кивнул.
– Скажите, вы не встречали за границей Ирэн? Она, кажется, где-то там.
Джолион окутал себя клубом дыма, прежде чем ответить.
– Да, я видел ее.
– Как она себя чувствует?
– Прекрасно.
Снова наступило молчание. Затем Сомс откинулся на спинку стула.
– Когда мы с вами виделись в последний раз, – сказал он, – я находился в нерешительности. Мы с вами беседовали, и вы высказали свое мнение. Я не хочу возвращаться к этому спору. Я только хочу сказать вот что: мое положение крайне затруднительно. Я бы не хотел, чтобы вы настраивали ее против меня. То, что произошло когда-то, было очень давно. Я хочу предложить ей забыть прошлое.
– Ведь вы уже предлагали ей, – пробормотал Джолион.
– Тогда это было для нее неожиданно, это потрясло ее. Но чем больше она об этом думает, тем для нее должно быть яснее, что это единственный разумный выход для нас обоих.
– Я бы сказал, что я вынес совершенно другое впечатление из разговоров с ней, – сказал Джолион с необычайным спокойствием. – И простите, если я позволю себе заметить, что вы в корне заблуждаетесь, думая, что рассудок тут что-нибудь значит.
Он увидел, как бледное лицо его кузена стало еще бледнее: сам того не зная, он повторил слова Ирэн.
– Очень вам благодарен, – сказал Сомс, – но я, может быть, вижу лучше, чем вы думаете. Я только хотел бы быть уверенным, что вы не воспользуетесь вашим влиянием для того, чтобы восстанавливать ее против меня.
– Не знаю, из чего вы заключили, что я вообще имею на нее какое-то влияние, – сказал Джолион. – Но если бы и имел, я считал бы своим долгом употребить его лишь на то, что, по моему мнению, способствовало бы ее счастью. Я, знаете ли, как теперь, кажется, принято говорить, «феминист».
– Феминист! – повторил Сомс, словно стараясь выгадать время. – Нужно ли это понимать так, что вы против меня?
– Грубо говоря, – сказал Джолион, – я против того, чтобы женщина жила с мужчиной, которого она определенно не любит. Мне это кажется отвратительным.
– И я полагаю, всякий раз, как вы видите ее, вы стараетесь внушить ей эти ваши взгляды?
– Вряд ли я сейчас имею возможность видеться с ней.
– Вы не собираетесь обратно в Париж?
– Да нет, насколько мне известно, – сказал Джолион, чувствуя внимательно-настороженный взгляд Сомса.
– Отлично, это все, что я имел вам сказать. И знаете, всякий, кто становится между мужем и женой, берет на себя тяжелую ответственность.
Джолион встал и слегка поклонился.
– До свидания, – сказал он и, не протянув руки, повернулся и пошел.
Сомс, не двигаясь, смотрел ему вслед. «Мы, Форсайты, – думал Джолион, садясь в кеб, – очень цивилизованная публика. У людей попроще дело, наверное, дошло бы до драки. Если бы мой мальчик не отправлялся на эту войну…» Война! Прежние сомнения зашевелились в нем. Хороша война! Порабощение народов или женщин! Стремление подчинить, навязать свое господство тем, кто вас не хочет! Отрицание самой элементарной порядочности! Собственность, священные права! И всякий, кто против них, – пария. «Но я, слава богу, всегда хоть чувствовал, что я против них», – думал он. Да! Он помнил, что даже до своей первой неудачной женитьбы его приводили в негодование жестокие расправы в Ирландии или эти ужасные судебные процессы, когда женщины делали попытку освободиться от мужей, которые им были ненавистны. Это церковники считают, что свобода души и тела – два разных понятия! Пагубное учение! Можно ли так разделять душу и тело? Свободная воля – в этом сила, а не греховность любого союза. «Мне бы следовало сказать Сомсу, – подумал он, – что, на мой взгляд, он просто смешон. Ах, но он и трагичен в то же время!»
Действительно, что в мире может быть трагичнее человека, ставшего рабом своего неудержимого инстинкта собственности, человека, который ничего за этим не видит и даже не способен просто понять чувства другого человека! «Надо написать ей, предостеречь ее, – думал Джолион. – Он собирается сделать еще попытку». И всю дорогу, пока он ехал домой в Робин-Хилл, он мысленно протестовал против этого неодолимого чувства долга по отношению к сыну, которое мешало ему уехать обратно в Париж…
А Сомс долго еще сидел в кресле, не в силах преодолеть не менее грызущую ревнивую боль, словно ему внезапно открылось, что этот человек действительно имеет перед ним преимущество, что он успел сплести новую паутину и преградить ему путь. «Следует ли это понимать так, что вы против меня?» Он ничего не добился, задав этот хитрый вопрос. Феминист! Фразер несчастный! «Мне только не надо торопить события, – думал он. – У меня еще есть время: он сейчас не едет в Париж, если он только не соврал. Подождем до весны». Хотя что могла принести ему весна, он и сам не мог бы сказать, – разве только усилить его мучения. И, глядя на улицу, где фигуры прохожих возникали в кругах света то у одного, то у другого фонаря, Сомс думал: «Все кажется ненужным, все бессмысленно. Я одинок – в этом все несчастье».
Он закрыл глаза и сейчас же увидел Ирэн в темном переулке за церковью. Она прошла и обернулась, и он видел, как сверкнули ее глаза и ее белый лоб под маленькой темной шляпой с золотыми блестками и длинной развевающейся сзади вуалью. Он открыл глаза – он так ясно ее видел! Какая-то женщина и правда шла по переулку, но это не она. Ах нет, там ничего нет!
XIII«А вот и мы!»
Туалеты Имоджин для ее первого сезона в течение всего марта месяца поглощали внимание ее матери и содержимое кошелька ее деда. Уинифрид с форсайтским упорством стремилась превзойти самое себя. Это отвлекало ее мысли от медленно приближавшейся процедуры, которая должна была наконец вернуть ей столь сомнительно желанную свободу; это отвлекало ее также и от мыслей о сыне и быстро приближавшемся дне его отъезда на фронт, откуда по-прежнему поступали тревожные известия. Точно пчелы, деловито перелетающие с цветка на цветок, или проворные оводы, что снуют и мечутся над колосистыми осенними травами, Уинифрид и ее «маленькая дочка», ростом почти с мать и разве только чуть уступавшая ей в объеме бюста, сновали по магазинам Риджент-стрит, по модным мастерским на Ганновер-сквер и Бонд-стрит, разглядывая, ощупывая ткани. Десятки молодых женщин с ослепительными манерами и с прекрасной осанкой проходили перед Уинифрид и Имоджин, облаченные в «творения искусства». Модели – «самая новинка, мадам, последний крик моды», – от которых они неохотно отказывались, могли бы наполнить целый музей; модели, которые они считали себя обязанными приобрести, почти истощили текущий счет Джемса. «Не стоит ничего делать наполовину», – думала Уинифрид, задавшись целью создать дочери в этот первый, единственный ничем не омраченный для нее сезон громкий успех. Терпение, которое они проявляли, испытывая терпение этих безличных созданий, плавно выступавших перед ними, дается только людям, движимым глубокой верой. И Уинифрид, простираясь перед своей возлюбленной богиней Модой, уподоблялась ревностной католичке, простертой перед Святой Девой; для Имоджин это было новое ощущение, отнюдь не лишенное приятности, – она и в самом деле бывала порой просто обворожительна, и, само собой разумеется, ей всюду льстили; словом, это было очень забавно.
На исходе дня двадцатого марта, после того как они надлежащим образом очистили Скайуорда, они по дороге зашли к Кэремел и Бекеру и, подкрепившись шоколадом со сбитыми сливками, отправились домой через Беркли-сквер в сумерках, уже пронизанных весной. Открыв дверь, заново выкрашенную в светло-оливковый цвет (в этом году ничего не было упущено в предвидении триумфального дебюта Имоджин), Уинифрид прошла к серебряной корзине посмотреть, не был ли у них кто-нибудь днем, и вдруг ноздри ее невольно вздрогнули. Что это за запах?
Имоджин, схватив роман, присланный из библиотеки, тут же углубилась в него. Уинифрид немножко резким тоном – все из-за этого странного ощущения в груди – сказала ей:
– Возьми книгу наверх, милочка, и отдохни перед обедом.
Имоджин, не отрываясь от книги, поднялась по лестнице. Уинифрид слышала, как хлопнула дверь в ее комнату, и глубоко потянула носом воздух. Что это? Или весна взбудоражила ее нервы, пробудив в ней тоску по ее «паяцу», вопреки всем доводам рассудка и оскорбленной добродетели? Мужской запах! Слабый аромат сигар и лавандовой воды, которого она не слышала с той самой ночи в начале осени, шесть месяцев назад, когда она назвала его «пределом». Откуда он взялся? Или это только призрак запаха – эманация памяти? Она огляделась по сторонам. Ничего, ровно ничего, ни малейшего беспорядка ни в холле, ни в столовой. Какая-то галлюцинация запаха – обманчивая, мучительная, нелепая! В серебряной корзине оказались визитные карточки: две – мистера и миссис Полгет Том и одна – мистера Полгет Тома; она понюхала их, но они издавали строгий пресный запах. «Я просто устала, – подумала она, – пойду прилягу».
Гостиная наверху тонула в полутьме, дожидаясь, чтобы чья-нибудь рука зажгла в ней вечерний свет; Уинифрид прошла к себе в спальню. Здесь тоже шторы были полуопущены и царила полумгла, так как было уже шесть часов. Уинифрид сбросила жакет – опять этот запах! И вдруг остановилась, точно ее пригвоздили к спинке кровати. Что-то темное приподнялось с кушетки в дальнем углу. Слово, всегда выражавшее ужас у них в семье, сорвалось с ее губ: «Боже!»
– Это я – Монти, – послышался голос.
Ухватившись за спинку кровати, Уинифрид потянулась и повернула выключатель над туалетом. Фигура Дарти выступила на самом краю светового круга, отчетливо выделяясь от нижней половины груди, где отсутствовала цепочка от часов, до изящных темно-коричневых ботинок – одного с разорванным носком. Плечи и лицо были в тени. Он очень похудел – или это игра света? Он сделал несколько шагов вперед, освещенный теперь от кончиков ботинок до темной шевелюры, слегка поседевшей, несомненно. Лицо у него потемнело, пожелтело. Черные усы утратили свой задорный вид и мрачно висели; на лице появились морщинки, которых она раньше не замечала. В галстуке не было булавки. Его костюм – ах да, она узнает его, но какой измятый, потертый! Она опять перевела глаза на носок его ботинка. Что-то огромное, жесткое настигло его, смяло, исковеркало, скрутило, выпотрошило. И она стояла молча, не двигаясь, глядя на трещину на его ботинке.
– Ну вот! – сказал он. – Я получил постановление суда. Я вернулся.
Грудь Уинифрид начала бурно вздыматься. Тоска по мужу, пробудившаяся от этого запаха, боролась с такой мучительной ревностью, какой она никогда еще не испытывала. Вот он стоит здесь – темная и точно загнанная тень самого себя, прежнего вылощенного и самоуверенного Монти! Какая сила сделала это с ним – выжала его, как апельсин, до самой корки! Это женщина!
– Я вернулся, – сказал он. – Мне было очень скверно, клянусь Богом! На палубе ехал. У меня нет ничего, кроме того, что на мне, да вот этого чемодана.
– А у кого же остальное? – вскричала Уинифрид, вдруг выйдя из оцепенения. – Как ты смел приехать? Ты знал, что только для развода тебе послали этот приказ. Не трогай меня!
Они стояли по обе стороны большой кровати, где в течение стольких лет они спали вместе. Много раз – да, много раз – ей хотелось, чтобы он вернулся. Но теперь, когда он вернулся, она чувствовала только холодную, смертельную злобу. Он поднял руку к усам, но не подкрутил их, как, бывало, раньше, а просто потянул вниз.
– Господи! – сказал он. – Если бы ты только знала, что я перенес!
– Рада, что не знаю.
– Дети здоровы?
Уинифрид кивнула.
– Как ты вошел?
– У меня был ключ.
– Значит, прислуга не знает. Тебе нельзя здесь оставаться, Монти.
У него вырвался горький смешок.
– А где же?
– Где угодно.
– Но ты только посмотри на меня. Эта… эта проклятая…
– Если ты только о ней скажешь слово, – вскричала Уинифрид, – я сейчас же отправлюсь на Парк-лейн и не вернусь домой!
И вдруг он сделал совсем простую вещь, но такую необычную для него, что она почувствовала жалость. Он закрыл глаза. Все равно как если бы он сказал: «Хорошо. Я умер для всего света».
– Ты можешь остаться переночевать, – сказала она. – Твои вещи все еще здесь. Дома только одна Имоджин.
Он прислонился к спинке кровати.
– Ну что ж, все в твоих руках. – И его собственные руки судорожно сжались. – Я столько вытерпел! Тебе нет надобности бить слишком сильно – не стоит. Я уже напуган, достаточно напуган, Фредди.
Услышав ласкательное имя, которым он не называл ее много лет, Уинифрид вздрогнула.
«Что мне делать с ним? – подумала она. – Господи, что мне с ним делать?»
– У тебя есть папироска?
Она достала папиросу из маленького ящика, который держала здесь на случай бессонницы, и дала ему закурить. И этот обыденный жест вернул к жизни трезвую сторону ее натуры.
– Пойди прими горячую ванну. Я приготовлю тебе белье и костюм в твоей комнате. Мы можем поговорить потом.
Он кивнул и поднял на нее глаза – какой-то полумертвый взгляд, или это только казалось оттого, что веки у него словно набухли?
«Он совсем не такой, как прежде, – подумала она. – Он никогда не будет таким, как был! Но какой же он будет?»
– Хорошо, – сказал он и пошел к двери. Он даже двигался иначе – как человек, который утратил все иллюзии и не уверен, стоит ли ему вообще двигаться.
Когда он вышел и Уинифрид услышала, как в ванной зашумела вода, она достала и разложила на кровати в его комнате полную смену белья и верхней одежды, потом спустилась вниз и принесла виски и корзину с печеньем. Снова надев жакет и секунду постояв, прислушиваясь у двери ванной, она тихонько спустилась и вышла из дому. На улице она остановилась в нерешительности. Восьмой час! Где сейчас может быть Сомс – у себя в клубе или на Парк-лейн? Она направилась на Парк-лейн. Вернулся! Сомс все время боялся этого, а она – надеялась, иногда. Вернулся! Это так похоже на него – сущий клоун – появляется: «А вот и мы!» И всех оставляет в дураках: и суд, и Сомса, и ее самое! Но развязаться с этим судом, знать, что эта угроза не висит больше над ней, над ее детьми! Какое счастье! Ах, но как примириться с его возвращением? Эта девка выпотрошила его, выбила из него пламя такой страсти, какой он никогда не проявлял к ней, на какую она даже не считала его способным. Вот что самое обидное! Ее себялюбивого, самоуверенного клоуна, которого она никогда по-настоящему не волновала, растоптала, опустошила другая женщина! Унизительно! Слишком унизительно! Просто невозможно, неприлично пустить его к себе! Но ведь она же добивалась этого, суд может теперь заставить ее! Ведь он все еще ее муж, как прежде, – она теперь ничего не может требовать от суда. А ему, разумеется, нужны только деньги, чтобы у него были сигары и лавандовая вода! Ах этот запах! «В конце концов, я же ведь не старуха, – подумала она, – ведь не старуха же я!» Но эта девка, которая довела его до таких слов: «Я столько вытерпел! Я уже напуган, достаточно напуган, Фредди!» Уинифрид подходила к дому отца, так и не совладав со всеми этими раздиравшими ее противоречивыми чувствами, но форсайтский инстинкт настойчиво и неотступно внушал ей, что как бы там ни было, он все же ее собственность, которую она должна оберегать ото всех, кто осмелится посягнуть на нее. В таком состоянии она вошла в дом Джемса.
– Мистер Сомс? У себя в комнате? Я поднимусь к нему; не говорите, что я здесь.
Брат ее переодевался. Она застала его перед зеркалом, он стоял и завязывал черный галстук с таким видом, словно глубоко презирал его концы.
– Алло! – сказал он, увидев ее в зеркало. – Что случилось?
– Монти, – каменным голосом сказала Уинифрид.
Сомс круто повернулся.
– Что?
– Вернулся!
– Попались на свою же удочку! – пробормотал Сомс. – Ах, черт, почему ты не дала мне сослаться на жестокое обращение? Я с самого начала знал, что это страшно рискованно!
– Ах, не будем говорить об этом! Что мне теперь делать?
Сомс ответил глубоким-глубоким вздохом.
– Ну что же? – нетерпеливо сказала Уинифрид.
– Что он говорит в свое оправдание?
– Ничего. У него один башмак рваный.
Сомс молча уставился на нее.
– А, – сказал он, – ну конечно! Промотал все, что мог. Теперь все опять начнется сначала! Это просто прикончит отца.
– Нельзя ли это как-нибудь скрыть от него?
– Невозможно! У него удивительный нюх на всякие неприятности. – И Сомс задумался, заложив пальцы за свои голубые шелковые подтяжки. – Нужно найти какой-нибудь юридический способ его обезвредить.
– Нет! – вскричала Уинифрид. – Я больше не желаю разыгрывать из себя дуру. Я скорей уж примирюсь с ним.
Они стояли и смотрели друг на друга – у обоих чувства били через край, но они не могли выразить их: для этого они были слишком Форсайты.
– Где ты его оставила?
– В ванне. – У Уинифрид вырвался горький смешок. – Единственное, что он привез с собой, это лавандовую воду.
– Успокойся, – сказал Сомс, – ты на себя не похожа. Я поеду с тобой.
– Какой в этом прок?
– Попробую поговорить с ним, поставлю ему условие…
– Условие! Ах, все опять пойдет по-старому, стоит ему только прийти в себя: карты, лошади, пьянство и…
Она вдруг замолчала, вспомнив выражение лица своего мужа. Обжегся мальчик, обжегся! Кто знает…
– Прийти в себя? – переспросил Сомс. – Он что, болен?
– Нет, сгорел; вот и все.
Сомс снял со стула жилет и надел его; потом надел сюртук, надушил платок одеколоном, пристегнул цепочку от часов и сказал:
– Не везет нам.
И хотя Уинифрид была поглощена своим собственным несчастьем, ей стало жалко его, точно этой ничтожной фразой он открыл ей свое глубокое горе.
– Я бы хотела повидаться с мамой, – сказала она.
– Она, наверное, с отцом в спальне. Пройди незаметно в кабинет. Я позову ее.
Уинифрид тихонько спустилась по лестнице и прошла в маленький темный кабинет, главной достопримечательностью которого был Каналетто, слишком сомнительный для того, чтобы его можно было повесить в другой комнате, и прекрасное собрание отчетов о судебных процессах, не раскрывавшееся много лет. Она стала спиной к плотно задернутым портьерам каштанового цвета и, не двигаясь, смотрела в пустой камин, пока не вошла мать и следом за ней Сомс.
– Ах, бедняжка моя, – сказала Эмили, – какой у тебя ужасный вид. Нет, в самом деле, как это возмутительно с его стороны!
В семье так тщательно воздерживались от проявления каких бы то ни было интимных чувств, что Эмили казалось совершенно невозможным подойти и обнять дочь. Но от ее мягкого голоса, от ее все еще полных плеч, сквозивших из-под дорогого черного кружева, веяло утешением. Собрав всю свою гордость, Уинифрид, не желая расстраивать мать, сказала самым непринужденным тоном:
– Все благополучно, мама, и волноваться не из-за чего.
– Не понимаю, – сказала Эмили, поворачиваясь к Сомсу, – почему Уинифрид не может сказать ему, что она подаст на него в суд, если он не удалится? Он взял ее жемчуг, и если он не привез его назад, этого уже достаточно.
Уинифрид улыбнулась. Они все теперь будут строить всякие предположения, давать советы, но она уже знает, что ей делать: просто – ничего. Чувство, что она в конце концов одержала какую-то победу, сберегла свою собственность, все сильнее и сильнее овладевало ею. Нет! Если она захочет наказать его, она сделает это дома, без свидетелей.
– Ну что ж, – сказала Эмили, – идемте как можно спокойней в столовую, ты должна остаться пообедать с нами. И, ты уж предоставь это мне, я сама скажу папе.
И, когда Уинифрид направилась к двери, Эмили выключила свет. Тут только они заметили, какая беда их ждет в коридоре.
Там, привлеченный светом, пробивавшимся из комнаты, которая никогда не освещалась, стоял Джемс, закутанный в свою верблюжью шаль песочного цвета, из которой он не мог высвободить рук, так что казалось, словно между его серебряной головой и ногами, одетыми в модные брюки, врезался кусок пустыни. Он стоял, бесподобно похожий на аиста, и смотрел с таким выражением, точно видел перед собой лягушку, которая была слишком велика, чтобы он мог проглотить ее.
– Что все это означает? – сказал он. – «Скажу папе»? Вы мне никогда ничего не говорите.
Эмили не нашлась что ответить. Сама Уинифрид подошла к отцу и, положив обе руки на его закутанные беспомощные руки, сказала:
– Монти не обанкротился, папа. Он просто вернулся домой.
Все трое ожидали, что случится что-то ужасное, и рады были хоть тому, что Уинифрид держит его за руки, но они не знали, как крепки корни в этом старом, похожем на тень Форсайте. Какая-то гримаса покривила его гладко выбритые губы и подбородок, какая-то тень пробежала между длинными седыми бакенбардами. Затем он твердо, почти с достоинством, произнес:
– Он меня сведет в могилу. Я знал, чем это кончится.
– Не нужно расстраиваться, папа, – сказала Уинифрид спокойно. – Я заставлю его вести себя прилично.
– Ах! – сказал Джемс. – Снимите с меня это, мне жарко.
Они размотали шаль. Он повернулся и твердой поступью направился в столовую.
– Я не хочу супу, – сказал он Уормсону и опустился в свое кресло.
Все тоже сели – Уинифрид все еще в шляпе, – в то время как Уормсон ставил четвертый прибор. Когда он вышел из комнаты, Джемс сказал:
– Что он привез с собой?
– Ничего, папа.
Джемс устремил взгляд на свое отражение в ложке.
– Развод! – бормотал он. – Вздор! О чем я думал? Мне нужно было предложить ему пенсион, чтобы он не возвращался в Англию. Сомс! Ты съезди и предложи ему это.
Это казалось таким разумным и простым выходом, что Уинифрид даже сама удивилась, когда сказала:
– Нет, пусть уж он останется теперь, раз вернулся; он должен просто вести себя прилично – вот и все.
Все посмотрели на нее. Всем было известно, что Уинифрид мужественная женщина.
– Там ведь, – не совсем вразумительно начал Джемс, – кто знает, что за бандиты! Поищи и отними у него револьвер! И не ложись спать без этого. Тебе нужно взять с собой Уормсона, чтобы он у вас ночевал. А завтра я с ним сам поговорю.
Все были растроганы этим заявлением, и Эмили сказала ласково:
– Правильно, Джемс, мы не потерпим никаких глупостей.
– Ах! – мрачно пробормотал Джемс. – Я ничего не могу сказать.
Вошел Уормсон с рыбой, и разговор перешел на другую тему.
Когда Уинифрид сразу после обеда подошла к отцу поцеловать его и пожелать ему спокойной ночи, он поднял на нее такие вопрошающие, такие тревожные глаза, что она постаралась собрать все свое мужество, чтобы сказать как можно непринужденнее:
– Все благополучно, папа, милый, не беспокойтесь, пожалуйста; мне никого не нужно, он совсем смирный. Я только расстроюсь, если вы будете волноваться. Спокойной ночи, спасибо, папа!
Джемс повторил ее слова: «Спасибо, папа!» – словно он не совсем понимал, что это значит, и проводил ее глазами до двери.
Она вернулась домой около девяти часов и прошла прямо наверх.
Дарти лежал на кровати в своей комнате, переодетый с ног до головы, в синем костюме и в бальных туфлях. Руки его были закинуты за голову, потухшая папироса торчала изо рта.
Уинифрид почему-то вспомнились цветы на окне в ящиках после знойного летнего дня – как они лежат, или, вернее, стоят, обессиленные от жары, но все же чуть-чуть оправившиеся после захода солнца. Казалось, словно на ее опаленного супруга уже брызнуло немножко росы.
Он вяло сказал:
– Ты, наверное, была на Парк-лейн? Ну, как старик?
Уинифрид не могла удержаться и желчно ответила:
– Не умер еще.
Он вздрогнул, совершенно определенно вздрогнул.
– Пойми одно, Монти, – сказала она, – я не допущу, чтобы его кто-нибудь чем-нибудь расстраивал. Если ты не будешь вести себя прилично, уезжай туда, откуда приехал, или куда угодно. Ты обедал?
– Нет.
– Хочешь есть?
Он пожал плечами.
– Имоджин предлагала мне, я не стал.
Имоджин! Уинифрид в своем смятении позабыла о ней.
– Значит, ты видел ее? Что же она тебе сказала?
– Поцеловала меня.
Уинифрид с чувством горькой обиды увидела, как его хмурое, желчное лицо прояснилось. «Да, – подумала она, – он любит ее, а меня ни капли».
Глаза Дарти блуждали по сторонам.
– Она знает про меня? – спросил он.
И Уинифрид вдруг осенило: вот оружие, которым она может воспользоваться. Он боится, как бы они не узнали!
– Нет, Вэл знает. А больше никто; они знают только, что ты уезжал.
Она услышала вздох облегчения.
– Но они узнают, – твердо сказала она, – если ты только дашь мне повод.
– Ну что же, – пробормотал он. – Добивай меня! Я уже и так уничтожен.
Уинифрид подошла к кровати.
– Послушай, Монти, – сказала она. – Я вовсе не хочу добивать тебя. И не хочу делать тебе больно. Я ни о чем не буду вспоминать. И не буду терзать тебя. Какой от этого толк? – Она секунду помолчала. – Но я так больше не могу и не буду так жить. И лучше, если ты это поймешь. Я много страдала из-за тебя. Но я тебя любила. Ради этого…









































