Текст книги "Сага о Форсайтах"
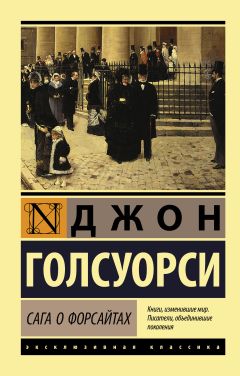
Автор книги: Джон Голсуорси
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 54 (всего у книги 67 страниц)
Откровенность его интереса почти обезоружила Сомса.
– Приедет к вечеру. Показать вам галерею?
И Сомс начал экскурсию, которая никогда его не утомляла. Он не ждал особого понимания от человека, принявшего копию за оригинал, но по мере того как они переходили от одной части коллекции к другой, его поражали прямые и притом неглупые замечания молодого человека. Под маской бесстрастности Сомс прятал врожденную проницательность и даже чуткость, и потому, посвятив своему единственному увлечению тридцать восемь лет, он не мог не узнать о картинах еще чего-то кроме их рыночной стоимости. Он стал, по сути, недостающим звеном между художником и коммерческой публикой. Разговоры об искусстве ради искусства и всем таком он считал, конечно, лицемерием, но эстетический вкус был, на его взгляд, необходим. Произведение искусства приобретало стабильную ценность на рынке, то есть, собственно говоря, становилось «произведением искусства», именно благодаря высокой оценке многих людей с достаточно хорошим вкусом. Более верного мерила не было. Сомс так привык к посетителям овцеподобным и незрячим, что его заинтриговала смелость молодого человека, сказавшего о Мауве: «Славные стожки!» – а о Якобе Марисе: «Недурно! Но вот Маттейс Марис был роскошен, сэр! Так накладывал краску, чтобы хотелось в нее зарыться!» Когда перед Уистлером гость присвистнул и сказал: «Как думаете, сэр? Он вообще видел когда-нибудь голую женщину?» – Сомс не выдержал:
– А вы-то, мистер Монт, собственно, кто по роду занятий, если можно спросить?
– Я, сэр? Я собирался стать живописцем, но война помешала. Потом, в окопе, я мечтал о фондовой бирже – теплой и уютной, хотя и немного шумной. Но этому помешал мир. Акции стали делом ненадежным, не так ли? Я только год как демобилизован. Что бы вы мне посоветовали, сэр?
– Есть ли у вас деньги?
– Видите ли, – ответил молодой человек, – у меня есть отец: я за его жизнь воевал, а он теперь обязан поддерживать мою. Правда, это, конечно, вопрос – долго ли ему позволят держать в руках собственные деньги. Как полагаете, сэр?
Сомс побледнел и, заняв оборонительную позицию, улыбнулся.
– Старику становится дурно, – продолжил Монт, – когда я говорю, что ему, вероятно, еще придется работать. Он, знаете, землевладелец, а это смертельная болезнь.
– Вот подлинник Гойи, – сказал Сомс сухо.
– Боже правый! Вот уж кто был роскошен! В Мюнхене я видел одну его работу, которая меня прямо-таки потрясла. Это была отвратительнейшая старая карга в великолепнейших кружевах. Уж он-то не шел на сделку с общественным вкусом! Взрывной был старик, много устоев, верно, переломал в свое время. Умел писать – ничего не скажешь! В сравнении с ним Веласкес проигрывает, вы так не считаете?
– Веласкеса у меня нет, – ответил Сомс.
Молодой человек вытаращил глаза.
– Ну разумеется, – сказал он. – Его, я думаю, могут себе позволить только спекулянты или государство. По мне, так странам-банкротам надо бы сделать вот что. Заставить спекулянтов в принудительном порядке выкупить у них всех Веласкесов и Тицианов, а потом издать закон: дескать, каждый, у кого имеется картина одного из старых мастеров (список прилагается), обязан вывесить ее в публичной галерее. По-моему, в этом что-то есть.
– Не пора ли нам спуститься к чаю? – сказал Сомс.
Уши у молодого человека словно бы поникли. Выходя следом за ним из галереи, Сомс подумал: «А он не глуп».
Группа, собравшаяся у камина вокруг чайного подноса Аннет, была достойна кисти Гойи с его непревзойденной сатирической точностью, его оригинальностью линии и смелостью светотени. Вероятно, из всех живописцев он один мог бы воздать должное солнечному свету, который лился в увитое плющом окно, прелестной блеклости латуни, старинным хрустальным бокалам и тонким долькам лимона в бледном янтарном чае. Он мог бы воздать должное самой хозяйке дома в черном кружевном платье (она была чем-то похожа на светловолосую испанку, хотя ей недоставало одухотворенности, присущей этому редкому типу женской красоты); седоволосой Уинифрид, затянутой в корсет солидности; пасмурному, но по-своему внушительному плоскощекому лицу Сомса; живости Майкла Монта с его навостренными ушами и глазами; полнеющей сахарной брюнетке Имоджин; Просперу Профону, чья физиономия как будто говорила бы: «А стоит ли, господин Гойя, писать эту маленькую компанию? Какой толк?» – и, наконец, Джеку Кардигану с его сверкающим взором и сангвиническим загаром, выдающим принцип: «Я англичанин и живу, чтобы быть в форме».
Кстати сказать, еще девушкой Имоджин однажды торжественно заявила в доме у Тимоти: «Никогда не выйду за хорошего человека – все они так скучны!» Любопытно, что именно ей суждено было стать женой Джека Кардигана, в котором здоровье совершенно уничтожило следы первородного греха: Имоджин могла бы разделить часы ночного покоя с десятью тысячами других англичан, истинных и скучных, не отличив от них того, кого выбрала себе в мужья. «О! – говорила она о нем в своей “забавной” манере. – Джек всегда поддерживает такую ужасно хорошую форму, что ни дня в жизни не болел. Прошел всю войну и даже пальца не поранил. Вы себе просто не представляете, насколько он здоров!» Он в самом деле настолько «здорово» приспосабливался к обстоятельствам, что не замечал ее флиртов, и это, пожалуй, многое облегчало. По-своему она очень любила и его, насколько можно любить спортивную машину, и двух маленьких Кардиганов, сделанных по той же модели. Но сейчас ее глаза злобно сравнивали мужа с Проспером Профоном. Казалось, этот мсье, как и Джек, переиграл во все «маленькие» игры, какие только существовали на свете, от кеглей до ловли рыбы гарпуном, но все они ему надоели. А вот Джеку, к сожалению, ничто не надоедало: он продолжал играть и говорить об этом с наивным пылом школьницы, впервые взявшей в руки хоккейную клюшку. Имоджин знала: в возрасте ее двоюродного деда Тимоти Джек будет играть в гольф на ковре в их спальне, постоянно кого-нибудь «затыкая за пояс».
Сейчас он рассказывал, как утром последним ударом загнал мяч в лунку и вырвал победу у одного профи – «славного парня, который отменно играл», – и как после ланча доплыл на веслах до самого Кэвершема. А после чая он охотно сыграл бы партийку в теннис и пытался разохотить Проспера Профона: это ведь так полезно для поддержания хорошей формы.
– А какой толк быть в хорошей форме? – спросил мсье Профон.
– Да, сэр, – пробормотал Майкл Монт, – для чего вы поддерживаете хорошую форму?
– Джек, – восторженно повторила Имоджин, – для чего ты поддерживаешь хорошую форму?
Джек Кардиган уставился на них со всем своим здоровьем. Эти вопросы были для него чем-то вроде комариного жужжания, и он поднял руку, отмахиваясь от них. Во время Войны он, конечно же, поддерживал форму затем, чтобы убивать немцев. Но теперь Война закончилась и он то ли сам не знал того принципа, которым руководствовался, то ли уклонялся от объяснения из деликатности.
– Но он прав, – неожиданно сказал мсье Профон. – Забота о нашем здоровье – единственное, что нам осталось.
Это замечание, слишком глубокое для воскресного чая, не получило бы ответа, если бы не живость неугомонной натуры молодого Монта.
– Отлично! – вскричал он. – В этом и заключается великое открытие, сделанное войной. Раньше мы все думали, будто достигаем прогресса, а теперь понимаем, что просто меняемся.
– К худшему, – подхватил мсье Профон благодушно.
– Экий вы весельчак, Проспер! – пробормотала Аннет.
– Идемте играть в теннис, – сказал Джек Кардиган. – У вас хандра, но мы ее скоро прогоним. Вы играете, мистер Монт?
– Ракетку, сэр, в руках держать доводилось.
В этот момент Сомс встал: его подстегнуло то глубокое инстинктивное стремление, которое руководило им на протяжении всей жизни, – стремление готовиться к будущему заблаговременно.
– Когда Флер приедет… – донеслись слова Джека Кардигана.
Ах, и почему же она все не ехала?! Он прошел через гостиную и холл, спустился с крыльца на подъездную аллею и стал прислушиваться, не шумит ли автомобиль. Но нет, все было по-воскресному тихо. Воздух наполнял аромат пышно цветущей сирени. Белые облака плавали, как утиные перышки, позолоченные солнцем. Сомсу вдруг остро припомнился тот день, когда его дочь родилась, а он так мучительно ждал, держа в руках весы: на одной чаше она, на другой – ее мать. Тогда он спас Флер, чтобы она стала цветком его жизни. А что теперь? Неужели она огорчит его, причинит ему боль? Не нравилась ему вся эта история! Размышления Сомса прервал черный дрозд – здоровенный малый, усевшийся на верхнюю ветку акации, чтобы исполнить свою вечернюю песню. В последние годы Сомс заинтересовался птицами. Вместе с Флер он стал гулять по саду, наблюдая за ними. Зрение у нее было острое, и она знала каждое гнездо. Увидав ее пса ретривера, лежащего на дорожке в пятне солнечного света, Сомс сказал: «Привет, старина! Тоже ждешь ее?» Пес медленно подошел, нехотя помахивая хвостом, и Сомс машинально погладил его по голове. Собака, птица, сирень – все это казалось частью Флер, ни больше, ни меньше. «Я слишком привязан к ней! – подумал Сомс. – Слишком привязан!» Он чувствовал себя так, будто отправил в море корабли с незастрахованным грузом. Это было ощущение, подобное тому, которое он испытывал много лет назад, когда бродил, онемелый от ревности, по лондонским дебрям, с тоской думая о той женщине – своей первой жене, матери этого чертова мальчишки. О, вот наконец-то показался автомобиль! Машина подъехала: в ней был багаж, но не было Флер.
– Мисс Флер идет вдоль реки, сэр.
Пешком? Столько миль? Хозяин в недоумении воззрился на шофера, который как будто слегка улыбался. Чему? Сомс быстро отвернулся.
– Хорошо, Симс, – сказал он и вошел в дом, чтобы опять подняться в свою галерею.
Оттуда был виден берег реки, и Сомс застыл у окна, не принимая во внимание того обстоятельства, что фигурка Флер не могла появиться в поле зрения раньше чем через час. Вздумала идти пешком! И шофер так подозрительно ухмыльнулся! И тот мальчишка… Сомс резко отвернулся от окна: он не должен за ней следить. Если она хочет что-то скрыть от него, пускай скрывает, а шпионить он не будет. В сердце чувствовалась пустота, и горечь из груди поднималась по горлу. В тишине до окон галереи долетали отрывистые выкрики Джека Кардигана и смех молодого Монта: они играли в теннис. Сомс не без удовольствия предположил, что этому субъекту Профону придется, вероятно, порядком побегать. А девушка с корзиной винограда все стояла, уперев в бок свободную руку, и мечтательно глядела куда-то вдаль, мимо Сомса. «С тех пор, когда ты еще была не выше моего колена, я делал для тебя все, что мог, – подумал он. – Ты ведь не… не ранишь меня, правда?»
Копия Гойи не отвечала. Только приближающиеся сумерки слегка приглушили ее яркие краски. «Здесь нет настоящей жизни, – мысленно заметил Сомс. – Ну почему же Флер не идет?»
XТрио
Для двух пар Форсайтов третьего и четвертого поколений уик-энд в Уонсдоне близ меловых гор длился уже девятый день. Все нити между ними натянулись до предела: никогда еще Флер не была настолько fine, Холли – настолько бдительной, Вэл не скрывался так подолгу в конюшнях, Джон не был так молчалив и встревожен. Свои познания о земледелии, полученные за истекшую неделю, он мог бы подцепить на кончик перочинного ножа и сдуть. Всякие интриги были противны его природе, и то, что ему приходится скрывать свое восторженное чувство к Флер, он считал «вздором», однако, при всем неудовольствии, подчиняясь ее требованию, сохранял секретность и по мере возможности находил утешение в редких минутах уединения с нею. В четверг, когда они стояли в эркере гостиной, одетые к ужину, она сказала ему:
– Джон, в воскресенье я уезжаю со станции Паддингтон в три сорок. Если ты поедешь к себе в субботу, то в воскресенье сможешь встретить меня на станции и проводить, а потом вернуться сюда последним поездом. Ты ведь так и так собирался домой, правда?
Джон кивнул.
– Я на все согласен, чтобы побыть с тобой, – сказал он. – Только зачем делать вид…
Флер вложила мизинец в его ладонь.
– У тебя нет инстинкта, Джон. Поэтому доверь дело мне. Для наших родителей все это очень серьезно. Сейчас мы должны таиться, если хотим быть вместе. – Дверь открылась, и Флер громко добавила: – Какой ты неуклюжий, Джон!
Внутри у него что-то перевернулось. Для него это было невыносимо – скрывать чувство настолько естественное, сильное и сладостное.
В пятницу около одиннадцати часов вечера он собрал сумку и выглянул в окно, тоскуя и в то же время теряясь в мечтах о встрече на Паддингтонском вокзале. Вдруг послышался тихий звук, будто кто-то стучал ногтем в его дверь. Он подскочил к ней и прислушался: звук повторился. И в самом деле стучали ноготком. Джон открыл. О какое прелестное создание вошло в его комнату!
– Мне захотелось показать тебе мое маскарадное платье, – сказало оно и стало в позу возле кровати.
Джон сделал глубокий вдох и прислонился к двери. Наряд виденья состоял из белого муслинового головного убора, кружевной косынки на обнаженной шее и пышного бордового платья, подхватывающего тонкую талию. Одной рукой виденье упиралось в бок, а в другой, поднятой, держало веер, касаясь им головы.
– Здесь должна быть корзина, – прошептало оно, – но ее у меня нет. Это костюм сборщицы винограда с картины Гойи. Вот так она там стоит. Тебе нравится?
– Это сон.
Видение сделало пируэт.
– Дотронься – увидишь.
Джон опустился на колени и почтительно взял край подола.
– Винный цвет, – прошептало виденье. – La ven-dimia – сбор винограда.
Едва касаясь пальцами талии, Джон поднял обожающий взгляд.
– О, Джон! – тихо произнесла виноградарша, нагнулась, поцеловала его в лоб и, сделав еще один пируэт, ускользнула прочь.
Джон, уронив голову на кровать, так и остался на коленях. Он и сам не знал, как долго пробыл в этой позе. Точно во сне, ему снова и снова слышались тихие звуки: стук ноготком в дверь, легкая поступь, шуршание юбок. Закрытые глаза видели фигурку, которая стояла перед ним, улыбалась ему и шептала. В воздухе витал тонкий аромат нарцисса. А между бровей, на месте поцелуя, ощущалось маленькое прохладное пятнышко, как будто губы оставили на лбу отпечаток в виде цветка. Душу Джона наполняла любовь, любовь юношеская, которая так мало знает, так на многое надеется и ни за что не хочет смахивать с себя пыльцу. Со временем она превращается или в благоуханное воспоминание, или в обжигающую страсть, или в привычку, или – очень редко – в полную корзину сладкого винограда, окрашенного заходящим солнцем.
О Джоне Форсайте сказано уже достаточно, чтобы можно было понять, какое огромное расстояние отделяло его от прапрадеда – первого Джолиона, державшего ферму в Дорсете, у моря. Джон был чувствителен, как девушка (даже чувствительнее, чем девять из десяти сегодняшних девушек), обладал не менее богатым воображением, чем «хромоногие уточки» Джун (ее протеже-художники), и естественным образом унаследовал от отца и матери способность к нежным чувствам. И все же где-то в его внутренних тканях сохранилось нечто от основателя рода – тайная стойкость души, страх выказать сокровенное, нежелание признавать поражения. Нежным, чувствительным, мечтательным мальчикам, как правило, нелегко приходится в школе. Но Джон инстинктивно держался в тени и потому страдал вполне умеренно. До сих пор только с матерью он говорил абсолютно откровенно и вел себя абсолютно естественно. И в эту субботу, возвращаясь в Робин-Хилл, он ощущал тяжесть на сердце, оттого что Флер велела ему больше не быть откровенным и естественным с той, от кого он никогда ничего не скрывал. Ему не следовало даже говорить ей об их повторной встрече – если только не окажется, что она уже знает. Все это было для Джона так мучительно, что он подумывал о том, чтобы отправить домой телеграмму с какой-нибудь отговоркой и остаться в Лондоне. Когда же он все-таки приехал, мать первым делом сказала ему:
– Так ты снова встретил нашу молоденькую родственницу, с которой познакомился в кондитерской? Как она показалась тебе на этот раз?
Густо покраснев, Джон с облегчением ответил:
– Ох, мама, нам было ужасно весело!
Ее рука прижалась к его руке. Никогда еще он не любил мать так сильно, как в эту минуту, которая, казалось бы, опровергла опасения Флер и подарила его душе свободу. Но, повернув голову, он увидел на улыбающемся материнском лице нечто такое, чего, вероятно, никто другой не заметил бы, и это не позволило вырваться тем словам, которые уже закипали у него внутри. Может ли улыбка выражать страх? Если да, то именно такую улыбку он сейчас увидел. И Джон повел речь совсем о другом: о ферме, о Холли, о холмах. Говорил он быстро, надеясь, что мать сама опять спросит что-нибудь про Флер. Увы, она не спрашивала. Не спрашивал и отец, хотя, конечно, тоже знал об их встрече. Как это казалось тягостно, как убийственно для подлинности ощущений – молчать о Флер, когда он, Джон, был так полон ею, мать – так полна им, а отец – матерью. В этом духе и прошел для семейного трио субботний вечер.
После ужина мама села за фортепьяно и, видимо, нарочно сыграла все самые любимые вещи Джона. Он сидел, соединив руки на одном колене. Волосы, по которым он провел пальцами, так и остались взъерошенными. Он глядел, как мать играет, но видел Флер: Флер в плодовом саду при луне, Флер у края залитой солнцем гравийной ямы, Флер в карнавальном костюме: вот она, покачиваясь, входит, вот шепчет, вот наклоняется к нему и целует его в лоб. Слушая музыку, Джон на секунду забылся и посмотрел на отца, сидевшего в мягком кресле. Почему у папы такой печальный вид? Это вызывало тревогу. Почувствовав своего рода угрызения совести, Джон поднялся и пересел к отцу на подлокотник кресла. Отсюда он не мог видеть отцовского лица и потому опять смог видеть Флер – в тонких белых руках матери, порхающих по клавишам, в ее профиле и словно бы припудренных волосах, и в глубине комнаты, в окне, за которым уже вступала в свои права майская ночь.
Перед сном мать зашла к Джону и, став у окна, сказала:
– Те кипарисы, которые посадил еще твой дедушка, чудесно выросли. Я всегда любуюсь ими при луне. Жаль, что ты не знал деда.
– Он был еще жив, когда ты вышла замуж за папу? – спросил вдруг Джон.
– Нет, милый, он умер в девяносто втором году, очень старым. Думаю, ему было лет восемьдесят пять.
– Отец на него похож?
– Немного. Он более тонкий, не так крепко сложен.
– Да, это заметно по дедушкиному портрету. Кто его написал?
– Один из «хромоногих уточек» Джун. Хороший художник.
Джон взял мать под руку.
– Расскажи мне о той семейной ссоре, мама.
Он почувствовал, как ее локоть задрожал.
– Нет, дорогой. Отец тебе когда-нибудь расскажет, если посчитает уместным.
– Значит, дело было серьезное, – сказал Джон дрогнувшим голосом.
– Да.
Наступила тишина, во время которой мать и сын затруднились бы сказать, чья рука сильнее дрожит.
– Некоторые люди, – мягко сказала наконец Ирэн, – думают, будто убывающая луна смотрит злобно. А по-моему, она всегда прекрасна. Посмотри на эти тени от кипарисов! Джон, твой отец говорит, что мы могли бы поехать в Италию. Ты и я, на два месяца. Хочешь?
Джон убрал ладонь из-под ее руки – слишком остры и запутанны были сейчас его чувства. В Италию с мамой! Две недели назад он пришел бы от этой мысли в полный восторг, а теперь был в смятении, оттого что почувствовал: внезапное предложение родилось неспроста – дело касается Флер.
– О да, только… не знаю… – проговорил он, запинаясь. – Должен ли я… уже сейчас? Я ведь только начал. Надо бы хорошо подумать.
Материнский голос спокойно и ласково ответил:
– Да, дорогой, подумай. Но лучше ехать сейчас, чем прерывать обучение, когда ты займешься фермерством всерьез. В Италию, с тобой… Это было бы прекрасно!
Джон обнял мать за талию – все еще тонкую и крепкую, как у девушки.
– Ты не думаешь, что сейчас тебе не следовало бы оставлять отца? – спросил он неуверенно, чувствуя себя подлецом.
– Отец сам это предложил. Он считает, тебе не мешало бы посмотреть хотя бы Италию, пока ты окончательно не выбрал профессию.
Совесть Джона успокоилась: теперь он знал – да, знал, – что родители не более откровенны с ним, чем он с ними. Они хотят разлучить его с Флер. Его сердце сделалось тверже, и мать, словно бы почувствовав это, сказала:
– Спокойной ночи, мой милый. Спи хорошо. И подумай о том, что мы тебе предлагаем.
Она обняла Джона так быстро, что он даже не успел разглядеть ее лица. К нему вернулось то чувство, которое он испытывал в детстве, когда не слушался: ему стало больно и оттого, что сейчас он не ощущал любви к матери, и оттого, что в собственных глазах он был прав.
Ирэн же, постояв минутку в своей спальне, прошла через гардеробную в комнату мужа.
– Ну как?
– Он подумает, Джолион.
Увидев на ее губах слабую усталую улыбку, Джолион тихо промолвил:
– Лучше бы ты разрешила мне рассказать ему и разом покончить с этим делом. Джон, в конце концов, вовсе не лишен инстинктов джентльмена. Ему нужно просто понять…
– Просто? Он не поймет! Не сможет!
– Мне кажется, в его возрасте я бы понял.
Ирэн поймала руку Джолиона.
– Ты всегда был трезвее и никогда не был таким невинным.
– Это верно. Странно, ты не находишь? Мы с тобой в целом свете никого не стыдимся, кроме нашего собственного сына.
– До того, осуждает ли нас свет, нам никогда не было дела.
– Джон нас не осудит!
– Осудит, Джолион! Он влюблен, я чувствую. И он скажет: «Моя мать однажды вышла замуж без любви! Да как она могла!» Это покажется ему преступлением. Это и правда было преступление!
Джолион взял руку Ирэн и криво улыбнулся.
– И почему, черт подери, мы рождаемся молодыми? Вот рождались бы мы старыми и молодели бы год от года – тогда мы сразу понимали бы, что к чему, и не были бы нетерпимыми друг к другу. Знаешь, если Джон действительно влюбился, он не забудет ту девушку даже в Италии. Наша порода отличается упорством. К тому же он инстинктивно поймет, зачем мы его отсылаем. Только одно может его излечить – потрясение, которое он испытает, когда услышит ту историю.
– И все же позволь, я попытаюсь его отвлечь.
Несколько секунд Джолион стоял молча. Оказавшись между этими Сциллой и Харибдой – болью разоблачения и горем разлуки с женой на два месяца, – он в глубине души предпочитал Сциллу. Но если Ирэн выбрала Харибду, нужно смириться. В конце концов, это будет репетиция того расставания, за которым уже не последует встреча. Он обнял жену, поцеловал ее глаза и сказал:
– Как пожелаешь, любовь моя.









































