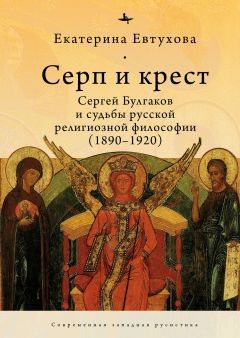
Автор книги: Екатерина Евтухова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Но если прежние «миги» или осенения были кратковременными вспышками, то это новое событие стало наиболее полным мистическим опытом из всех, когда-либо пережитых Булгаковым. По горячим следам рассказывая Гершензону о случившемся, Булгаков недвусмысленно отождествил своего сына с младенцем-Христом:
Наш этот мальчик был совсем особенный, неземной, «не жилец», как про него говорили. (Он родился у нас в Тождеств [енскую] ночь и на меня это всегда производило особое впечатление.) Ласковый, одаренный, не по годам развивающийся, с большими прекрасными глазами. Всегда на него смотреть и его любить можно было только с щемящей болью, тревогой в сердце[273]273
Булгаков – Гершензону. 29 августа 1909 года // М. А. Колеров. В ожидании Палестины. С. 131–132.
[Закрыть].
Месяц спустя в письме Рачинскому Булгаков повторяет: «Мальчик этот наш… был особенный, необыкновенный, с <нрзб.> небесным светом в очах и улыбке… Всегда вспоминаю, что родился он в Христову ночь, когда к заутрене звонили колокола». На сей раз он еще на шаг приближается к отождествлению сына с Христом: «Вестник неба и ушел на небо»[274]274
Булгаков – Рачинскому. 29 сентября 1909 года // РГАЛИ. Ф. 427. Рачинский. Оп. 1. Ед. хр. 2689. Л. 2.
[Закрыть]. Смерть сына стала для него непосредственным и личным опытом Воскресения Христова.
Чувства, пережитые Булгаковым у одра сына, содержат элементы классического мистического опыта. То, что он испытал, осталось неизъяснимым и невысказанным, и он терялся, пытаясь объяснить друзьям, что именно ему довелось пережить[275]275
См.: James W. The Varieties of Religious Experience. New York, 1958.
[Закрыть]; но Булгаков понимал, что с ним произошло что-то судьбоносное, исполненное глубокого значения. Он сообщал Рачинскому:
Как изобразить Вам пережитое? Скажу одно: я еще никогда не переживал такой муки в своей в общем благополучной, хотя и не свободной от утрат жизни. <…> Но и те благодатные осенения, которые переживал я у гроба, ни с чем не могут сравниться. Скажу Вам коротко, что пережитое в нынешнее лето было самым для меня значительным событием в ряду религиозных переживаний моей жизни, «тот мир» стал для меня не фразой и не пустым местом (конечно, безусловно пустым он не был и раньше, п. ч. всего три года назад я потерял мать)… Я так мало мало доверяю себе и серьезности и стойкости своих настроений, что не стану сам подводить итоги[276]276
Булгаков – Рачинскому. 29 сентября 1909 года // РГАЛИ. Ф. 427. Рачинский. Оп. 1. Ед. хр. 2689. Л. 2–3.
[Закрыть].
Пережитое Булгаковым в эти мгновения содержало в себе те свойства религиозного экстаза, которые преобразуют жизнь, и он более всего опасался, что в скучной обыденности повседневного существования может утратить восприятие той высшей истины, которую постиг столь внезапно и глубоко.
Но час смерти был так прекрасен, так ощутительна была близость Бога, так загорелись его возведенные к небу глаза, что я переживал не ужас последней разлуки, а восторг религиозный, почти экстаз. И после, у его гроба, у меня все время боролись или чередовались или лучше сказать соединялись два чувства: гимн религиозной радости, победы, света, и горе, которое Вы знаете. И таким светом озарялась вся моя жизнь, все тайники греховной души моей, что я как бы ослеплен был этим светом и, (<нрзб.> – М. К.). <…> Вообще в жизни моей, лучше сказать, – нашей, произошел факт такой неизмеримой важности, последствия к [ото] рого д[олж]ны отразиться, как мне кажется, во всем: в мнениях, чувствах, оценках, жизни. И я одного теперь боюсь, об одном молюсь за себя лично, чтобы не забыть, чтобы легкомысленная, суетная, слабовольна часть души, обремененная суетой жизни, не изнемогла и опять не очерствела[277]277
РГАЛИ. Ф. 427. Рачинский. Оп. 1. Ед. хр. 2689. 29 августа 1909 года Булгаков писал Гершензону: «Его последние страдания нельзя изобразить, скажу только, что я в первый раз переживал такую муку, и, хотя считаю и себя отчасти их виновником (духовно), но не без религиозного соблазна проходил я их, и нельзя было иначе». См.: Колеров М. А. В ожидании Палестины. С. 132.
[Закрыть].
Не менее важно то, что те, кто «понимали» не столько смерть мальчика как таковую, сколько сопровождавший ее религиозный экстаз, оказались посвященными в мистический культ братства, связавший причастных к нему в подобие апостольского братства вокруг христоподобной фигуры мальчика. Как выразился Булгаков в письме Гершензону,
В духовном мире пошла какая-то волна, толкающая сердца людские и их зажигающая, и источник этой волны уход к Богу чистой младенческой души. <…> Насколько понятнее, ближе и дороже Вы мне стали, после того как из этого письма я заглянул в святилище Вашей души и узнал кое-что из генезиса Вашей веры…[278]278
Колеров М. А. В ожидании Палестины. С. 132.
[Закрыть]
Со временем это братство стало играть еще более важную роль, чем вначале; по крайней мере, складывается впечатление, что к 1913 году Флоренский открыл новый образ Христа в своем новорожденном сыне Василии и, говоря о нем, использовал почти те же слова, что и Булгаков, когда тот говорил об Ивашечке[279]279
О «философии дружбы» Булгакова и Флоренского см.: Роднянская И. Флоренский и Булгаков.
[Закрыть].
Потом мы стали ходить вечерами с А. Мы знали, что Ангел, в бережных объятиях, несет нам радость, – нашего В. Утраченный Эдем, не дававшийся памяти, как-то вспоминался в нашем мальчике. И Звезда Вечерняя был наш мальчик, чрез небесные сферы нисходивший к нам, «грядущий в мир», и мальчик наш был Звездой Вечерней, носимой под сердцем. Мы подарили ему Звезду, она стала его Звездою, но она оставалась и нашим сердцем. Прозрачная полумгла ниспадала на мир, но, сгущаясь в сердце, уплотнялась там в Звезду Утреннюю: в Жемчужину. В сыночке просвечивал потерянный Рай; в сыночке забывалось тоскливое Древо познания добра и зла. Муки опять не исчезли – лишь смягчились и растаяли, и расстилались в сердце беспредельным морем. Но над пучиною скорбей сияла под сводами сердца Звезда Утренняя, и в ее лучах волны рассыпались длинною жемчужною полосою. И все было хорошо: скорби, радости. И все было грустно…[280]280
Флоренский П. На Маковце // П. Флоренский. Собр. соч. Т. 1. Париж, 1985. С. 37.
[Закрыть]
Христоподобный младенец, сначала сын Булгакова, а потом Флоренского, пришел с небес и вернулся туда, словно вестник искупления человечества.
В этот период ближайшими соратниками Булгакова стали люди, с которыми его связало это мистическое братство, вместе с которыми он приобщился к культу пережитого на собственном опыте Воскресения. Интенсивное философское общение Булгакова с Флоренским продолжалось вплоть до отъезда Булгакова из Москвы в Крым в 1918 году и было увековечено на картине Михаила Нестерова «Философы» (1917). В 1910 году к перечню и без того обширной общественной деятельности Булгакова добавилось создание московского издательства «Путь», в котором он стал главным редактором. В ближайший круг общения Булгакова в издательстве вошли работавший в «Вопросах философии и психологии» и до этого момента остававшийся относительно малоизвестным С. А. Рачинский, Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн и учредительница «Пути» М. К. Морозова[281]281
РНБ. Ф. 352. И. С. Книжник-Ветров. Ед. хр. 1305. «Идеи С. Н. Булгакова о религиозной общественности».
[Закрыть]. В затеянной Булгаковым издательской кампании по воскрешению русской традиции религиозно-философской мысли наиболее заметная роль в его окружении принадлежала Гершензону, автору увлекательной и нестандартной биографии Чаадаева (1908); он опубликовал его «Сочинения и письма» в издательстве «Путь», параллельно с серией «Русские мыслители», задуманной Булгаковым[282]282
Чаадаев П. Я. Сочинения и письма / Под ред. М. Гершензона. М.: Путь, 1913.
[Закрыть]. Подобно многим издательствам этого периода, «Путь» объединял людей с определенными взглядами; соратники Булгакова по редакции и авторы были его идеологическими попутчиками и разделяли его редакторский интерес к «православию и об его отношении к современности»[283]283
Булгаков С. Н. (ред.). Сборник первый: О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. ii.
Помимо той серии, в которой была издана книга Гершензона, в книгоиздательстве «Путь», подчеркивавшем, что оно «ставит вне вопроса и сомнения общую религиозную задачу России и ее призвание послужить в мысли и в жизни всестороннему осуществлению вселенского христианского идеала», были опубликованы труды Ивана Киреевского и Чаадаева, а также сборники статей, например, посвященные Владимиру Соловьеву (1911) и религии Толстого (1912).
[Закрыть]. Духовный кризис, вызванный смертью сына, и новое понимание братства, сложившееся под ее влиянием, помогло Булгакову пересмотреть свою общественную роль и погрузиться в издание религиозно-философской литературы с тем же энтузиазмом, с которым несколькими годами ранее он погрузился в христианско-социалистическую политику.
Если в духовной сфере центральным событием этих лет для Булгакова стала смерть Ивашечки, то в интеллектуальном плане похожую роль сыграло переосмысление философии Владимира Соловьева. Для Булгакова-идеалиста привлекательность философии Соловьева заключалась в ее целостности и религиозности мировоззрения, новое же прочтение носило характер подлинно философского анализа, который подчеркивал и развивал конкретные идеи Соловьева. Не рассматривая труды Соловьева как набор указаний, предназначенных для интеллигенции, как он делал это в 1903 году («Что нам дает философия Владимира Соловьева?»), Булгаков настолько погрузился в его философию, что она превратилась в неотъемлемую часть его собственных воззрений. Одним словом, работа Соловьева была продолжена им так, как намеревался продолжить ее сам Соловьев: Булгаков занимался не абстрактной философской критикой, но всем своим существом воспринял философию Соловьева. Для него она стала материалом для реинтерпретации; он отдал дань уважения предложенной Соловьевым модели в сборнике посвященных ему статей (статья Булгакова в очередной раз открывала сборник).
В новом булгаковском прочтении философия Соловьева ставила проблемы, которые в совокупности определили структуру личных философских интересов Булгакова. Во-первых, Булгаков считал, что Соловьев нашел оригинальный и необходимый способ справиться с «двумя кошмарами» современной философии – «механистическим материализмом» и «идеалистическим субъективизмом». Современная философия, утверждал Булгаков, страдает из-за отчуждения субъекта от объекта, совершенного просветительским рационализмом и породившего два направления, которые никак нельзя признать удовлетворительными: материализм превратил мир в «бездушную машину», а идеализм попросту уклонился от проблемы, замкнувшись в кабинетных философских штудиях и отказавшись от контакта с внешним миром. Центральной проблемой философии Булгакова стал поиск способа объединить эти направления.
Возможно ли мировоззрение, стоя на почве которого можно было бы быть и материалистом, т. е. мыслить себя в реальном единстве с природою и человеческим родом, но вместе с тем утверждать и самобытность человеческого духа с его запросами, с его постулатами о сверхприродном, божественном бытии, освещающем и осмысливающем собою природную жизнь?[284]284
Булгаков С. Н. Природа в философии В. Соловьева // С. Н. Булгаков. О Владимире Соловьеве. С. 4.
[Закрыть]
Во-вторых, по мнению Булгакова, во взглядах Соловьева на природу ответ на этот вопрос был намечен лишь в общих чертах. Вернувшись к христианской основе философии, от которой отказались рационалисты-гуманисты, Соловьев, в отличие от материалистов, видевших в природе мертвый механизм, или идеалистов, воспринимавших ее как нечто несущественное, сделал возможным отношение к ней как к живой, дышащей сущности. «Судьбы природы, стенающей и ожидающей своего освобождения, отныне связываются с судьбами человека, “покинувшего” ее; новое небо и новая земля входят уже необходимым элементом в состав христианской эсхатологии»[285]285
Там же. С. 15.
[Закрыть].
Булгаков-марксист пытался приложить теорию капитализма к сельскому хозяйству; теперь его интерес к природе и земледелию обрел новую форму выражения. Его внимание сосредоточилось на образе живой природы в ее постоянном взаимодействии с человеком, воспринимаемой уже не просто как инертный объект. Притягательность образа природы, предложенного Соловьевым, стала тем ядром, вокруг которого постепенно выстраивалось мировоззрение Булгакова.
Наконец, Булгаков впервые подхватил рассуждения Соловьева о Софии, Премудрости Божией, которой вскоре предстояло стать краеугольным камнем его собственной философии хозяйства. Везде в философии Соловьева Булгакову виделась «она, Вечная Женственность, Божественная София, Душа мира». Еще не сформулировав собственную интерпретацию соловьевской Софии, Булгаков в полной мере осознавал ее значимость, цитируя, в частности, следующие слова Соловьева:
София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство, Христос как целый божественный организм – универсальный и индивидуальный вместе – есть и Логос, и София.
Булгаков также сознавал ценность поэзии Соловьева, в которой, по его мнению, получило отражение «мистическое переживание природы как Мировой Души, как Софии»[286]286
Там же. С. 17, 18.
[Закрыть].
Предложенное Булгаковым новое толкование философии Соловьева совпало с ее более широкой реинтерпретацией в интеллигентской среде в целом, чему способствовала публикация сборника «О Владимире Соловьеве». Это издание, подобно «Вехам», отразило путь, пройденный опубликовавшимися в нем авторами: новая эпоха рождала новое понимание Соловьева. На смену образа поэта и моралиста, увлекавшегося символизмом и идеализмом рубежа столетия, пришло понимание Соловьева как философа, чьим главным новаторством в эпистемологии Булгаков считал «религиозный материализм». Общее стремление интеллигенции к «более серьезному» восприятию Соловьева отразилось не только в тщательной интерпретации соловьевской философии природы у Булгакова, но и в попытке (довольно неинтересной) исследовать гносеологию Соловьева, предпринятой Владимиром Эрном. Одновременно к проблеме Востока и Запада в философии Соловьева обратился Бердяев; Е. Н. Трубецкой изучал жизнь и творчество Соловьева; Блок называл его «рыцарем-монахом», вложив в это определение подмеченные им и «декадентский», и христианский аспекты личности Соловьева. Возможно, наиболее интересную трактовку предложил Вячеслав Иванов, признавший колоссальную важность роли Соловьева в религиозном обновлении 1900-х годов.
Достоевский и Вл. Соловьев властительно обратили мысль нашего общества к вопросам веры. Их почин, подобно горным льдам, питает неширокое в своем русле, но стремительное и неиссякающее течение, которое мы привыкли обозначать как «искания нового религиозного сознания». Поворот Льва Толстого к подвигу внутренней личности, совпавший с уходом Достоевского, отметил собою третий определяющий момент нашего религиозного пробуждения[287]287
Иванов В. О значении Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания И С. Н. Булгаков. О Владимире Соловьеве. С. 33.
[Закрыть].
Однако Толстой и Достоевский были ограничены возможностями избранного ими литературного жанра и могли создать лишь «музыкальную подоснову» для современной борьбы; «истинным образователем наших религиозных стремлений, лирником Орфеем, несущим начало зиждительного строя, был Вл. Соловьев, певец божественной Софии». Можно проследить, как к Соловьеву восходят не только все лозунги последующего движения, но, что гораздо важнее, и вновь пробудившееся внимание к церкви. Соловьев служил источником вдохновения и для символистов.
…он начал своею поэзией целое направление, быть может – эпоху отечественной поэзии. Когда призвана Вечная Женственность, – как ребенок во чреве, взыграет некий бог в лоне Мировой Души; и тогда певцы начинают петь. Так было после Данта, так было – в лице Новалиса – после того, кто сказал: «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan»[288]288
Там же. С. 35, 44.
[Закрыть].
Соловьев всегда считал искусство теургическим действом.
Подобно Булгакову, Иванов воспринимал Соловьева как христианского пророка и философа:
Чрез Достоевского русский народ психически (т. е. в действии Мировой Души) осознал свою идею, как идею всечеловечества. Чрез Соловьева русский народ логически (т. е. действием Логоса) осознал свое призвание – до потери личной души своей служить началу Церкви вселенской. Когда приблизится чаемое царство, когда забрезжит заря Града Божьего, избранные и верные Града вспомнят о Соловьеве, как об одном из своих пророков[289]289
Там же. С. 44.
[Закрыть].
Мистический опыт, связанный со смертью сына, и новое прочтение Соловьева исполнили интегрирующую функцию в эволюции Булгакова. Разрозненные фрагменты идей, которые он разделял в начале века и в которых разочаровался в результате событий 1907 года, постепенно соединились в новом сочетании, аналогично тому, как, поддерживая друг друга, сплелись заново различные аспекты его общественной деятельности. Очевидно, что к 1911 году основной темой философских размышлений Булгакова стало взаимопроникновение религии и хозяйства. Если социальные функции религии у Булгакова со всей очевидностью проявились в политической доктрине христианского социализма, то теперь взаимосвязь религии и общественно-экономической жизни получила философское осмысление.
Усиливающийся интерес Булгакова к философии начал проявляться в его академической деятельности, а его лекции по политэкономии все больше опирались на социальную теорию и историю идей. В итоге его версия истории политэкономии превратилась в историю отношений к экономической жизни, историю взглядов или «философий хозяйства», которые, по его мнению, лежали в основе эволюции экономических систем[290]290
В наиболее явной форме это проявилось в лекциях для студентов. См., напр.:
Булгаков С. Н. Очерки по истории экономических учений. М., 1913.
[Закрыть]. Марксизм с его «способами производства» оказался всего лишь одним из разнообразных исторических направлений в политэкономии.
Проблема философии хозяйства как таковая была неотделима от укрепляющегося признания фундаментальной религиозной основы общества и понимания того, что жизнь человека в обществе является функцией его религиозной природы. «Религия есть фермент общественности, тот “базис”, на котором воздвигаются различные “надстройки”»[291]291
Булгаков С. Н. От автора // С. Н. Булгаков. Два града. Т. 1. С. vii.
[Закрыть]. Вокруг этого положения начала формироваться и упрочиваться убежденность в религиозной миссии русского народа. В отличие от прежних религиозных откровений, пережитых Булгаковым и инициированных природой, искусством или любовью, центральным образом в «миге», который он испытал во время похорон сына, стал специфически христианский и классически русский образ прекрасной церкви, сияющей, словно драгоценность, на фоне унылого сельского пейзажа. Соответственно, и мысль Булгакова в этот период искала себе опору в русской истории, русской культуре, русской философии и русской жизни.
Сочинения Булгакова этих лет, какой бы непосредственной проблеме они ни были посвящены, отражают целенаправленное увлечение тем, что можно было бы назвать мифом или преданием о России[292]292
Термин «миф» используется здесь в ценностно-нейтральном смысле, обозначая не уход от действительности, но кодификацию концепций или установок, присущих данному обществу или социальной группе.
[Закрыть]; его работы пронизаны темой глубокой религиозности русского народа и русского общества. Все его труды этого периода касались религиозного духа, который занимал некое промежуточное положение между интеллектуальным идеалом и конкретной, спонтанной эманацией «глубоко религиозного» русского народа, на сей раз включающего в себя и интеллигенцию. С одной стороны, Россия, как и весь остальной современный мир, страдала от механицизма, материализма и избыточного рационализма, характерных для европейской цивилизации постпросветительской эпохи, и жаждала возврата духовности и целостности, которые заставляли обращаться к Средневековью или даже раннему христианству и источником которых могли стать только христианизация и сакрализация культуры. С другой стороны, русскому народу и русской интеллигенции была имманентно присуща одна и та же религиозная природа, естественный, интенсивный, непрекращающийся поиск Царства Божия, та природа, которая, несмотря на ее извращение и ошибочное истолкование в последние годы, наделила их «высшими религиозными потенциями», придав им «новую историческую плоть», «ждущую своего одухотворения»[293]293
Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. С. 68.
[Закрыть].
Религия и духовность – вот сущность России; заявление, которое звучит как отречение от наследников Белинского, светской интеллигенции 1870-х годов и самого молодого Булгакова 1890-х годов. Даже в феврале 1909 года Булгаков явно намеренно шокировал свою просвещенную аудиторию, завершив публичное выступление в Москве восклицанием: «Святая Русь!»[294]294
Булгаков С. Н. Первохристианство и новейший социализм // Вопросы философии и психологии. 1909. № 98. С. 268.
[Закрыть] Не принимая в расчет эффект потрясения, Булгаков совершенно всерьез утверждал, что национальная миссия России будет определяться верой и духовностью.
К началу 1910-х годов православие вновь оказалось в центре вселенной Булгакова. Но такое творческое возвращение в церковь не давало простых ответов и ни в коем случае не свидетельствовало о том, что он слепо принял существующую официальную церковь[295]295
Эволюция Булгакова любопытно контрастирует с романтической моделью возвращения к христианству, посредством которой Вордсворт и Кольридж возвестили о закате поэтического творчества. См.: Riasanovsky N. V. The Emergence of Romanticism.
[Закрыть]. Булгаков и его религиозность существовали в постоянном живом взаимодействии православной веры и практики с опытом экономики и общества, в их постоянном противопоставлении. Такое продуктивное противостояние позволило Булгакову выразить его христианскую философию в концепции «софийности хозяйства».
Часть III
Сдвиг в сознании: религиозная философия Булгакова
Глава восьмая
Что такое софийность хозяйства? Переосмысление аграрного вопроса
Русской интеллигенции XIX века было присуще острое чувство ответственности за судьбы России. При этом в течение XX века не раз звучали обвинения, что в 1909 году, в переломный для истории страны момент, она уклонилась от своего долга, углубившись в религию, мистицизм и поиски внутреннего «я». Еще более удивительно очевидное отсутствие отклика на столыпинские аграрные реформы. «Земельный вопрос» имел первостепенное значение как в дискуссиях, которые последовали за отменой крепостного права, так и в противостоянии правительству и другим политическим партиям, приведшим к роспуску Думы в 1907 году. Едва ли что-то может показаться более далеким от характерных для 1890-х годов напряженных дебатов о статистике и ценах на зерно[296]296
Ричард Пайпс описывает восторг тех, кто слушали Струве, так: «Студентки приходили в исступление из-за высказываний Струве о биметаллизме и падали в глубокие обмороки, слушая его рассуждения о ценах на хлебные злаки». См.: Pipes R. Struve: Liberal on the Left, 1870–1905. P. 149.
[Закрыть], чем исследования человеческой души Франка, рассуждения Флоренского о «столпе и утверждении истины», теоретические размышления Бердяева о смысле истории и о творчестве, относящиеся к 1910-м годам.
Не ставя задачу разрешить вопрос об «интеллигенции» в целом, я бы хотела предложить тезис, что по крайней мере одна из «абстрактных религиозных теорий», выдвинутых в 1910-е годы, на самом деле имела глубочайшую связь с событиями в политике и сельском хозяйстве, стала оригинальным откликом на них и поэтому может оказаться полезной в наших попытках разобраться в отношениях между властью и обществом, сложившихся в важнейший период 1905–1914 годов. Речь идет об идее, которую Булгаков выдвинул в 1911 году и которую он назвал «со-фийностью хозяйства».
Современному читателю понятие софийности хозяйства может показаться неочевидным. Поэтому позволю себе несколько замечаний на данную тему. Слово «хозяйство», означающее одновременно и экономику, и домашнее хозяйство, по смыслу ближе к первоначальному греческому понятию oikonomia, чем современный термин «экономика» («economy»). Хозяйство вбирает в себя не только атрибуты собственно экономической жизни – ВНП, бюджет, процентные ставки, налоги, – но и жизнь общества в целом; выражение «народное хозяйство» означает жизнь гигантского домохозяйства. Хозяйство — термин неоднозначный, поскольку в равной степени относится и к процессам экономической деятельности, и к жизни общества.
Булгаков начал с необычной постановки вопроса: как возможно хозяйство? Этим он хотел сказать, что хозяйство, экономический процесс и связанный с ним труд являются легитимным предметом для философского осмысления. С точки зрения Булгакова, экономическая наука, с присущей ей склонностью к практическим вопросам, остро нуждалась в теоретическом переосмыслении; тогда как философии, укрывшейся в стерильных, замкнувшихся в самих себе туманностях неокантианского идеализма, было бы только полезно обратиться к проблемам реальной жизни и труда. Таким образом, Булгаков приступил к созданию философии хозяйства — философии, сосредоточенной не только на искусственно сконструированном мыслящем субъекте (как у Канта), но на человечество в его повседневной жизни – труде, мышлении, игре и т. д. Хозяйство можно было бы объяснить с точки зрения взаимодействия человека и природы: «хозяйство есть борьба человечества со стихийными силами природы в целях защиты и расширения жизни, покорения и очеловечения природы»; или, если выразиться проще, хозяйство – это трудовая деятельность[297]297
Булгаков С. Н. Философия хозяйства. С. 43, 45.
[Закрыть].
Разрабатывая свою философию хозяйства, Булгаков стремился понять «мир как хозяйство», как объект труда, в котором повсеместно участвуют миллионы людей, выполняющие различные виды работ в борьбе за свое повседневное существование. Однако у этого множества разнообразных хозяйственных действий, у этой постоянной борьбы с природой есть смысл, выходящий за пределы простой борьбы за существование. Во-первых, каждый трудящийся не пребывает в одиночестве, поскольку он вовлечен в решение задачи, общей для всего человечества; все участники экономического процесса являются частицами «трансцендентального субъекта» хозяйства. Во-вторых, труд каждого представляет собой часть единого грандиозного процесса, в ходе которого человек, трансцендентальный субъект, воскрешает мертвую, механизированную природу и наделяет ее человеческими свойствами, жизнью и радостью. Оба этих момента экономического процесса обладают «софийностью»: одним из возможных наименований трансцендентального субъекта могла бы быть София; именно София наполняет радостью и красотой процесс борьбы с природой, который сам по себе не имел бы смысла. Процесс хозяйствования обретает смысл потому, что позволяет приобщиться к Премудрости Божией, Софии, которая сопутствовала Богу при сотворении мира (Притч. 8: 22–23) и «светится в мире как первозданная чистота и красота мироздания, в прелести ребенка и в дивном очаровании зыблющегося цветка, в красоте звездного неба и пламенеющего солнечного восхода»[298]298
Там же. С. 83.
[Закрыть].
Идея софийности хозяйства вписывалась во вселенскую драму грехопадения и воскресения. Согласно концепции Булгакова, изначально человек и природа сосуществовали в идеальной гармонии в «хозяйстве Эдемского сада», иными словами, в мире, каким он был до первородного греха. Однако грехопадение ввергло все творение в состояние греховности, в котором человек вынужден бороться за выживание, влача жалкое существование в противостоянии недружественной, механистичной природе. Это тот мир, в котором мы живем в настоящее время, будучи пленниками собственных материальных потребностей; и это тот мир, который Маркс принял за подлинный, исходя в своей доктрине экономического материализма из этого нынешнего, «падшего» состояния человечества. Однако по Булгакову, мир, в котором мы живем, потенциально обладает гораздо более глубоким смыслом, чем просто труд «в поте лица», которым характеризуется наше нынешнее существование: на самом деле даже в теперешнем несовершенном состоянии мир потенциально причастен к Премудрости Божией. В редкие минуты откровений нам на мгновение открывается то, какой была жизнь в Эдемском саду; на самом деле, цель сошествия Христа заключалась в том, чтобы явить нам этот идеальный, гармоничный мир, который мог бы быть нашим. Мы должны обнаружить в себе этот скрытый потенциал к совершенствованию и трудиться, чтобы воскресить природу, вновь наделить ее той жизнью и смыслом, которыми она обладала в Эдеме. Если хозяйство станет христианским и «софийным», вся природа и вселенная обретут жизнь и смысл, и человеку предстоит сыграть активную роль в этом процессе. В наших силах преобразовать мир, вернуть ему жизнь, возвратиться к тому идеальному гармоничному существованию в любви и трудах, которого Адам и Ева лишились за совершение первородного греха.
Эта привлекательная картина представляет собой не что иное, как православную версию основной христианской идеи; она практически слово в слово совпадает с тем, что говорили такие православные мыслители XX века, как Владимир Лосский и Леонид Успенский, и некоторыми деталями отличается от того, как та же вселенская драма воспринимается в католичестве или протестантизме. Безусловно, она может показаться неприложимой к тем переменам в политике и сельском хозяйстве, которые происходили в России в 1911 году или, по меньшей мере, весьма отдаленной от них. Тем не менее мне хотелось бы предложить прочтение софийности хозяйства, выявляющее его связь со сложившейся дискуссией по аграрному вопросу.
Известно, что народники старой закалки, приверженные своей любимой идее общины, были встревожены столыпинскими реформами и стали их категорическими противниками; также известно, что Ленин приветствовал эти реформы, видя в них позитивный шаг в развитии капитализма. Однако это только часть общей картины. Реакция множества тех, кого реформы затронули больше всего – здесь я имею в виду не самих крестьян, но земских деятелей, агрономов, статистиков, некоторых землевладельцев, которые посвятили жизнь сельской России и ее благоустройству, – была более сложной и, как мне кажется, проявлялась в два этапа.
Первоначально в их реакции двойственность смешивалась с негодованием: двойственность потому что Столыпин частично осуществил их собственную программу; негодование потому что он использовал их идеи для «революции сверху», изменившей организацию сельского хозяйства при сохранении статуса дворянства. Этот конфликт прослеживается по документам «Вольного экономического общества», которое в период революции 1905 года из собрания просвещенных землевладельцев окончательно превратилось в форум земских общественных деятелей, агрономов, статистиков и радикально настроенной интеллигенции. Всего через два месяца после издания положившего начало реформе указа от 9 ноября 1906 года И. В. Чернышев признал, что этот указ предполагает «частичное освобождение из-под ига полукрепостного законодательства», но выразил сожаление по поводу того, что в нем не уделено внимание малоземельным хозяйствам, не затронуто право земского начальника вмешиваться в процесс выхода из общины, а также не предусмотрено окончательное решение проблемы чересполосицы. Поскольку радикальная Вторая Дума все еще продолжала свою работу, Чернышев утверждал, что эти недостатки могут быть исправлены только путем полной капитальной модернизации централизованных институтов, упразднения сословий и признания крестьян полноправными гражданами, обладающими всей полнотой политических прав, иными словами, путем замены «мира» «свободной земельной общиной свободных земледельцев-граждан». Столыпин пытался противодействовать возникновению безземельного пролетариата «средневековыми» мерами, тогда как для этого требовалось революционное решение[299]299
Задача Государственной Думы в области реформы крестьянского права И Труды Императорского вольного экономического общества (ТИВЭО). СПб., 1907. Т. 1, № 1–3. С. 48, 52.
[Закрыть].
Милюков использовал аналогичные аргументы, объясняя, почему Партия народной свободы (кадеты) голосовала против законопроекта, предложенного Столыпиным:
В том виде, в каком законопроект окончательно принимается Государственной Думой, он служит не экономическим потребностям улучшения крестьянского землепользования, а политическим целям насаждения индивидуалистичских воззрений на поземельную собственность; средства для достижения этой цели черпают в узаконении произвола и насилия. При таких условиях фракция Народной Свободы при всем своем сочувствии к закону о землеутройстве при правильной его постановке будет голосовать против законопроекта[300]300
Государственная Дума. Стенографические отчеты. Созывы I, II, III. СПб, 1906-12. 27 ноября 1909. С. 2648.
[Закрыть].
Подобное двойственное отношение было выражено и в прочитанных в 1908 году лекциях Булгакова по аграрному вопросу. Он не счел возможным одобрить в целом ни одну часть программы Столыпина. Шесть лет назад, разрабатывая аграрную программу «Союза освобождения», Булгаков сам выступал за преобразование «мира» в добровольную организацию, ослабление его роли, однако Столыпин вместо этого предписывал его упразднение. Как и большинство делегатов Второй Думы, Булгаков поддерживал экспроприацию помещичьих земель. Теперь он соглашался с коллегами-либералами, которые не считали переселение и добровольный выкуп земли в собственность адекватными решениями проблемы нехватки земли[301]301
Tokmakoff G. Р. A. Stolypin and the Third Duma. Washington, D. C., 1981. P. 47–48.
[Закрыть]. Меры, предложенные Столыпиным, могли бы стать шагом в правильном направлении, будь они достаточными и осуществляйся они правильным путем.
Однако постепенно на смену неприятию и возмущению пришло молчаливое согласие с вмешательством правительства в аграрные дела; в дискуссиях по поводу последующих указов Столыпина стали появляться более позитивные отклики (хотя оппозиционность, разумеется, сохранялась). Такая перемена отношения могла быть вызвана разными причинами. Прежде всего, не было другого выбора. С одной стороны, правительство жестко ограничило деятельность таких «вредоносных» организаций, как ВЭО, сыгравшее подрывную роль в 1905–1907 годах; с другой стороны, общий экономический подъем, по-настоящему начавшийся около 1909 года, смягчил последствия изменений правительственной политики менее болезненным[302]302
См.: Volin L. A Century of Russian Agriculture: From Alexander II to Khrushchev.
Cambridge, Mass., 1970. P. 109–112.
[Закрыть]. Как указал Джордж Яней, на данном этапе осуществление реформ было возложено правительством на специалистов по сельскому хозяйству (агрономов-организаторов), многие из которых состояли в ВЭО[303]303
Yaney G. The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia, 1861–1930. Urbana, Ill., 1982.
[Закрыть], что и можно считать наиболее правдоподобным объяснением нового настроения. Как бы то ни было, Столыпин смог поменять тон обсуждения аграрного вопроса в России, и в течение нескольких лет революционный настрой заметно угас; в дискуссиях на первый план вышли такие новые темы, как «хозяин», «землеустройство» и технический прогресс, ставшие «ключевыми словами» правительства Столыпина.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































