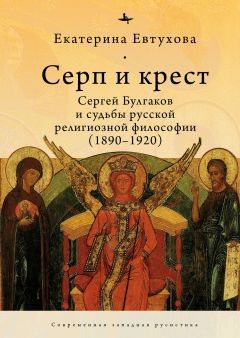
Автор книги: Екатерина Евтухова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
«Миги»
В Айя-Софии
И приидохом же в Греки, и ведоша ны, идеже служат Богу своему, и не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такого вида ли красоты такоя, и не доумеем бо сказати; токмо то вемы, яко онде Бог с человеки пребывает, и есть служба их паче всех стран[462]462
Повесть временных лет. Памятники литературы Рревней Руси. М., 1978. С. 122.
[Закрыть].Повесть временных лет
Большевистский режим родился из взрыва террора, крови и хаоса Гражданской войны. Это была тотальная война, которая коснулась всех; каждому жителю старой империи пришлось пережить русский Армагеддон, начавшийся мировой войной и завершившийся болезненным пробуждением в новой реальности начала 1920-х годов. Мгновения страха и душевного подъема, испытанные на войне и во время революции, растворились в абсолютном ужасе Гражданской войны. Жизнь Булгакова, как и жизнь его современников, полностью перевернулась. После надежд августа 1917 года, когда казалось, что свободная церковь в свободном государстве вот-вот станет реальностью, годы разрухи (1918–1922) были похожи на ряд последовательно захлопывающихся дверей, отсекающих один шанс за другим, постепенно стирая даже память о мощном религиозном и культурном обновлении начала века. Перед Булгаковым двери захлопнулись в самом буквальном смысле. В 1918 году он лишился должности в Московском университете. После этого в течение двух лет он преподавал экономику и богословие в Симферопольском университете в Крыму, но лишился и этой работы, когда в 1920 году город был взят большевиками. Окончательный крах привычной жизни он пережил в конце 1922 года: в октябре его арестовали. Два месяца спустя, в результате одного из самых странных поступков большевистской власти, как называл его Бердяев, Булгаков оказался одним из пассажиров тех пароходов, на которых «неисправимых» интеллектуалов, преимущественно писателей и религиозных философов, выслали из Советского Союза. Булгаков с женой и всеми детьми, кроме Федора, оставшегося заложником в СССР, покинули Россию 30 декабря 1922 года.
Работы, написанные Булгаковым за четыре года, прошедшие между закрытием Собора и высылкой из страны, – это непрерывный диалог автора с самим собой, в котором он мучительно размышляет о собственной жизни и жизни России, пытаясь осмыслить ту полную катастрофу, в результате которой «на месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра»[463]463
Так выражается «общественный деятель» в диалоге «На пиру богов», ставшем вкладом Булгакова в сборник «Из глубины» (Paris, 1918. Р. 86).
[Закрыть]. В сборнике статей «Из глубины», участники которого, ранее с таким энтузиазмом погружавшиеся в религиозные искания на страницах «Проблем идеализма» и «Вех», в конце концов продемонстрировали осознание собственного бессилия, голос Булгакова действительно раздавался как будто из бездны отчаяния и смирения. В диалоге «На пиру богов», сознательно построенном как подражание «Трем разговорам об Антихристе» Соловьева, он последовательно проанализировал оголтелое славянофильство военного времени, мечтавшее о том, чтобы установить крест над константинопольской мечетью, которая когда-то была церковью Айя-София; пугающее, звериное поведение народа, который когда-то казался носителем веры и религиозной истины; соблазны социализма, а также туманную и деструктивную мечтательность интеллигенции. Только в освобождении церкви и достижениях Собора Булгаков все еще видел слабые признаки надежды. В «Трагедии философии», также написанной в этот период, Булгаков подвел итог целой эпохе в своей творческой жизни, утверждая, что само погружение в философию было ошибкой, ересью, которая стремилась создать миры посредством философских систем и тем самым отвлекала мысль от ее истинного назначения, заключающегося в том, чтобы понять личный и общественный смысл Святой Троицы. История философии была ничем иным, как трагической историей повторений полетов Икара, неизбежно завершающихся катастрофой. Наконец, «У стен Херсониса» стало долгим, мучительным размышлением о самых основах православия, навеянным пребыванием Булгакова в том краю, где оно впервые пустило корни в России[464]464
«На пиру богов» – единственное сочинение Булгакова тех лет, которое было опубликовано практически сразу по завершении, но даже при этом оно было доступно только за границей. Диалог «Ночь», написанный в Крыму, и автобиография, которую он написал для своих детей, были утрачены. «Трагедия философии» была опубликована только в 1927 году, а затем издавалась только на немецком языке. Первая публикация «У стен Херсониса» состоялась в 1991 году.
[Закрыть].
Вся деятельность Булгакова в России, этапы его интеллектуального развития совпали с духовной эволюцией интеллигенции в целом; они отражали пульс его страны. То же самое можно сказать и о времени его отъезда. Ни русский авангард, ни русский модернизм в 1922 году не закончились, однако этот год ознаменовал символический конец исторической эпохи, которая породила русский модернизм: отъезд его архитекторов так или иначе обозначил окончание этого периода истории культуры, известного как Серебряный век. Кроме того, в начале 1920-х годов завершился имперский или петербургский период российской истории и еще более длительный период истории Православной Церкви. В советское время оправдались худшие опасения участников церковного Собора 1917–1918 годов: церковь стала объектом систематических гонений. В течение десятилетий, последовавших за революцией, когда преследования дополнились все более успешными попытками подчинить церковь государству, общественная роль Русской Православной церкви, остававшейся одним из главных факторов российской истории с киевских времен вплоть до 1917 года, претерпела глубокие и драматические изменения.
В январе 1923 года Булгаков, только что покинувший охваченную пламенем Гражданской войны Россию, оказался внутри константинопольской мечети Айя-София. Когда он бродил по мечети, на него нахлынули сильные и знакомые ощущения. Здание покорило Булгакова воздушностью, благодатью, наполнявшим его светом; он почувствовал, как царящая здесь гармония проникает в самые глубины его существа. «Появляется чувство внутренней прозрачности, исчезает ограниченность и тяжесть маленького и страждущего “я”, нет его, душа исцеляется от него, растекаясь по этим сводам и сама с ними сливаясь. Она становится миром: я в мире и мир во мне». Булгаков на собственном опыте пережил впечатления посланцев князя Владимира: воистину в этом каменном воплощении платоновского мира идей было невозможно понять, находится он на небе или на земле. Пережив с еще большей интенсивностью возвышенные ощущения, которые он испытывал в предшествующих «мигах» или осенениях, Булгаков почувствовал свою свободу в Софии как избавление от нескончаемого рабства, от «рабства рабам и голоду, самым пустым и мертвящим стихиям мира», которое, казалось, выжгло позорное клеймо, уничтожив его душу[465]465
Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. С. 94–96.
[Закрыть].
Охваченного этими ощущениями Булгакова посетило новое апокалиптическое видение. Стоя у самих истоков православия, он был поражен достоинством и благолепием мусульман, которые теперь молились Аллаху в храме, воздвигнутом по повелению Юстиниана; и он осознал неправедность славянофильских мечтаний о восстановлении креста над Айя-Софией, их непонимание истинной вселенской миссии Софии. И если мировой кризис разом уничтожил первый и второй Рим, должен появиться третий Рим, истинный, в котором до конца времен церковь будет явлена во всей своей полноте и целостности. Святая София исполнит предназначенную ей роль всеобщей, вселенской церкви – роль, которая была утрачена в истории. Она вновь превратится в место, где встречаются небеса и земля, каким его почти тысячу лет назад восприняли посланцы Владимира.
Булгаков тут же одернул себя: время для таких видений, «новых схем» и «карточных домиков» миновало. Не было ли это простой «сентиментальной мечтательностью», не сам ли он убедился, куда могут завести подобные прожекты? Не просто ли у него голова пошла кругом, когда его выпустили из «каменного мешка» и он оказался в мире свободы?[466]466
Булгаков С. Н. В Айя-София // Там же. С. 94–102.
[Закрыть] Однако сопротивление было бесполезно. Могущественное видение покорило его, и он пришел к выводу, что в этом видении звучал голос церкви. Пройденный Булгаковым круг замкнулся: в тот момент, когда он находился в Айя-Софии, завершилось его возвращение в церковь. Последние двадцать лет жизни Булгаков посвятил воплощению видения, посетившего его в мечети: невзирая на мелочные проблемы эмигрантского существования, он взялся за необычайно амбициозную, мессианскую задачу переосмысления христианского вероучения в соответствии с миром современности.
Эпилог
Из Москвы в Париж
Принудительный отъезд из Советского Союза в конце декабря 1922 года ознаменовал решительный перелом в жизненном пути Булгакова. Годы, прожитые в Париже (с 1925 года до его смерти в 1944 году) оказались не менее активными и плодотворными, чем предшествующие пятьдесят. Это была, по сути, вторая жизнь, цели и проблемы которой очевидно отличались от тех, что определяли его жизнь в России. В эти годы он (вместе с Бердяевым, Карташёвым, Франком, Зенковским и др.) стал сооснователем Свято-Сергиевского православного богословского института, в котором в разное время занимал должности профессора, ректора, инспектора и декана. Самое важное, он стал ведущим православным богословом XX столетия. Изложение им основ православного вероучения в книге «Православие» оказало огромное влияние на современное понимание православного богословия[467]467
Булгаков С. Н. Православие: очерки учения Православной церкви. Paris, YMCA Press, 1965. Этот богословский период творческой деятельности Булгакова стал темой обширного авторизованного исследования «Бог и мир» (Париж, 1948), проведенного учеником и последователем Булгакова Львом Зандером.
[Закрыть].
Задачу проследить дальнейшее развитие Булгакова как богослова я оставляю другим исследователям. Однако взгляд на парижский период его творчества с точки зрения Серебряного века может высветить некоторые аспекты как его богословских трудов, так и его жизни в эмиграции. Как человек, настолько тесно связанный со своим окружением, справился с ситуацией изгнания из охваченной Гражданской войной России и постепенно утвердился в понимании того, что путь назад ему отрезан? Как он сумел начать новую жизнь в среде, которая хотя и не была враждебной, но в целом оставалась безразличной?
В одной из статей 1939 года Булгаков рассказывает, что имел непосредственный опыт соприкосновения со смертью[468]468
Булгаков С. Н. Софология смерти // Вестник русского студенческого христианского движения. Париж. 1978–1979. № 127–128.
[Закрыть]. На протяжении всей своей наполненной событиями и деятельной жизни он никогда серьезно не болел. Но в январе 1926 года, всего через год после того, как обосновался в Париже, он почувствовал себя плохо и два дня спустя слег с лихорадкой, которая неуклонно усиливалась. Болезнь стала настолько тяжелой, что вызвала нарушение функций организма; малейшее движение причиняло острую боль. Булгаков никогда не был силен в медицинских вопросах, и характер его недуга остается невыясненным; быть может, это заболевание было метафизического свойства. Как он потом рассказывал, время для него остановилось. Ему казалось, что пространство и время перестали существовать, и он вместе с ними:
Вообще утратилось сознание ограниченного места в пространстве и времени, осталась только временность и пространственность. Я совершенно терял сознание того, что мое тело, чувствилище мое, помещается на кровати, потому что оно для меня расплывалось в другие комнаты и вообще в пространство, и я с трудом находил малую часть себя в непосредственном своем обладании. Также расплывалось и единство моего я…[469]469
Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. С. 137.
[Закрыть]
Этот экзистенциальный опыт трасценденции, во время которого кантовские категории пространства и времени утратили свою предметность, а «я» Булгакова слилось с вечностью, соединился с еще одним ощущением – на сей раз связанным с христианским сознанием. Охваченному жаром Булгакову казалось, что он горит в «пещи огненной» (Мф. 13:42), чувствуя всю тяжесть своих грехов, пока его душа совершает хождение по мытарствам, чтобы в последний момент быть спасенным его ангелом-хранителем и возвращенным к жизни. Лишь впоследствии Булгаков вполне осознал, что с ним произошло во время болезни: спасение, по его словам, было ниспослано ему как часть понимания таинства смерти, ибо он чувствовал, что жизнь кончилась и он умирает. «…Я умер, – говорит он, – и оказался за гранью этого мира». Любая болезнь, по его словам, является осознанием и открытием смертности. Хотя он выздоровел и восстановился, этот опыт умирания и возвращения к жизни неизгладимо отразился на восприятии им своего бытия. «Я чувствую себя как новорожденный, потому что в моей жизни произошел перерыв, чрез нее прошла освобождающая рука смерти»[470]470
Там же. С. 138, 139.
[Закрыть].
Булгаков обращался к проблеме смерти и в своих богословских трудах. Последнюю главу заключительного тома «О богочелове-честве» он посвятил «Смерти и Загробной жизни» – предмет, в котором он обнаруживал осведомленность, неожиданную для живущего человека. Особенно интересно упоминание о пассивности души после смерти. Загробная жизнь, согласно Булгакову, это не чистилище, но продолжение земной жизни, в которой душа, освободившись от тела, готовится к конечному воскресению и вступлению в жизнь будущего века. В этом промежуточном пространстве душа пассивна, в том смысле, что она больше не может принимать активное участие в жизни мира, которую она «созерцает лишь как зритель, хотя и различая в ней свет и тьму своей собственной протекшей жизни, ее дел, “заслуг” и грехов».
Однако и за гробом продолжается жизнь облеченного, хотя уже и не телом, а только душой, человеческого духа. Дух живет за гробом силой своего бессмертия и Божественной энергии, ему присущей, и ему, как таковому, остаются свойственны актуальность и свобода, а постольку и творческое самоопределение.
Душа, отделенная от тела, продолжает жить творческой жизнью, но по-другому; теперь она может увидеть свою прошлую земную жизнь «как целое, в синтезе», и этот синтез уже представляет собой суждение о себе, своего рода Страшный суд в миниатюре, в ожидании конечного суда над всем человечеством. И если земное действие стало невозможным, остается духовная деятельность покаяния и молитвы, которые сами по себе являются великой созидающей силой[471]471
Булгаков С. Н. Невеста Агнца. Париж, 1945. С. 389, 392, 393.
[Закрыть].
Трудно не увидеть в этих двух описаниях пережитого опыта, личного и богословского, метафору эмиграции[472]472
Надеюсь, читатели поймут, что я ни в коем случае не намерена принижать чисто богословское значение комментария Булгакова.
[Закрыть]. Парижская жизнь Булгакова довольно точно вписывается в контуры его описания смерти и загробной жизни. В сложные первые годы эмиграции, когда Булгаков, подобно скитающейся душе, перебирался из Константинополя в Прагу, а оттуда в Париж, он пытался продолжать «земную жизнь», которую вел в России, жизнь, в которой идеи, политика и культура всегда существовали в неразрывной связи. Иными словами, он пытался пережить Октябрьскую революцию так же, как в прошлом переживал российские (довольно частые) политические кризисы, отвечая на них бурной и целенаправленной общественной деятельностью. Эта деятельность вылилась в ту форму, которую он назвал Братством Св. Софии, – религиозно-политическое объединение, созданное по образцу религиозно-философских обществ и комитетов церковного Собора, в которых он принимал участие, когда жил в России. Задачей этого объединения было сплочение православных мыслителей, в надежде, что их идеи вернутся в Россию, когда минует большевистская угроза[473]473
Некоторое представление об этой организации можно составить на основе коллективно писавшихся открыток, отправленных в Берлин Франку, который не мог (или не хотел?) присутствовать на ее собраниях. См. коллекцию Франка в Бахметьевском архиве, хранящемся в Колумбийском университете. Особенно красноречивы письма Булгакова Флоренскому, который не одобрял эту организацию.
[Закрыть]. Объединение не было успешным. Вскоре, к большому огорчению Булгакова, из него вышли ключевые фигуры – Бердяев, а затем и Флоровский. Один из них обвинил его в ностальгии по утраченным временам. Складывается впечатление, что «смерть» Булгакова в 1926 году была хотя бы отчасти связана с осознанием того, что подобная «земная» общественная деятельность стала бессмысленной или даже невозможной.
Можно сказать, что «я» Булгакова, распавшись в печи болезни, воссоединилось по-новому. Складывается впечатление, что Булгаков примирился с относительно скромным, тихим существованием, которое он отныне вел в Париже, под скромными сводами Свято-Сергиевского православного богословского института. Интеллигент Серебряного века, несущий на плечах тяжесть мира, сбросил с себя чувство ответственности за происходящее и ощущение, будто он способен влиять на события, побуждавшее его раньше с головой погружаться в религиозно-политические дела. Последующая деятельность Булгакова была ограничена миром церкви в эмиграции, и хотя он до последних дней не прекращал кипучую деятельность – не только на посту декана института, но и в Русском студенческом христианском движении, экуменическом движении, а также читая лекции о православии и софиологии в разных странах (особенно в Англии и Соединенных Штатах), – он больше никогда не предпринимал открытых попыток сочетать православие с непосредственной политической деятельностью. Между тем состояние общественной незначимое™ дает безграничную свободу. Как кажется, «смерть» стала для него освобождением; его душа больше не была скована земными политическими проблемами и могла свободно посвятить себя покаянию и молитве в пассивном созерцании прошлой жизни. Иными словами, я полагаю, что богословские труды Булгакова были написаны его пассивной, созерцающей душой, временно пребывающей в промежуточном пространстве загробной жизни. Его голос был не просто голосом священнослужителя-эмигранта; это был голос, раздающийся из-за пределов земного мира. Чрезвычайные обстоятельства эмиграции, распад своего «я» и отделение души от тела сделали возможными непосредственный опыт откровения, истинное восприятие православия, что позволило ему создавать богословские труды, обратившись к тому, чем он никогда не занимался в России, где невозможно было отвлечься от политики. Во всяком случае, такова была новая конструкция собственного творческого «я», созданная Булгаковым.
Восприятие Булгаковым своей жизни в дореволюционной России как активного, «земного», политического существования в противовес его пассивной, созерцательной, но не менее наполненной творчеством жизни в Париже нашло отражение и в эволюции его идей. 1 февраля 1926 года, всего через несколько дней после выздоровления, Булгаков писал своему другу Георгию Флоровскому: «И кажется мне, что многое отчасти догорело, частью сгорело в жаре моем». Как можно понять из следующих строк, главное, что «сгорело», было его прежнее отношение к Владимиру Соловьеву:
Мне нечего идеологически защищать… во Вл. С<оловье>ве, я с особой очевидностью для себя это почувствовал, когда была его память. Есть разница эмоционально-психологическая, кроме того, что для меня он остается одним из «отцов». Есть закономерно возникающие в душевности (не духовности) «трансцендентальный иллюзии», к<ото>рые тают просто при переходе в духовную жизнь. В С<оловье>ве мне кажется известное религ<иозное> несовершеннолетие, с его свойствами – диллетантизмом, экспериментированием, полетами воображения и проч. Tel quel он просто религиозно неубедителен и неавторитетен, не старец, а всего писатель (впрочем совершенно то же я думаю и о Д<остоевско>м)…подлинная жизнь в Церкви означает даже не преодоление, а освобождение или перерастание С<оловье>ва, он там не питает[474]474
Булгаков – Флоровскому, 1 февраля 1926 года // Georges Florovsky Collection, Princeton University.
[Закрыть].
В чем же выражалось это перерастание Соловьева, о котором сообщает Булгаков?
Для Булгакова и других современников Серебряного века Соловьев был гораздо больше, чем писатель или философ: он был пророком нового религиозного возрождения, вдохновителем «Третьего Завета», человеком, чьи идеи подлежали не толкованию и анализу, но тому, чтобы их впитывать, жить с ними и их осуществлять. Для поэтов и прозаиков Серебряного века идеи и образы Соловьева служили источником неиссякаемой творческой энергии, они постоянно возникали в разных сочетаниях и обыгрывались в поэтическом творчестве. Соловьев воплощал в себе многое из того, что было близко Булгакову: социальное христианство, целостное мировоззрение, немецкую философию и введение в мир русской литературы понятия Софии, Премудрости Божией. Отклик Булгакова на то поле творческих возможностей, которое заключалось в идеях Соловьева, достиг кульминации в «Философии хозяйства», его главном произведении, относящемся к Серебряному веку.
Как мы помним, понятие «софийности хозяйства» у Булгакова представляет жизнь мира как постоянное воспроизведение космической драмы грехопадения. Каждый раз, когда человек вспахивает борозду или пишет страницу книги, его деятельность потенциально причастна к Божественной Софии; может наполняться радостью и сияющей красотой распускающегося цветка или звезды небесной, может стать частью воскрешения всего тварного. «Героем» этой драмы был хозяин – активный субъект, который постоянно трудился, вкладывая собственную энергию в мир природы. Для Булгакова, как и для его современников-символистов, София была не конкретным философским понятием, но неуловимым, мерцающим источником вдохновения – Премудростью Божией, которая легко могла сливаться, и часто сливалась, с романтической Вечной Женственностью.
Все это Булгаков оставил позади, когда его отношение к Владимиру Соловьеву «сгорело» в печи его болезни. Хозяин или активный субъект скрылся из виду, уступив место «тайнозрителю», толкователю божественного откровения. Булгаков редко упоминает о реализации православной этики в повседневной жизни и труде. Теперь он делает акцент исключительно на единстве Писания и традиции, на «неисчерпаемости» Писания, потому что, хотя существует только одна Истина, она постигается в постоянном «дискурсивном процессе развития». Важно именно постижение Истины, а не ее воспроизведение в жизни и труде, и в этом процессе главная роль принадлежит священнику, а не хозяину. В церковной иерархии священник существует в символическом пространстве между трансцендентным и имманентным, перекидывает мост между небом и землей, постоянно перемещается из мира людей в трансцендентную реальность алтарного пространства, отгороженного иконостасом. Миряне участвуют в этом процессе, поскольку без них священник не может осуществлять свои функции. Когда в «Православии» Булгаков вновь обратился к философии хозяйственной жизни, для него активная роль субъекта перестала быть ее важнейшим элементом. Хотя он и воспроизвел общую схему, предложенную им в «Философии хозяйства», в «Православии» появился новый элемент: «В отношения между человеком и природою не только входит труд человека, но и привходит освящающая благодать Св. Духа». Природу больше нельзя преобразовать посредством только лишь «софийного» труда человека: неотъемлемой частью процесса становится преобразующая сила Св. Духа, нисходящая на готового воспринять ее субъекта[475]475
Булгаков С. Н. Православие: очерки учения Православной церкви. С. 77, 60, 41,349,350.
[Закрыть].
В то же время в понимании Софии появилось нечто принципиально новое. Ранее София рассматривалась как неотъемлемая часть софийности хозяйства; любое конкретное значение, которое понятие самой Софии могло иметь вне этой рамки, оставалось неуловимым. Оно отсылало к полю смыслов, намеченному в поэзии и философии Соловьева: к эфемерному образу прекрасной женщины, к платонической Душе Мира, к дополняющему мужской Логос женскому началу Христа; все, что мы о ней знаем, это то, что она представляет нечто божественное, женское и очень красивое. К тому времени, когда в 1937 году Булгаков написал предназначенный для неправославных учебник «The Wisdom of God: A Brief Summary of Sophiology» («Премудрость Божия: краткое изложение софиологии»), эта множественность образов сложилась в конкретное учение, в центре которого находится отношение Бога и мира или Бога и человека. Больше не было места для скользящих интерпретаций, для слияния женской красоты с Премудростью, которая, согласно Книге притчей Соломоновых, пребывала с Богом до сотворения мира. Булгаковская София последнего периода перестала быть наполовину романтической das ewig Weibliche (Вечной Женственностью); ей на смену пришла вселенская, духовная Премудрость Божия константинопольской мечети.
Эти новые взгляды отличают Булгакова-богослова от того молодого человека эпохи Серебряного века, который разделял мистический интерес к «мирам иным» с Блоком, Белым, Гиппиус, Мережковским; теперь эти миры казались ему просто «туманными иллюзиями». С этого момента воспоминания Булгакова о Серебряном веке подернулись дымкой, он словно забыл о том, что было в России в начале столетия. Не без удовольствия он упоминает о потрясении, которое испытала Зинаида Гиппиус, когда в речи, произнесенной на панихиде в память философа, он назвал Соловьева не «Владимиром Соловьевым», а «почившим рабом Божиим Владимиром». «Но, – замечает Булгаков, – я-то только так и мог и хотел видеть и говорить»[476]476
Булгаков – Флоровскому, 1/21 февраля 1926 года // Georges Florovsky Collection. Princeton University.
[Закрыть].
Так Булгаков «перерос» Владимира Соловьева. Возможно, именно это имел в виду Флоровский, когда подытоживал путь интеллектуального развития, пройденный Булгаковым:
От Соловьева путь назад к Шеллингу и к неоплатоникам, но и к патристике, к опыту Великой Церкви, в историческую Церковь, в Церковь предания и отцов. Власть немецкой философии очень чувствуется и у Булгакова, острое влияние Шеллинга в его хозяйственной философии. <…> Но от религиозной философии Булгаков уверенно возвращается к богословию. В этом его историческое преимущество, в этом его сыновняя свобода…[477]477
Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 493.
[Закрыть]
Тем не менее как в России, так и за рубежом путеводным светочем для Булгакова оставалась одна тема, тесно связанная с Соловьевым. Для писателей, поэтов и мыслителей Серебряного века, как и для европейских современников fin de siecle, особой притягательностью обладало представление об апокалипсисе и конце истории. Предчувствие конца стало еще более острым в первые годы после революции, когда некоторым поэтам представлялось, что они оказались в мире после апокалипсиса. С особой силой это чувство выразилось в «Концерте на вокзале» (1921) Осипа Мандельштама.
Апокалиптические видения давались Булгакову нелегко. Дважды он пытался писать в эсхатологическом ключе, но порывы иссякли. У «Философии хозяйства» должен был появиться второй том, посвященный «эсхатологии хозяйства», но вместо этого Булгаков написал «Свет невечерний»; большая софиологическая трилогия должна была завершиться томом под названием «О грядущем»[478]478
См. об этом в: Bulgakov S. Sophia. The Wisdom of God. An Outline of Sophiol-ogy. New York 1993. P. 14, fn 4.
[Закрыть], но вместо него появилась «Невеста Агнца». В обоих случаях мыслитель слишком увлекся катафатическими вопросами веры и церкви.
Незадолго до своей смерти в 1944 году Булгаков все-таки дошел до собственного апокалипсиса, написав по настоянию учеников пространный комментарий к «Откровению Иоанна Богослова» – «Апокалипсис Иоанна». Он знал, что это будет его последняя книга; и когда мы рассматриваем его творчество в эмиграции в целом, становится ясно, что он все время готовился к этому моменту. Это из ряда вон выходящее сочинение исполнено идущего от сердца, всепоглощающего ожидания конца. В последней книге – он действительно называл ее «эпилогом» своей творческой деятельности – Булгаков доказывает, что истинной темой Апокалипсиса св. Иоанна является философия конца[479]479
Булгаков С. H. Апокалипсис св. Иоанна. Париж, 1948. С. 17
[Закрыть]. Св. Иоанн превращается в абсолютного тайнозрителя, духовно одаренного, поистине избранного пассивного реципиента божественного откровения. Книга Откровения, будучи посвященной теме конца, приобретает универсальный смысл; это единственный из иудаистских апокалипсисов, воспринятый христианством, что определяет его общечеловеческое значение. Творческая жизнь Булгакова в эмиграции, рассматриваемая сквозь призму этого последнего сочинения, замечательна с точки зрения элегантности того, как она была выстроена. По словам Льва Зандера, в период между «смертью» в 1926 году и смертельной болезнью, поразившей его в 1939-м, Булгаков сказал все, что хотел сказать[480]480
Зандер Л. А. Бог и мир. Т. 1. С. 96.
[Закрыть]. Его сочинения производят впечатление созданных по строгому плану, идеально соединяются в две основные трилогии, воспроизводящие вечную структуру литургии и написанные пассивно, подобно «Откровению Иоанна Богослова». В самом деле, складывается впечатление, что Булгаков буквально следовал наставлению, с которым он обратился к собратьям-эмигрантам в 1925 году: «… поле наше – наше внутреннее я; работа наша – в создании самих себя»[481]481
Булгаков С. Н. Россия, эмиграция, православие // Вестник русского студенческого христианского движения. 1975. № 116. С. 156.
[Закрыть]. Следуя примеру, поданному Соловьевым как писателем, Булгаков назвал свою великую вторую софиологическую трилогию «О Богочеловечестве». Он завершил работу над ней за год до роковой болезни; «Апокалипсис» стал эпилогом к выполненной задаче.
Жизнь Булгакова в эмиграции – это жизнь исключительно сильной личности. В конечном счете, ему удалось сохранить целостность своего «я» благодаря полному принятию разрыва с предыдущей жизнью. Он преодолел почти невыносимое давление диаспоры, субъективно пережив умирание и воскреснув к новой жизни, создав себе новое бытие, в котором он одновременно являлся и скромным эмигрантом, и избранным тайнозрителем. В определенном смысле вся творческая жизнь Булгакова в эмиграции стала переписыванием Соловьева, его христианизации, в контексте переосмысления своей прошлой, «земной» жизни в России и подготовки себя к Судному Дню.
Опыт Булгакова, как и многих живших в XX веке, связан с дислокацией и созданием памяти. Воспоминания о жизни в России угасали даже в его собственном сознании по мере того, как они поглощались его христианским мировоззрением. Духовные проекты последних двадцати лет его жизни – заигрывание с католицизмом «у стен Херсониса», отклики на католическое вероучение в его мариологии и ангелологии, попытка внести новый принцип соотношения человеческого и божественного в природе Христа («О Богочеловечестве»), «последняя» книга об Апокалипсисе – отразили его страстную надежду («чаяние») на VIII Вселенский собор, на котором вызов, брошенный им православной и христианской догме, наконец получит разрешение. Имя Булгакова стало неразрывно связанным с учением о Софии, Премудрости Божией, по сравнению с которым более ранняя, полуромантическая София «Философии хозяйства» казалась всего лишь предварительным наброском.
Столь долгожданный Вселенский собор так и не состоялся. Вместо этого в сентябре 1935 года Московская патриархия, а вскоре вслед за ней и Карловацкий Синод церкви в изгнании обвинили отца Сергия Булгакова в распространении идей, противоречащих православному вероучению, и рекомендовали его к отлучению от церкви до тех пор, пока он не откажется от своих «опасных» взглядов[482]482
Осуждение учения прот. С. Н. Булгакова о Софии. Указ Московской Патриархии от 7 сентября 1935 года. Цит. по: URL: https://antimodern.ru/sophia-1935/ (дата обращения: 17.06.2021).
[Закрыть]. Беспокойство, которое официальная церковь (советская или иная) могла испытывать по поводу идей Булгакова, вполне понятно: в указе Патриархии упоминается об их подозрительном сходстве с «полуязыческими и полухристианскими учениями», такими как гностицизм, бытовавшими в среде ранних христиан; о злоупотреблении «творческим воображением», из-за которого сочинение Булгакова оказывается «поэмой», а не богословским трактатом; о введении им четвертой, женской ипостаси в виде Софии и, следовательно, ненужного сексуального элемента; о двойственности и в восприятии Христа, и в трактовке добра и зла, отдающей осужденными церковью ересями аполлинаризма и оригенизма; и о теории искупления, в которой Богочеловек чрезмерно очеловечивается, превращаясь в жертву внутренней борьбы, а не конфликта с Сатаной. Является учение Булгакова ересью или нет – вопрос не наш; достаточно отметить, что корни его богословия со всей очевидностью уходят в светскую модернистскую культуру Серебряного века.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































