Текст книги "Василий Шукшин. Земной праведник"
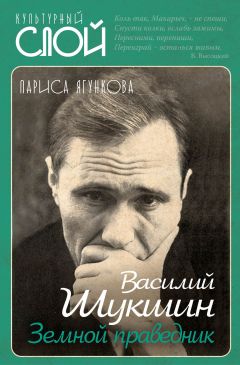
Автор книги: Лариса Ягункова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Аллегорические сны, характерные для «поэтического кино», выразительные с точки зрения самой кинематографической образности, очень занимали воображение Шукшина. Он начал снимать еще один эпизод в таком же роде: двое мрачных небритых злоумышленников среди бела дня наступают на Ивана, загоняя его в буквальном смысле слова на край земли – именно так выглядела груда колючей щебенки. Что означал этот сон, осталось мне непонятно. Шукшин отложил этот ролик. У него появилась новая идея: через всю картину провести как сны – воспоминания Ивана о деревне. Вот когда пригодилась отснятая впрок алтайская натура.
Неоглядная степь, точно выбежавшие на крутой берег Катуни избы. Самая крайняя, окнами на речку – Иванова изба. Возле баньки что-то мастачит дед… Мирные эти картины говорили о многом в характере Ивана, но они вызывали представление о каком-то чересчур уж ясном, гармонически спокойном мироощущении. Может быть, Иван и был таким умиротворенным у себя дома, а сорвался с места, пустился в дальнюю дорогу – и мира в душе как не бывало. Суета сует лишила его душевного покоя.
По возвращении из экспедиции Шукшин занялся этим материалом. В ход пошли монтажные ножницы, клей – внутренняя сумятица, душевный разброд героя должны были найти свое выражение в путанице его сновидений. А снилась Ивану родная деревенская горенка с широкой постелью, пестрым ковриком, полосатыми дорожками и двумя белоголовыми детишками, распевающими его любимое: «Чой-то звон, да чой-то звон да в нашей колокольне…». Снилось двое мрачных злоумышленников, душу готовых вынуть из бедного путника, и тысячу раз хоженый большак за деревней, а у большака – то самое давным-давно облюбованное местечко, где так славно посидеть усталому, возвращаясь с поля, чтобы потом не показывать эту усталость дома…
Но реальное никак не соединялось с ирреальным, документальные, точно подсмотренные кадры – с кадрами, так сказать, «синтезированными», в которых естественное освещение и обычная манера игры подчеркивали абсолютную условность содержания. И режиссер искал решение за монтажным столом, упорно сочетая несоединимое.
– Я, может быть, первую картину монтирую с таким азартом, с такими муками и с таким вкусом к делу. Пожалуй, первый раз у меня монтаж так много значит в образном строе картины, – словно бы нехотя сказал как-то Шукшин (В монтажный период он стал совершенно неразговорчив: «здравствуйте», «до свиданья» – и все).
За монтажным столом неожиданно пришло решение важной проблемы – «монологов» Ивана. По мысли Шукшина монолог должен был восполнить отсутствие все того же автора – посредника, помочь зрителю до конца разобраться в герое. Надо отметить, в прозе Шукшин не часто прибегает к этому средству; его герои много говорят, но отнюдь не «выкладываются». «Монолог» Броньки Пупкова – не в счет: это акт лицедейства, а не исповедь. Если герою Шукшина «позарез» надо высказаться, излить душу, писатель, как правило, облекает монолог в какую-нибудь опосредованную форму: например, герой одного из его рассказов, шофер Иван Петин, уязвленный вероломством своей легкомысленной супруги, садится писать «раскас», чтобы как-то облегчить душу. И в «Печках-лавочках» Шукшин находит подобное опосредование: герой пишет герой письма с дороги.
Любопытно, что в сценарии письма эти стояли особняком, не входя в строй повествования. Все достоинства этих писем – их образность, их юмор – лежали в русле художественной прозы. Никакого, хотя бы приблизительного указания, как ввести их в образную ткань фильма, Шукшин не давал. Предполагалось, что режиссерское решение придет прямо на съемке. Но шли съемочные дни, а вопрос о письмах оставался открытым. И было над чем поломать голову. Если бы речь шла только о дорожных впечатлениях Ивана, то словесное изложение могло бы отступить на второй план, уступив место определенному зрительному ряду. У Шукшина и Заболоцкого «в заделе» было много эпизодов, как бы подсмотренных на московских улицах. Вот, например, Иван с Нюрой забрели в мастерскую скульптора – прямо во дворе, под открытым небом. Камень, еще не вполне оживший и человек, готовый окаменеть перед ним – это удивительно точно было подсмотрено и снято оператором. Или вот еще: в летний полдень, одурманенный городской сутолокой, Иван присел на корточках спиной к парапету подземного перехода, да так и задремал, как случалось, бывало, подремать несколько минут в поле, во время перекура. Подскочила Нюра, растолкала, потащила за собой, но вдруг спохватилась: а сапоги? И впрямь, коробка с новыми сапогами, доверенная Ивану, осталась себе, дурочка, стоять на парапете. Хорошо, вовремя спохватилась… И жест испуга, и мгновенный за тем вдох облегчения, и тычок в спину, которым терпеливая Нюра наградила-таки своего «непутевого» – все это поражает ощущением непреднамеренности, подлинности происходящего и вполне может служить эквивалентом некоторых чисто словесных образов, которые встречаются в письмах. Но целиком подменить словесный монолог зрительным рядом было невозможно. И вот почему. Письма Ивана слишком много говорили нам о личности героя. Написанные от чистого сердца, адресованные близким, перед которыми не надо было «мудрить», прикидываться сильнее или слабее, чем ты есть на самом деле, они как бы требовали переводить их на язык кино не через ряд более или менее сложных ассоциаций (в них, как мы уже убедились, недостатка в фильме не было), а как-то иначе, проще и строже.
Шукшин записал оба письма как два «монолога» и подолгу проводил за монтажным столом, подкладывая под фонограмму то одно, то другое изображение:
«Здравствуйте, родные:
Теща Акулина Ивановна, дядя Ефим Кузьмич, тетя Маня, няня Вера, дед и детки Валя и Нина! Во-первых строках моего письма сообщаю, что мы живы – здоровы, чем вам желаем. Пишу вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон! Я был даже сказал, это больше. Мы живем у профессора. Вообще, время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе – не удивляйтесь: здесь так называются магазины…»
И оказалось, что закадровый голос звучит очень выразительно, если кадры, сменяющие друг друга на экране, не иллюстрируют текст, а существуют как бы совершенно независимо от него. Снова обратился Шукшин к алтайской натуре – благо, ее хватило бы на три фильма. Высокий заросший обрывистый берег над Катунью, с которого стремительно и осторожно спускается на водопой табун, зеленые острова и песчаные перекаты, речная быстрина, которую пересекает паром, старый балалаечник на пароме – все это в свою очередь как-то по-новому заиграло рядом с текстом.
Пишет, пишет Иван домой о своем путешествии, пишет о Москве, о новых знакомствах, а видится ему родная сторона. В этом зерно характера, который открывается нам уже без посредничества автора. Отказавшись от возможности на прямую «объяснить» своего героя, Шукшин нашел удивительно простое и сильное изобразительное средство, чтобы дать почувствовать нам существо натуры Ивана.
Средство это – пейзаж. Надо заметить, Шукшин и в прозе, и в кинематографе до сих пор был не особенно щедр на изображение пейзажа. В прозе его пейзаж дается чаще всего опосредованно, через восприятие героев, не склонных приходить в радостное изумление перед восходами и закатами. Но если в прозе пейзаж иногда создает определенное настроение, то в фильмах Шукшина ему обычно отводилось до обидного мало места. (Не путайте пейзаж с «натурой» – это не одно и то же). Мы почти не видели просторов Алтая в фильме «Живет такой парень» – два – три проезда по шоссе (а ведь это знаменитый Чуйский тракт!) мало что прибавляли к нашему представлению о среднерусском пейзаже. Пожалуй, только в фильме «Ваш сын и брат» пейзаж стал элементом поэтики фильма. Особенно хорош был длинный операторский проезд по засыпающей и никак не угомоняющейся деревенской улице, дающей эмоциональный запев всему фильму. Тут оператор В. Гинзбург стал поистине соавтором Шукшина.
Но для того, чтобы Шукшин по-настоящему заинтересовался пейзажем, он должен был связать его с образом, сделать пейзаж средством характеристики. Трудно сказать, когда пришло это решение: найти в пейзаже ключ к отображению образа-притчи. Во всяком случае, уже с первых съемочных дней Шукшин уделял пейзажу много внимания. Недаром он пригласил на картину А. Заболоцкого, которого хорошо знал по его прежним работам, в том числе и по замечательной в операторском отношении «Альпийской балладе». Заболоцкий обладает особой чуткостью к природе. Он умеет подмечать, казалось бы, совершенно неприметные подробности, которые даже примелькавшемуся пейзажу придают свежесть и очарование. В «Альпийской балладе» он как бы позволил нам пригнуться и увидеть мир с высоты травинки, с точки зрения человека, распластавшегося по земле, не рискующего даже поднять голову – мир, не перестающий от этого быть волнующим и прекрасным.
В фильме Шукшина у камеры Заболоцкого иная точка зрения: она смотрит на мир словно бы с высоты человеческого роста, с точки зрения человека идущего, скорого на ногу и вместе с тем наблюдательного и зоркого. Легкая и подвижная, она взбегает на пригорки, опускается по обрывистому берегу, плывет по реке; но временами эта подвижная камера останавливается, замирает над каким-нибудь речным поворотом, заворожено смотрит вдаль.
Шукшин старается придать этому операторскому материалу еще большую выразительность. Он ищет ее в соединении документальной подлинности с условностью в приеме монтажа. Он смело сопоставляет пейзаж и портрет, пейзаж и подсмотренную где-то на селе жанровую сценку. Человек рассматривается им не просто, как неотъемлемая подробность пейзажа, как его существенная примета: сопоставление пейзажных и портретных кадров позволяет взглянуть на человека не как на удачный типаж, несущий с экрана правду истинного проживания какого-то момента, а как на обобщенный тип, символизирующий собой правду бытия.
Материала, снятого на Алтае, хватило бы на целую картину. И какого материала – живого, яркого, берущего за сердце. Мы видим на экране людей вроде бы простых и вместе с тем примечательных самой своей самобытностью, своим «лица не общим выраженьем». Местные старожилы, старики и старухи, важные, чинные, ничему не удивляющиеся – да и чему удивляться – то ли еще им довелось повидать на своем веку. Голосистые сударушки из местного деревенского хора, без которых по обыкновению не обходится ни одна свадьба. Знаменитый на всю округу балалаечник дядя Федя, то ли последний на Руси скоморох, то ли последний юродивый, всю свою жизнь проскитавшийся по этим краям с балалайкой. В сценарии вы их не встретите – они пришли на экран прямо со своих дворов, с проселочной дороги. Щедрый на выдумку Шукшин не писал для них текста, но зато от души импровизировал, разыгрывал целые сцены, заставлял актеров – профессионалов подыгрывать им и сам подыгрывал первым.
Шукшин не может и не хочет ограничивать себя на съемочной площадке. Он снимает, казалось бы, строго по сценарию, но поскольку за скупой ремаркой для него стоит целый мир, то постоянно импровизирует на съемках, вводит все новые и новые типажи, придумывает новые эпизоды. В результате, всякий раз, приступая к монтажу, он прямо-таки захлебывается материалом. По предварительным подсчетам ему нужно сократить уже сейчас около 900 метров.
Шукшин словно бы не отдает себе отчета, что его сухая, лаконичная ремарка, развернувшись на экране, потребует метража. Ему трудно предусмотрительно выстроить сценарий с таким расчетом, чтобы отснятый материал уложился в полтора часа экранного времени. Все отснятое им идет не от внезапной прихоти или не в меру разыгравшейся фантазии, но от стремления развернуть короткую ремарку, обогатить ее зримыми подробностями, насытить кинематографической образностью. Теперь утопая в материале, он предпочитает сократить некоторые игровые сцены, нежели «свернуть» ремарку, свести ее к нескольким кадрам, потерять с ней всю полноту и широту отображаемой жизни.
Есть в отснятом материале кадры, подсмотренные где-то на вокзальном перроне и на привокзальной площади. Вроде бы непритязательные и вместе с тем очень запоминающиеся. Поезд остановился, замелькали спешившиеся пассажиры, потекли ручейком, потом речкой. Молодые, старые, веселые, озабоченные, хмурые, добрые лица заслонили экран. Лица одинаково привлекательные в своей безыскусственности, неприкрашенности. Лица, еще раз напоминающие, что самое прекрасное – это отсутствие личины… В фильме эти кадры пойдут под хорошую песню:
За Россию-матушку все умны,
За Россию-матушку все смелы…
Так развернулась в фильме одна из самых коротких шукшинских ремарок: «Велика матушка Русь!». Попробуйте выбросить эти кадры из фильма – он сразу утратит нечто в своей ненавязчивой мудрости и доброте. И Шукшин не выбросит, шалишь. Он понимает, что идея фильма, та самая мораль, о которой он так не любит распространяться, тесно связана и с характером героя, и с характером всего киноповествования, его интонацией, его атмосферой, его специфической экранной выразительностью. Эту интонацию, эту атмосферу он упорно искал на съемочной площадке и за монтажным столом.
Когда-то, рассказывая о том, как он готовится к новой постановке, Шукшин заметил, что от работы над сценарием у него всегда остается тягостное чувство. Иногда это чувство поднимается вновь после просмотра готового фильма. Чаще всего фильм получается беднее замысла. Только в прозе ему удается до конца овладеть той мыслью, ради которой собственно и стоит работать. «Не знаю, как я заговорю через год», – сказал тогда он.
Однако, Шукшин не написал оригинального сценария, в котором достоинства литературного письма совмещались бы с точным кинематографическим видением. За письменным столом он всегда писатель, и просто не может миновать стадию чисто литературной работы. А режиссером становится потом, отыскивая зримый эквивалент своим литературным образам. С каждой новой картиной ему все заметнее это удается. Кинематографическое видение – способность выразить мысль через зримый образ – бывает прирожденное, а бывает приобретенное, идущее от общей художественной культуры, помноженной на страстное желание выразить себя и свой мир на экране. Шукшин обретает его в упорной работе.
Год еще не прошел. Фильм существует пока в сотнях монтажных колец. Впереди монтаж, перезапись – и на этих стадиях тоже идет напряженный режиссерский поиск. Надо думать, автор знает, как выразить на экране то, что до сих пор удавалось только в литературном творчестве.
А теперь надо рассказать, почему эта статья, написанная для журнала «Искусство кино», не появилась в печати своевременно, еще до выхода картины. Да потому, что Шукшин ее не завизировал. Прочитал и скептически сощурился. А потом, немного помолчав, сказал: не надо это печатать, не стоит раскрывать будущим зрителям эту кухню; художник обязан скрыть от публики свои усилия, а тут много лишней болтовни. Сказано это было довольно жестко. Он даже не пытался как-то смягчить свой приговор: мол, не обижайся, всякое в жизни бывает… Но я и не обиделась. Я часто слышала от разных кинематографистов: наше дело жестокое. И правда, монтажные ножницы могли вырезать из ленты не одну сотню метров: целые роли вылетали в корзину. Это было в порядке вещей. На кого обижаться? Искусство требует жертв.
Я видела, что Шукшин мается, у него что-то не получается, он похоже собой недоволен, но упорно вела свою статью к оптимистическим выводам. Она должна была появиться под рубрикой «Творческая лаборатория» – стало быть, речь шла о процессе, не о результате и можно было не спешить с выводами. Но я спешила – мне очень хотелось поддержать Шукшина. Я видела, что земляки – алтайцы, занимающий в районе видное положение, неоднозначно относятся к будущему фильму: многие из них, познакомившись со сценарием, выражают недовольство, а то и возмущение.
Я сама говорила с одним таким возмущавшимся – инструктором райкома партии, который приехал в Шульгин Лог с намерением разобраться, что же это такое снимает Шукшин. Он прочитал сценарий и честно сказал: «Я ничего не понял. Что это за механизатор такой, который в разгар полевых работ едет на курорт? Что у него за душой? Он как сосуд пустой. Каждый может наполнить его чем угодно, если обойдется с ним ласково». На мое робкое возражение, что Иван не так-то уж прост – только дурака валяет согласно житейской «мудрости», откровенно высказанной им самим: «Ванька, если трудно придется, прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик», – мой собеседник буквально взорвался: «Зачем же он выбрал такого героя?! Мало что ли, у нас замечательных людей, героических тружеников?». Я смотрела на его сердитое, совсем еще молодое лицо с воспаленными красными глазами – чем-то он напоминал самого Шукшина, вернее второго секретаря райкома партии Ивлева, сыгранного в дипломном фильме «Из Лебяжьего сообщают». Я понимала, что он с утра до ночи мотается по району, а вот теперь сделал крюк, заехал сюда – вместо того, чтобы часок – другой отдохнуть, хотя бы подремать в машине. По молодости своей я еще робела перед «серьезными людьми», а если бы даже не робела, все равно не сумела бы объяснить ему, что чувствовала в глубине души: ни один народ не состоит сплошь из героев и тружеников, по крайней мере, половина произрастает как трава, живет одним днем, не задаваясь вопросом о смысле жизни. Сделать всех борцами за лучшее завтра невозможно, но возможно показать людям, как они живут – пусть посмотрят на себя со стороны и решат, что в их жизни истинно, а что от лукавого.
Признаюсь, мне самой не очень импонировало, что колхозник Иван Расторгуев попытался дать взятку директору санатория, впрочем, такую смехотворную, что зажиревшему директору стало одновременно и смешно, и противно, и стыдно – и в эту минуту в нем проснулся человек. Но мне в высшей степени импонировало стремление актера, единого в трех лицах – актера, писателя, режиссера – показать «как много мук приносят изломанные и лживые жесты». Это есенинское определение пришло на ум только потом, а поначалу я не могла так же четко сформулировать, в чем же «сверхзадача» будущего фильма. И приставала с этим к Шукшину.
Мы сидели на бревнах, оставшихся от постройки декорации «Иваново подворье», не лицом, а боком друг к другу. «А вам все мораль подавай?», – подзуживал Василий Макарович. «Конечно!», – обижалась я. – «А как же без морали?». «А я вот не хочу – с моралью… Я снимаю кино без морали…» – и косился на меня довольно-таки зло.
Я как-то не догадывалась, что Шукшину противны слова «творческая лаборатория» и вообще всякие попытки «поверить алгеброй гармонию». Он, наверное, понимал, что я не читала его статью «Нравственность есть Правда» – и не разобралась в его этике и эстетике. Каюсь, я прочитала ее, когда Василия Макаровича уже не было в живых, в сборнике шукшинских статей и бесед, носящем то же название.
В комментариях к этому сборнику оказалась опубликована заявка на фильм «Печки-лавочки», которую представил Шукшин директору киностудии им. М. Горького – тоже образец напористой и вместе с тем раздумчивой шукшинской публицистики. И оказалось, тут Шукшин прекрасно морализирует, нисколько не избегая выказать себя сторонником определенной системы нравственных ценностей; он прямо по пунктам перечисляет, о чем пойдет речь в фильме.
«Историю эту надо приспособить к разговору об:
I. Истинной ценности человеческой.
II. О внутренней интеллигентности, о благородстве.
III. О достоинстве гражданском и человеческом.
Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря сильнее, кормилец, работник, труженик. Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо беспрерывно учить, одергивать, слегка над ним посмеиваться не лень: проводники вагонов, дежурные в гостиницах, кассиры, продавцы… Но разговор об этом, очевидно, надо вести „от обратного“: вдруг обнаружить, что истинный интеллигент высокой организации и герой наш, Иван Расторгуев, скорей и проще найдут естественный интерес друг к другу, и тем отчетливее выявится постыдная, неправомочная лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых „учителей“, от которых трудно Ивану. И всем нам.
Если попытаться найти в данном сюжете жанр, то это комедия. Но повторяю, разговор должен быть очень серьезным.
Под комедией же здесь можно разуметь то, что является явным несоответствием между истинным значением и наносной сложностью и важностью, которую люди пустые с удовольствием усваивают. Все, что научилось жить не по праву своего ума, достоинств, не подлежащих сомнению, – все подлежит осмеянию, т. е. еще раз напомнить людям, что все-таки наша сложность, умность, значимость – в простоте и ясности нашей, в неподдельности.
Иван с женой благополучно прибыли к Черному морю (первый раз в жизни), но путь их (люди, встречи, столкновения, недоразумения), должен нас заставить подумать. О том, по крайней мере, что если кто и имеет право удобно чувствовать себя в своей стране, то это работник ее, будь-то Иван Расторгуев или профессор-языковед, с которым он встречается. Право же, это их страна. И если такой вот Иван не имеет возможности устроиться в столичной гостинице и, положим, с какой лихостью и легкостью и с каким шиком устраиваются там всякого рода сомнительные деятели в кавычках, то недоумение Ивана должно стать и нашим недоумением. Мало сказать недоумением, не позор ли это наш?».
С какой ясностью раскрывает Шукшин смысл будущего фильма, как убежденно декларирует свои взгляды. Это чистая публицистика, тут он конкретен в осмыслении социальной картины жизни. Драма сельского жителя, который выйдя из деревни, попадает не в сферу подлинной культуры, а в систему хваткого потребительства, основанного на делячестве и чванстве, раскрыта Шукшиным исчерпывающе. Вывод ясен и прям: государство в ответе за своего гражданина – труженика, за его мироощущение, за его душевный комфорт.
Вообще, в своей публицистике – а творческое наследие Шукшина включает десятки разнокалиберных статей и бесед – он постоянно раскрывает свои взгляды на жизнь, на труд, на искусство. Эти взгляды укрепляются или меняются. Например, уже через несколько лет после заявки на фильм «Печки-лавочки», в беседе, озаглавленной «Я родом из деревни…», он говорит о деревенском человеке: «Может мы немножко виноваты, что слишком много обращались к нему, как к господину, хозяину положения, хозяину страны, мы его вскормили „немножко“ до размеров алчности уже. Он уже такой стал – все ему надо. А чтобы самому давать – он почему-то забыл об этом. Я думаю, что деревенский житель, тоже нынешний, и такой».
Тут уже иной, противоположный взгляд на проблему взаимной ответственности – сельские жители в долгу перед государством. Шукшин иногда бросается из крайности в крайность. И все это от боли и тревоги за человека, свое соплеменника и современника. И всегда он с предельной откровенностью делится своими мыслями и чувствами. Иногда заранее знает, какие последуют возражения – и тут же отвечает на них, горячо отстаивая свою точку зрения. Он стремится, чтобы его слово, «как сейчас говорят», «достало» читателя. И внушает, внушает свое «кредо». В замечательной своей статье «Монолог на лестнице», он без обиняков говорит, что нравится и что не нравится ему в деревенской жизни и заканчивает пожеланием молодому человеку, который только вступает в эту самую жизнь: «В восемнадцать лет самая пора начать думать, ощущать в себе силу, разум, нежность – и отдать бы все это людям. Кому же еще? Вот – счастье, по-моему. Можно, конечно, принять восемнадцать лет, как дар жизни, с удовольствием разменять их на мелочишку чувств, небольших, легко исполняемых желаний – так тоже можно, тоже будет, что вспомнить, даже интересно будет… Только жалко. Ведь это единственный раз! Жизнь, как известно, один раз дается и летит чудовищно скоро – не успеешь оглянуться – уже сорок…».
Шукшин выступает как проповедник, как учитель жизни. Но это в публицистике! В художественном творчестве – он совсем иной. Он не хочет нажимать на зрителя, поучать его, давать готовый ответ как в задачнике. Он надеется, что зритель сам придет к ответу, додумается до истины – надо только не врать, не кривить душой. Может быть, помочь зрителю – но непременно художнически, сводя героев фильма в каких-то острых ситуациях. Нравились ему такие вот «несколько крайние», по его словам, ситуации. Так и говорил: «Для того чтобы извлечь искру, надо ударить два камня друг о друга». Он хотел, чтобы его мысль «искрила» в художественных образах. Очень часто ему это удавалось, но иногда и не получалось.
Конечно, замысел фильма был шире, острее – речь там шла о неразрывности социального и нравственного обеспечения. Мысль эта, как мне кажется, не нашла своего выражения в образной системе фильма. Получился фильм о нравственной ориентации простого человека в сложном, меняющемся в не лучшую сторону мире. Тоже интересный, хотя несколько иной.
Но все это я поняла потом. А тогда, после недолгого разговора с Шукшиным на бревнах, недовольная собой и тронутая его терпеньем, я вдруг сама определила «сверхзадачу» фильма: «бережность к людям».
Об этой самой бережности Шукшин сказал спустя два года, выступая в кинотеатре города Белозерска перед показом фильма «Печки-лавочки»: «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть. Нам бы с нашими большими скоростями не забыть, что мы люди, что должны быть… Мы один раз, уж как случилось, живем на земле. Ну, так и будь ты повнимательнее друг к другу, подобрее».
Ко мне Шукшин был добр.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































