Текст книги "Василий Шукшин. Земной праведник"
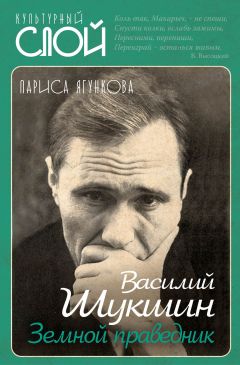
Автор книги: Лариса Ягункова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Глава десятая
На ясный огонь
С вечера над рекой Катунью занялись костры – один за другим, точно в старину, накануне Ивана Купалы. Случалось ли вам в сумерках идти на огонь костра? Неведомо кем разожженный, он и манит, и пугает. Манит – потому, что разожжен человеческой рукой, таким же путником, застигнутым приближением ночи. Пугает, потому что во все времена странствующий человек не без опаски подходил к другому человеку. Но никакая опаска не может пересилить тягу человека к человеку, потребность общения – людям свойственно искать друг у друга защиты, прибежища, утешения. А тут, вдоль берега реки – не один костер, их десятки. Только раз в году в эту самую июльскую ночь разрешается здесь жечь костры: люди пришли издалека, им надо ночь скоротать… Переходишь от костра к костру и диву даешься: здесь точно не к отдыху располагаются, а к всенощному бдению. Ну, конечно, и молоток стучит по колышкам палатки, и чайник дребезжит на огне, но не слышно ни пустой болтовни, ни громкого смеха, ни того нестройного пения, которое скорее разъединяет, чем соединяет людей. Что-то истовое, благостное чудится в этих путниках – с первых же слов, с неспешного ответа на вопрос: «куда путь держим?».
– Известно куда… К Шукшину.
Это надо слышать! Будто к целителю какому! Даром что и на свете-то его давно нет – уж какой год все идут да идут. Манит и тянет к себе родина Шукшина. Едут со всех концов страны, а ведь не ближний свет это самое село Сростки Алтайского края. Самолетом надо лететь до Барнаула, поездом ехать до Бийска, можно плыть по Оби до ее слияния с Катунью и во всех случаях непременно ехать потом по Чуйскому тракту – в сторону Горного Алтая. «Ах, и прекрасно же ехать! – писал Шукшин. – И прекрасна моя родина – Алтай; как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, годы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота». Так оно и есть, но горы эти еще не назовешь горами – скорее холмами: эти зеленые холмы как бы отгораживают обжитые долины от всего остального мира; отсюда один путь – большаком, проезжей дорогой, которая проходя через село, становится главной улицей. Иное село тянется на несколько километров между большаком и холмами-взгорьями. Очень похоже на предгорья северного Кавказа – вся разница в почве, оттого, наверное, и краски на Алтае ярче: земля чернее, трава зеленее, здесь, на тучных черноземах издревле занимались землепашеством.
Село Сростки основано в 1804 году, ему более двухсот лет. Благодаря Шукшину история села увековечена теперь в местном музее. И прекрасно, что судьба писателя неразрывно связана в стенах этого музея с судьбой самих Сросток. Сколько народу вышло из одной только этой бревенчатой, ставшей музеем, школы – воевали, строили, плавали по морям-океанам. А их отцы? Сколько их сгинуло на той же войне, в ссылке, да просто где-то на Чуйском тракте. А деды, прадеды? Это о них писал потом Шукшин: «До чего упорный был народ! Ну, вот она земля, останавливайся, руби избу, паши. Нет, шли дальше и дальше, пока в океан не уперлись, тогда остановились. А ведь это не кубанские степи и не Крым, это Сибирь-матушка, она „шуток не понимает…“». Обо всех них вспомнили теперь – и опять-таки, спасибо Шукшину.
Есть в музее стенд, посвященный фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны – выставлены их письма. В одном из них – стихи чудом сохранившиеся, не канувшие в лету:
Направо от меня Катунь,
Гора налево, а за нею
Родные Сростки в синей мгле
Своими кровлями белеют…
Такими с детства видел свои родные Сростки и Шукшин; ему выпала честь говорить от имени этого солдата, от всех, кто ушел и не вернулся назад, никогда больше не постоял на берегу Катуни, не поднялся на гору Пикет.
Гора Пикет, а по местному Бикет высится над Сростками и манит к себе. Нет, наверное, в этих местах такого мальчишки, который, почувствовав силу в ногах, не полез бы «в гору», одержимый желанием узнать – а что там за ней? Невелика гора – а все-таки гора, кажется, рукой подать до верхушки, а на самом деле полдня уходит на такое путешествие, особенно, если по дороге попадется облепиха или смородина, спугнешь ежа или наткнешься на сброшенную змеей кожу. Лезешь, лезешь, пока не достигнешь самой горбушки, где земля «закругляется» и простор такой же как в степи – нет ему конца-края; только вдруг тропа выводит на самый край высоченного обрыва, и с него открывается такой простор, что дух захватывает: «всю Россию видно», – как говорил Шукшин. Конечно, когда живешь в таком удивительном месте и видишь этакую красоту с детства, глаз становится зорче, а душа – светлее. Но далеко не каждому суждено пробудиться к жизни художником.
Есть у Шукшина маленькая повесть «Из детских лет Ивана Попова». В ней рисует он свое детство и отрочество, начиная с последнего предвоенного месяца. Каждая новая глава этой повести – новый год в жизни подростка. Четыре главы – четыре года. Ивану Попову приписал Шукшин свои черты, свою любовь к деревенскому раздолью, к степи, к реке с ее заросшими малиной, ежевикой, облепихой островами, где так хорошо сидеть с удочкой, с зелеными берегами, по которым столько хожено «бечевой»; приписал то изумление, в которое повергли его городской белый хлеб, электрическая лампочка, модель самолета, а потом и сам самолет, который стоит себе на ровном, открытом месте – хоть бы наглядеться на него! Приписал и свою любовь к чтению – сначала стихийную – а ведь читать научился еще до школы и читал все, что попадет под руку – а потом осмысленную, серьезную, открывавшую ему неведомый мир – точно большую жизнь прожил и всего навидался вдосталь. Приписал и свои трудодни – в тринадцать лет он был уже работником в колхозе – поливал табак на плантации, без конца гоняя туда-сюда упрямого и злого быка, ездил «гусевым» на конной жнейке, иначе говоря верховым, направляющим тягловых коней – и, стало быть, машину точно по жнивью. Город Б., описанный в повести – это несомненно старый деревянный Бийск, Ч-ский тракт – знаменитый Чуйский тракт, а река, с которой прощается Иван, не доезжая города – быстрая Катунь. Взял в повесть Шукшин и неродного папку – своего отчима, маму, сестренку – она выведена под своим настоящим уменьшительным именем Таля. Упомянул он и деда, и друзей-товарищей, одного из которых зовут Васька-безотцовщина (так звали самого Шукшина). Ни в одном из своих художественных произведений не говорил он о себе с такой прямотой – разве что в поздней горестной «Кляузе», но это скорее документальный очерк.
Биографы Шукшина очень поздно обратились к его ранней повести – слишком уж общими, наверное, казались им страницы из жизни Ивана Попова: ну кто из смышленых деревенских ребят не блаженствовал с удочкой, не ходил в ночное, не зачитывался Пушкиным и Гоголем – у всех вроде бы одно. Однако же, если вчитаться, есть в Иване Попове нечто такое, что отличает его среди множества ребят – он наделен драгоценным даром образного видения. «Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху их жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки… Наверное, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленьких кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер – зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами». Так видит Иван Попов, так видел и юный Шукшин, не умея еще облечь видимое в стройные связные слова, но, чувствуя, что слова эти есть – и надо найти, связать их, чтобы запечатлеть изменчивое, ускользающее чудо жизни. Это не значит, что деревенский парнишка хотел быть писателем – он и сам долго не отдавал себе отчета в своей зоркости и наблюдательности – этот хрупкий дар надо было сберечь до возмужания, пронести через детские и отроческие бедовые годы.
Нелегко начиналась жизнь Василия Шукшина. Он родился 25 июля 1929 года. «Васю я в баньке рожала, – вспоминала мать, Мария Сергеевна Шукшина. – Своего дома у нас с Макаром не было, жили по углам у чужих людей. А рожать я в баньку попросилась». То был год Великого перелома – начала сплошной коллективизации крестьянства. Нелегко шел этот процесс. С одной стороны, Россия всегда была общинной страной. С другой стороны, обобществление частной собственности в деревне принимало глобальные и подчас уродливые формы. Это вызывало протест у крестьянина – не каждому хотелось вот так, за здорово живешь, расстаться со своим налаженным хозяйством. О преимуществах больших коллективных хозяйств с машинной обработкой земель только слухи ходили – зато бестолковщина и перегибы были налицо. Макар Шукшин, совсем еще мальчишка, двадцать с небольшим лет, сгоряча сказанул что-то крамольное – его арестовали и увезли в район, в «каталажку»: «Хотел, сволочь такая, восстание подымать». Так Вася остался без отца.
«Еще многих „взяли“ из деревни, – вспоминал много лет спустя Василий Макарович. – Больше мы их никогда не видели. Все они в 1957 году полностью реабилитированы „за отсутствием состава преступления“.
Остались мы с мамой: мне три с лишним года, Наташке, сестре, – семь месяцев. Маме – двадцать два.
Нас хотели выгнать из избы. Пришли двое: – Вытряхивайтесь.
Мы были молоды и не поняли серьезность момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мама наотрез отказалась „вытряхиваться“. Мы с Наташкой промолчали. Один вынул из кармана наган и опять сказал, чтобы мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала: „Иди, иди. Как дам безменом по башке, куда твой наган девается“. И не пустила – ушли. А мама потом говорила: „Я знала, что он не станет стрелять. Что он, дурак, что ли?“»[9]9
Архив В. М. Шукшина.
[Закрыть].
Отца Вася не запомнил – его место поначалу занял дед. Мама, Мария Сергеевна Шукшина вспоминала, что дед особо выделял Васю среди другой ребятни и наказывал ей «беречь этого парнишку, беречь и учить – парнишка смышленый». Вася отвечал деду той самой привязанностью, которая по сути своей и есть сыновнее чувство, но «прибиться к деду» так и не успел – в осиротевшую семью вошел новый человек с чужой, но созвучной и потому особенно раздражавшей Васю фамилией – Куксин, Павел Николаевич Куксин, отчим. Он усыновил детей, но за Васей таки осталось прозвище «безотцовщина» и фамилия по матери: Попов. С отчимом Вася сошелся не сразу, и только потом понял, какой это был золотой человек. Взяв «за себя» «соломенную вдову» с двумя детьми, он твердой рукой повел дом и, конечно, поднял бы ребят, поставил их на ноги, если бы не война – в 1942 году он погиб на фронте. В повести «Из детских лет Ивана Попова» Шукшин оставил его портрет: «Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами…». Так семья осиротела во второй раз.
С тех пор, как Шукшин начал связно помнить свою жизнь, сам обозначил этот возраст: двенадцать лет – он работал. В деревне на двенадцатилетнего подростка уже не смотрят как на ребенка – начинают приучать к хозяйству, к труду и все чаще требовать как со взрослого. Война умножила эти требования, заставила повзрослеть в считанные месяцы. Ребята работают с раннего утра до захода солнца. Лето 1942 года. «Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться от жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает… Жара жарой, но еще смертельно хочется спать, встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб… Сашка орет: – Ванька, огрею! Бичина у него длинный – может достать. Я потихоньку матерюсь и выравниваю коня…». Это тоже – «Из детских лет Ивана Попова». Но и в пекле поденной работы мальчишка не теряет своего дара образного видения. «Оглушительно, с лязгом звонко стрекочет машина, машет до бела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль». Очень скрашивает жизнь этот самый дар.
Зимой – тяжелее. Плохо с едой, нечем топить, не хватает сена корове. Потом Шукшин напишет рассказ «Далекие зимние вечера», в котором дети затевают игру, чтобы не думать о еде, и все ждут, что придет мать и принесет им поесть; и она приносит – кусок мяса и немного муки. И каково же детское разочарование: это нельзя съесть сразу: надо еще ждать – пока мама замесит тесто, пока разделает мясо, пока закипит вода и сварятся пельмени. А сон одолевает детей, нет сил с ним бороться, и мать будит, будит их, чтобы они поели хоть бы и на ночь, не заснули голодными.
В «Калине красной» Егор Прокудин вспоминает, как они с матерью ходили рубить молодые березки и потом тащили их домой – мать выбирала себе побольше, а ему – поменьше. Березняк около села рубить запрещалось, но все равно ходили – нечем было топить. Шукшин рассказывал, как сельский активист, рыжебородый Яша Горячий приходил к ним с обыском, грозил пальцем, потом лез на полати и сбрасывал оттуда березовые чурбаки. Вспоминал и то, как весной выпускали корову Райку пособирать клочья сена, вытаявшего из под снега по обочинам дорог и по плетням – и очень боялись, чтобы не нарвалась она на чьи-то вилы – такой в селе случай был, о нем тоже вспоминал Егор Прокудин: с этого и началось его падение – появилась уверенность во всемогуществе и безнаказанности зла.
Не было в жизни Егора Прокудина председателя колхоза Ивана Алексеевича, который жил вместе с ребятами на пашне, бегал иной раз за кем-то из огольцов на деревянной ноге, грозя плетью тем, кто самовольно бегал в деревню или спал на пашне, или ломал инвентарь, но при том был добродушный человек большого терпенья и совестливости. Не было учительницы, эвакуированной из Ленинграда, которая составила бы для него список, чтобы брал он по нему в библиотеке книги Пушкина, Гоголя, Некрасова, Тургенева, научила читать – не так, как читал раньше, без разбору, глотая всякий печатный текст. У Василия Шукшина все это в жизни было. Сколько их, таких вот добрых наставников, встретил он на своем пути – сам потом говорил: «Мне везло на умных и добрых людей». И постепенно укреплялся он в понимании добра как жизнедвижущей силы, укреплялся в понимании человеческого достоинства как непременного долга перед самим собой и всеми людьми.
В четырнадцать лет – какой кругозор у деревенского мальчишки: вроде бы не дальше околицы. Но Вася столько уже почерпнул из книг, что собственный опыт уже не казался ему малым – он умножался на опыт интереснейших людей, с которыми знакомили книги. Очень хотелось посмотреть мир – и при том никому не быть в тягость – напротив, помочь семье, помочь обществу. Выучиться! Вот она – определившаяся цель. Выучиться на шофера – тогда тебе все дороги открыты. Но на курсы после семилетки не принимают – года не вышли; а вот в автомобильном техникуме очередной набор, туда охотно берут подростков: до армии они успеют получить специальность. Три с половиной года – и ты техник по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Такая специальность и в армии пригодится. Все говорят, война скоро кончится, и начнется совсем хорошая жизнь, о которой поется в песнях. Так или примерно так думали ребята, подавая заявления в техникум.
«Техникум (в городе, точнее за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре), – читаем в повести „Из детских лет Ивана Попова“ – Это мой второй приезд в город. Душа потихоньку болит – тревожно, охота домой. Однако, надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду приезжать потом, но так, отдышаться…».
Смутно на душе, а тут еще пристают городские. «Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.
– Чяго там, Ваня? Сальса шматок для мядку туясок?
– Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!
– Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!..
Откуда она бралась эта злость – такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Они что, не знали, что в деревне голодно? У них тут карточки какие-то, о них думают, там – ничего, как хочешь, так и выживай. Мы молчим, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни „мядку“, ни „сальса“, обжигал руку – так бы и пустил его вниз, с горы».
Стоит сказать здесь о том, что антагонизм между городом и деревней, начиная с конца 20-х годов, насаждался как бы снизу, но при активном содействии «верхов», осмысленно и целенаправленно. Те, кто постарше, наверное, помнят презрительное: «дяревня», не сходившее с языка у городских подростков уже после войны – это было жгучее оскорбление. Кому надо было постараться вбить клин между городом и деревней – видимо тем, кто стремился отделить нацию от ее корней, отвести сельским жителям незавидную роль «быдла». Молодой деревенской поросли, выходцам из села, хлынувшим после войны на заводы, фабрики, в институты, как бы предлагалось поскорее забыть о своем происхождении и безропотно врасти в город. Деревенского происхождения многие стыдились. Так вырастали целые поколения «иванов, не помнящих родства».
Не таков был Шукшин, чтобы забыть, кто он есть и откуда родом. Но жестокая рана, нанесенная разрушителями народа как единого целого, болела всю жизнь. И всю жизнь его обзывали «деревенщиком» (чуть ли ни деревенщиной) – обижаться не полагалось: ведь «деревенщик» был официальный термин, придуманный этими разрушителями и введенный в литературоведение. (Попробуйте-ка сказать – деревенщик Толстой, деревенщик Тургенев – и поймите абсурдность этого термина).
В детстве, конечно, проще было защищать свое достоинство. «В четырнадцать лет, – пишет Шукшин, – презрение очень больно и ясно осознаешь, и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку – она порождает непреодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш-парень, посадистый и хлесткий, закатил в лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож… Тот, кто стоял против него – тоже с ножом – очень удивился. И это-то, что он только удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы защищались. Иногда – вот так – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной».
Вот она, наука ненависти в действии. За ней ли шел подросток в город? Злое и доброе схлестнулись – к чему окажется восприимчивей душа? А душа-то просит света, рвется к знанию, томится в ожидании чуда. В шестнадцать лет Шукшин сочиняет свои первые рассказы и посылает их в журнал «Затейник». Боясь, что задразнят ребята, обратный адрес дает: село Сростки, Шукшину Вас. Мак. Приезжая домой, тут же спрашивает у матери, нет ли ему писем. И очень огорчается, что ему не пишут. А письма, оказывается, идут. Их регулярно получает колхозный водовоз Шукшин Василий Максимович и ввиду полной неграмотности пускает на самокрутки – бумага-то в большом дефиците.
Шукшину не удалось окончить техникум. «Если бы еще на сытый желудок – может, дело пошло бы веселей, – с горькой усмешкой вспоминал он потом. – А то сидишь – голова кружится… И решил я – как потом написал в автобиографии – совместить дальнейшее образование с работой». Он оставил учебу, некоторое время работал в колхозе, а потом поступил в распоряжение треста «Союзпроммеханизация» – в Московскую контору, которая после войны набирала рабочих по всей стране. Думалось – будет жить и работать в Москве – Москву очень хотелось увидеть. А направление получил на Турбинный завод в Калугу – там и работал слесарем-такелажником; потом та же контора перевела его во Владимир. Москва была и близко, и далеко – за один воскресный день туда и обратно не обернешься. Но – оборачивался, выезжал вечера, остаток ночи досыпал на вокзале – и чуть свет выходил в город. Шел к Пушкину, к Гоголю, к корешам, с которыми знакомился в прошлый приезд где придется.
«Нас улица шумом встречала, звенела бульваров листва… Вступая под своды вокзалов, шептали мы: здравствуй, Москва!..» – весь город пел тогда эту песню из нового кинофильма, который так и назывался «Здравствуй, Москва!». Шукшин смотрел этот фильм, похожий на сказку и думал: неужели сейчас кончится сеанс, распахнутся двери, и он выйдет в самую настоящую Москву, собственной персоной пройдется «по бульварам, проспектам, садам»? Если бы не Москва вокруг, фильм возможно и не произвел бы особенного впечатления – слишком уж причесанными, гладенькими были в нем ребята-ремесленники, все как на подбор таланты и артисты; правда была в фильме история старого мастера, как реликвию хранившего в память о друге красавец-аккордеон и его внучки, тайком отдавшей этот аккордеон «на прокат» пьянчужке-баянисту, чтобы подкормить больного деда – история, рассказанная с такими верными и живыми подробностями, что о ней впору было и пораздумать, возвращаясь ночью домой на перекладных.
Шукшин и не заметил, как кино стало занимать все больше места в его жизни: хотелось не просто смотреть фильмы, а говорить, думать о них. Однажды он даже попробовал изложить свои впечатления на бумаге, но оказалось это не так-то просто. Не то, что стихи – стихов у него была целая тетрадь, правда, все больше «с голоса» Есенина:
Зори, зори —
Красный сон,
Голубые ливенки,
Синий
С переливом
Звон…
Жизнь ты моя милая!
Лихо в поле,
Без дороги —
Ветрами освистано.
Нам – без горя,
Нам – без боли:
На роду написано.
Сыпь налево!
Сыпь направо!
Не давай опомниться.
Песня глупая твоя
В душу ломится.
Песня – люба,
То ли будет!
Задумали смело
…
Где-то спит моя судьба.
Дай, чтоб зазвенело!
В это время он очень много читал – в электричках, в автобусах, на скамейках в сквериках. Урывал минуту уединиться с книгой в обеденный перерыв. В общаге читать не давали мужики. По выходным ходил в библиотеку. Охотно брал толстые и тонкие журналы – в них особенно привлекали современные рассказы молодых писателей. Отмечал и запоминал хорошие. Но больше было слабеньких, написанных по одним и тем же назидательным схемам: новатор – консерватор, передовик – лодырь, храбрец – трус. Удивляла скудость воображения, бедность наблюдений. Мало что ли вокруг было любопытнейших людей? Что ни человек – то характер и, стало быть, сюжет. Ведь для того, чтобы выстроить этот самый сюжет – не обязательно ждать какого-то исключительного стечения обстоятельств: иной раз обыкновенная покупка ботинок становится сюжетом – вся штука в том, кто покупатель. Мало помалу определялся его основной интерес в кино и литературе – характеры! Да и сам он почувствовал потребность наблюдать людей в разных обстоятельствах, находить в них нечто особенное. У него открылся талант «видеть и слышать людей» – и этот талант тоже надо было сберечь как детский дар образного видения. В эту пору Шукшин всерьез «засобирался» писать. Но ведь собираться можно всю жизнь… Слишком уж трудна и неприкаянна была жизнь рабочего «на договоре»: сегодня – Калуга, завтра – Владимир, а там станция Щербинка. Весной 1949 года, чтобы быть поближе к Москве, Шукшин перешел на работу в системе ремонтно-восстановительных работ МПС СССР – поступил разнорабочим головного ремонтно-восстановительного поезда № 5. Строил электростанцию в Щербинке, потом железнодорожный мост в Голицыно. Отсюда осенью того же года был призван во флот.
Как ни странно это может показаться нынешним читателям, Шукшин ждал этого призыва, боялся очередной отсрочки. С армией связывалось у него представление о времени до отказа насыщенном, когда ни один час не проходит в пустую: в четком армейском распорядке есть место и для занятий, – настоящих, квалифицированных, – и для досуга, умного и содержательного. Так оно и было в то время – и никакой «дедовщины», знать не знали этого слова. В армии человек не пропадет – кто-то о нем подумает, позаботится, так думал двадцатилетний работяга, остро чувствовавший свою неприкаянность «на гражданке», все зависело вроде бы от собственной инициативы, силы воли, а на поверку выходило, что в действительности все определяют обстоятельства и твоя воля тут бессильна. Ну, скажем, отсутствие сменной школы при работе по скользящему графику становилось непреодолимым препятствием к получению аттестата зрелости, а без него и думать нечего о будущем. Потому-то дважды он готов был связать свою судьбу с армией. В 1948 году Владимирский горвоенкомат направил его в авиационное училище Тамбовской области. По дороге он потерял документы – много их было, разных справок – и не посмел явиться в училище; во Владимир тоже не вернулся – там в военкомате были хорошие люди, стыдно было перед ними, что «свалял такого дурака». И еще раз, через год, уже из Подмосковья посылали его в военное училище, в Рязанское автомобильное – провалился на экзамене по математике. Можно было попросить пересдать – некоторым разрешали, но просить он не пошел, такой уж характер.
Этот характер кто-то из «корешей» определил как «тяжелый». И сам Шукшин знал про себя: не легкий он человек. Но вот что удивительно: с «тяжелым» характером удивительным образом сочетался неизменный подъем духа: душа его могла легко возликовать и взлететь. Он и сам иной раз удивлялся, каким образом «угрюмство» соединяется в нем с потаенным восторгом бытия. Об этом самом восторге он писал, размышляя о своем фильме «Странные люди»: «Я хотел сказать в фильме, что душа человеческая мечется и тоскует, если обнаруживает, что живет в нас какой-нибудь поджелудочной железой – не возликовала никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас на подвиг… Она плачет и не хочет умирать с нами, если и не жила никогда полной жизнью, не любила много»[10]10
Автограф В. М. Шукшина. Архив Л. Д. Ягунковой.
[Закрыть].
По собственным его словам, душевное его состояние в двадцать лет было таково: как бы ни складывались обстоятельства – во всем хотелось видеть если не удачу, то обещание удачи. Во флот? Хорошо! И пусть служба во флоте дольше – зато он увидит море! Во флоте ребята как на подбор – сильные, грамотные, с ними интересней. В Ленинград? Опять хорошо! Когда бы он еще увидел Ленинград – а тут, пожалуйста. Правда, из Ленинграда его скоро перевели в Ораниенбаум, но в этом были свои преимущества: настоящая Балтика! Ну, а разве не удача, что он вместе со специальностью радиста особого назначения он получает перевод в Севастополь. Черное море! Оно и во сне ему не снилось. И, конечно, если бы не это молодое, интуитивное предощущение удачи и даже не удачи, а, более того, праздника, который готовит ему жизнь – а он это ощущение он подогревал, чтобы не остыло – куда труднее показалась бы служба. И потом, после демобилизации – досрочной, по болезни (неожиданно открылась язва) – куда труднее пришлось бы на «гражданке». Опять повезло, говорил он себе, демобилизовали к весне, можно успеть подготовиться и сдать экстерном на аттестат зрелости; можно даже попробовать тем же летом поступить в институт.
Экзамены он сдавал дома, в Сростках. Все сдал кроме математики. Пришлось летом готовиться, чтобы пересдать осенью. Но поступление в институт снова откладывалось на год. Шукшин остался в Сростках работать учителем вечерней школы рабочей молодежи – не хватало здесь педагогов, хоть закрывай школу. Преподавал русский язык, литературу, историю в 5-х – 7-х классах. Учил других и сам учился. По делам школьным часто бывал в городе; приглашали его заходить почаще и в райком комсомола, давали разные поручения – здесь его отличали, видели в нем будущего инструктора, а то и секретаря. В мае 1954 года его приняли в кандидаты партии. Судьбу его «наверху», похоже, уже определили: в райкоме комсомола нужен такой человек – молодой, повидавший жизнь, не понаслышке знающий деревню, готовый совмещать работу с учебой.
Но Шукшин твердо знал – он уедет в Москву. Там будет учиться, чтобы стать писателем. Он понимал: человека нельзя научить писать, но он сам может этому научиться, обладая способностями, знаниями и широтой кругозора. А без серьезной подготовки не будет ни знаний, ни кругозора – тогда и способности мало-помалу иссякнут. Разумеется, в Сростках о его далеко идущих планах никто не знает – для всех он будущий историк, собирается поступать в историко-архивный институт. Одна только мама, Мария Сергеевна, видя, как «дитенок» просиживает ночи над тетрадками, понимает: он не только у других проверяет уроки – он и себе задал какой-то трудный урок.
Шукшин мечтает о Литературном институте, но боится: не примут – за душой ни одной публикации. Есть еще один вариант – сценарный факультет Института кинематографии. Этот самый ВГИК давно уже занимает его воображение. И вот с каких пор. Однажды, в одни из своих приездов не то из Калуги, не то из Владимира в Москву, Шукшин собирался заночевать на лавочке – против высотного дома на Котельнической набережной. Впрочем, может быть, он уже переночевал, и было раннее утро. Потому что эту историю разные люди рассказывали по-разному, а сам Шукшин о ней как-то умалчивал. Так вот, присел рядом на лавочку немолодой человек – то ли он поздно шел домой и решил тут покурить, то ли вышел из дому подышать утренним воздухом. И вышло, что они с Шукшиным разговорились, и оказалось, что оба они сибиряки. И такой у них пошел хороший разговор, что продолжали они его уже в доме на каком-то высоком этаже. Звали нового знакомца Иван Александрович, и, судя по роскошной квартире, занимал он большое положение. Сели на кухне, выпили, закусили. Но только когда появилась недовольная хозяйка, Шукшин понял, с кем свела его судьба: он узнал знаменитую киноартистку Марину Ладынину. Стало быть, выпивали они на пару с таким же знаменитым кинорежиссером Иваном Пырьевым[11]11
Если всерьез принимать эту историю, видимо, ближе всего к истине «невыигрышная» версия педагога кафедры режиссуры ВГИК А. У. Стабилини: «Слышал от самого Шукшина. Приехав в Москву, загулялся, опоздал на поезд, задумался о ночлеге. Сидел на мосту через реку, мерз в своей форменке № 1. Подсел какой-то человек, сказал: „Я – кинорежиссер“. Разговорились. Повел в дом на Полянке. Зашли с черного хода. Сидели на ступеньках 3-го этажа».
[Закрыть]. Не тогда ли впервые услышал Шукшин о том, что в Москве есть институт, где учат будущих актеров, режиссеров, операторов, сценаристов. Не тогда ли уразумел, что актеры играют не просто договорившись между собой, а по определенному плану, называемому «сценарий» – и руководит ими режиссер. Впрочем, может быть, обо всем этом Шукшин узнал гораздо раньше и совсем по-другому. Но факт, что Институт кинематографии был у него под прицелом.
В июне 1954 года он пишет письмо в приемную комиссию ВГИК, рассказывает о себе, просит прислать программу испытаний сценарного факультета, спрашивает, есть ли у него шансы поступить. Ему посылают вызов на экзамены. Так начинается его большой путь, и прекрасно, что на этом пути ему сразу же встретились неравнодушные люди, преданные своему делу и, в силу своего опыта, умеющие разглядеть – кто есть кто.
Кому пришла в голову идея предложить этому парню из глубинки поступать не на сценарный, а на самый престижный режиссерский факультет? Сейчас уже не скажешь. Наверняка, это был один из ассистентов набиравшего курс Михаила Ильича Ромма – строгих правил человек, озабоченный тем, чтобы среди зеленой молодежи и творческой вольницы, рвавшейся в кинорежиссуру, побольше было людей с жизненным опытом. Общая гуманитарная подготовка у Шукшина была не хуже, чем у других – сказался год учительства в школе. Правда потом, много лет спустя, Шукшин в порыве самоуничижения напишет, что «заметно выбивался среди окружающих дремучестью своей и неотесанностью». Какая там неотесанность! Это был серьезный взрослый человек, прошедший большую жизненную школу, коммунист – что по тем временам служило высочайшей маркой. Неужели и вправду ему пришлось разыгрывать перед ответственейшей отборочной комиссией дремучего недоучку, которого можно хотя бы в шутку спросить: знает ли он, кто такой Белинский и где тот сейчас живет? И надо же, именно Виссарионом Григорьевичем испытывать интеллект Шукшина, самым любимым его критиком, о котором он писал: «Читайте, братцы, Белинского. Читайте хоть тайно, ночами. Днем высказывайте его мысли как свои, а ночами читайте его. Из него бы евангелие сделать». Правда, это было написано уже в 1970 году, но и, поступая во ВГИК, Шукшин думал так же и на за что бы не стал придуриваться, играть в какую-то дурацкую игру со взрослым дядей, который «провоцирует» в Шукшине этакого «сермяка». Не стал бы – из любви и уважения к Белинскому. Так откуда же эта легенда о «сермяке», который явился на отборочную комиссию «во всем солдатском»? От уважаемого критика Льва Аннинского. А у того – откуда? Из газеты «Советское кино», широко известной в узких кругах под названием: «копейка». Хотелось бы оставить эту публикацию от 11 октября 1969 года на совести журналиста, но ведь Шукшин-то подписал ее! Не заигрался ли он в этот нелегкий для себя период в «поддавки» с литературными и кинематографическими «бонзами», от которых в немалой степени зависела его дальнейшая творческая судьба: они-то видели в нем этого самого «сермяка» и в таком качестве соглашались его принимать и «воспитывать».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































