Текст книги "Василий Шукшин. Земной праведник"
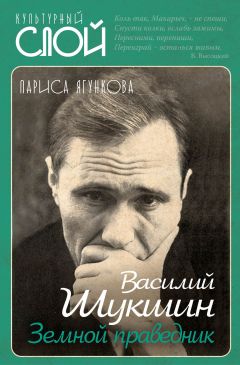
Автор книги: Лариса Ягункова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Шукшин – один из тех режиссеров, которые придают огромное значение овладению натурой. Выезд на натуру для него – непременное рабочее условие.
– Что такое натура? – говорит Шукшин. – Нужна ли она фильму, ну, скажем, такому, как «Печки-лавочки»? стоит ли из-за каких-нибудь трехсот метров пленки предпринимать марш-бросок за тысячи верст от Москвы? В группе всегда найдутся «пессимисты», для которых это – лишние хлопоты, сплошные неудобства. В группе найдутся и «оптимисты», которые смотрят на экспедицию, как на увеселительную прогулку, познавательную экскурсию. А между тем выезд «на натуру», на место событий – это труднейший экзамен и для режиссера, и для сценариста, и для художника, и для актеров – для всех и каждого. Тут все написанное, все, что предстоит снять, проходит жестокую проверку. Натура – это пробный камень. Именно «на натуре» легче всего обнаруживается и фальшь, и вроде бы безобидные просчеты, которые потом могут начисто «убить» фильм. Но натура может не только «убить» фильм. Она может вдохнуть в него жизнь, дать всему замыслу новое освещение, новое истолкование. Причем, это толкование и будет наиболее кинематографичным – очевидно в силу выпуклой зримости самого объекта. Хорошо, когда натуру знаешь еще до того, как начнешь работу над сценарием. Когда я готовился к съемкам фильма «Ваш сын и брат», натура подсказала мне прием, объединивший три моих в разное время написанных рассказа и сделавший их органичными для экрана: Степан, Игнат и Максим стали родными братьями. Натура, которую мне захотелось снять, помогла организовать события. События, которые в свою очередь, помогли прояснить главную мысль. В результате выиграли и характеры героев: они стали крупнее – в смысле зримей. Это «укрупнение» просто необходимо экрану: ведь кинозритель, в отличие от читателя, должен «поспешать» за автором; у него нет возможности вернуться на страницу, другую назад, отойти в сторонку, обдумать. Словом, мне натура нужна не только как фон, но как прямое подспорье.
Шукшин верен себе: три его предыдущих фильма неотъемлемы от натуры – от тех самых алтайских деревень, где ему знакома каждая изба, каждый закоулок. Думается, картины Шукшина удались именно в той мере, в какой деревня вошла в них, как полноправное действующее лицо – со своим характером, своими особенностями, своей физиономией. И неслучайно новый свой фильм Шукшин начал тоже с деревни – это был необходимый запев.
Сценарий «Печки-лавочки» начинался описанием шумного деревенского застолья – проводов Ивана Расторгуева. Сцена эта была решена сугубо литературными средствами: ее пронизывал многословный обстоятельный разговор. Говорили о том, брать или не брать с собой Ивану двоих детишек, едва вышедших из младенческого возраста. На все увещевания жены, тещи, соседей – уж больно малы ребятишки! – Иван твердил свое: «Вырастут, будут в школе Черное море проходить и скажут: а мы знаем, нас папка возил…».
Отметим, что все характеристики тут – изустные. Короткая скупая ремарка ничего не прибавляет к изображению героев. По словам Шукшина, это произошло не случайно: слишком сильна была тяга к чисто литературным образам, пока он работал за письменным столом.
Вот, к примеру, одна из любопытных фигур – деревенский «мудрец» Лев Казимирыч. Мудрость его давно стала на селе, что называется, «притчей во языцех». С жаром говорят о нем за столом, пока сам он не появляется, чтобы окончательно укрепить нас в представлении о человеке умном, добром, бывалом. Это горожанин, волею судеб осевший в деревне. В немногих строках, буквально в трех-четырех репликах Шукшин может обрисовать сущность такого человека, но образность этих строк останется чисто литературной, если не связать словесные и пластические образы. Когда Шукшин переводил на язык экрана один из своих рассказов «Думы», в центре которого стоит образ старого Матвея Рязанцева, он постарался объединить размышление с действием. Председатель колхоза Матвей Рязанцев, размышлявший долгими бессонными ночами о прожитой жизни, не то, чтобы избавился в фильме от своей бессонницы. Но эта бессонница как-то перестала занимать автора, сосредоточившегося на повседневной жизни своего героя. Медлительные ночные думы стали дневными, стремительными, вызванными не призрачными воспоминаниями, а живыми реальными событиями. Образ героя из литературного стал экранным – пожалуй, единственной безоговорочной удачей фильма «Странные люди».
Мог бы Шукшин вот так же перевести на экран своего Льва Казимирыча? Наверное, мог. Но ведь Лев Казимирыч был отнюдь не центральной, а вспомогательной фигурой, призванной объяснить нечто в характере Ивана. Между тем этого старика, человека сложной судьбы, самого нужно было «объяснять» зрителю. Как ни дорог был Шукшину его «Казимирыч», но на съемке он как-то незаметно отступил на второй план. Рядом с Иваном появились другие персонажи. Едва намеченные, а то и вовсе неупомянутые в сценарии, они потребовали для себя «жизненного пространства» на площадке. И произошло это не потому, что режиссер потерял «контроль» над своими героями, а потому, что сама «натура» подсказала ему новую композицию, новое – куда более зримое – выражение тех мыслей, которые с таким трудом переводились из литературного в кинематографический план, пока шла кабинетная работа. Новые персонажи (некоторых Шукшин и его ассистенты привели на съемку прямо с улицы, но в большинстве это были молодые актеры), не нуждались ни в каких авторских комментариях, а напротив, сами одним своим присутствием комментировали все происходящее. Они были «насквозь узнаваемы», как говорил Шукшин, «принимались на веру» – и бородатый старик, из тех двужильных стариков, которые доживают жизнь, но еще крепки телом и свежи головой, и не по годам серьезный подросток с транзистором, и соперничающие между собой деревенские «артистки»: одна – черт в юбке – плясунья, другая – лебедь белая – запевала, и среди них – этакая марсианка – приезжая городская гостья, точно сошедшая с обложки модного журнала.
По словам Шукшина, первый шаг к выявлению кинематографической образности сценария для него заключается в «выборе лиц». Дело не только в степени актерского таланта перевоплощения, но и в степени индивидуальной выразительности. Как в иероглифе заключается порой целая фраза, так в актерской маске, характерных особенностях примеряемой личности должна заключаться вся сущность героя, вся его подноготная. Зримый облик героя есть великолепный кинематографический образ – образ огромной обобщающей силы. Заметим, Шукшин-писатель скупо описывает внешность своих героев. Для полноты впечатления он упоминает одну, много – две детали – в литературном письме этого вполне достаточно. И в оригинальном своем сценарии, обладающем всеми характерными приметами его литературного письма, он предпочел обходить внешность своих героев молчанием; разве, что несколько упомянет о какой-нибудь особенно милой ему подробности, например, о том, что у Нюры была очень славная улыбка, так, что хотелось ее все время смешить. Но несмотря на скупость в описании внешний примет, Шукшин всех своих персонажей знал в лицо. И потому так уверенно и быстро складывал свою человеческую мозаику. Вместо характеристик изустных, уместных в прозе, тут возникли характеристики изобразительные – великолепно снятые портреты, точно подсмотренные жанровые сценки. Короткая на письме фраза: «ближе к вечеру собралась родня: провожали Ивана Расторгуева в путь-дорогу» превратилась на съемке в развернутую сцену со многими ощутимыми сюжетными линиями. Любая из этих линий могла дать начало будущему фильму; в длинной череде лиц мы не сразу угадывали теперь главного героя, но, угадав, уже не могли отвести от него глаз.
Надо сказать, Шукшин-актер обладает качеством, которое с подачи К. С. Станиславского называется «манкость»: такой актер приманивает взгляд, концентрирует на себе зрительское внимание – это его актерская природа. Так и Шукшин. Рамка экрана выгодно подчеркивает его достоинства – пластичность фигуры и нервную лепку вроде бы простого, но в высшей степени напряженного и осмысленного лица. Шукшинская фотогения поразительна; в жизни он совсем не так «манок». А на экране очень притягателен.
Думается, впервые решив сыграть в своей картине главную роль, Шукшин предположил, что сама его фактура подчеркнет достоверность своего героя, облегчит зрителю, которому предстоит еще разобраться в отнюдь не простом образном мире картины, сам процесс узнавания. Действительно, кого бы ни играл Шукшин, он всегда отображал человека реального, легко узнаваемого, как бы подсмотренного в самой жизни. Обладая умением стремительно заявлять своего героя, необычайно много говоря о нем за одну-две минуты экранного существования, он сразу приковывает к себе внимание и потом уже начинает развязывать, как говорил его учитель Михаил Ромм, узелки размышлений.
И пускай очень существенный в сценарии, так много говорящий нам о характере героя спор – брать или не брать на море ребятишек – оказался исчерпанным еще до того, как открылось нам шумное деревенское застолье – мы и без того хорошо разглядели Ивана Расторгуева, угадали в нем человека вспыльчивого, но отходчивого, дерзкого, но чувствительного, упрямого, но в общем покладистого; а еще – мнительного, неравнодушного к молве быть может более, чем это пристало крепкому хозяину и доброму семьянину. Все эти качества приоткрылись нам уже не в диалоге – диалог растворился в общей многоголосице – а в самом поведении, самих повадках Ивана. Мы начали понимать сущность его натуры, глядя, как он, обиженный неосторожным упреком жены (это на людях-то!), потихоньку переживает в уголке свою обиду и в то же время упивается шумом застолья, без которого ему праздник – не праздник, радость – не радость. И одна из немногих брошенных им фраз: «Хорошо гуляем» стоила целой речи, произносимой им в сценарии. Центральный образ был заявлен броско и решительно. Натура помогла режиссеру создать вокруг героя антураж, как бы указующий на его характер. Но это была только заявка. Теперь предстояло самое трудное – показать развитие этого характера. События уводили режиссера далеко от родного Алтая. Фильм вовсе не принадлежал к числу «натурных»; две трети метража занимал павильон купе вагона. Группа вернулась в Москву.
Шукшин не любит павильона, стремится уйти из него на улицу, в лес, в деревенскую избу. А тут изволь осваивать неудобную, в высшей степени условную декорацию. Вагон, который никуда не едет – что может быть условнее! Купе в таком вагоне в два раза просторнее, чем оно бывает на самом деле – иначе оператору и актерам не развернуться. Потому-то режиссеру и нельзя снимать в настоящем вагоне: хочешь – не хочешь, а работай на студии. Павильонный «вагон» в разрезе – сооружение весьма нелепое, неуклюжее. На пленке этого не будет заметно: рир создаст иллюзию движения, оптика «сократит» купе до обычных размеров. Но чтобы экран не обнаружил подделки, надо организовать кадр, организовать действие. Организовать так, чтобы зрителя не утомило однообразие обстановки, чтобы герои не заслонили друг друга. Нет ничего легче, чем стушеваться, «потерять героя» в такой декорации: как ни расширяй тесные рамки купе, а все равно актер скован, на него давят стены. Не много найдется режиссеров, которые решатся поставить своих исполнителей в такие «кабальные» условия. Пейзаж за окнами ничем не примечательный, люди самые обычные. К тому же фильм снимается черно-белую пленку. И в то же время, необходимо выявить разнообразие лиц, характеров, поступков. Иван, профессор, мнимый «конструктор» – сколь не похожи они друг на друга; вот уж поистине только дорога может свести таких людей. Как же выявить эти характеры в столь невыигрышной обстановке? Как остаться при этом верным самой специфике экрана? Разумеется, очень много зависит от профессионального умения оператора. И, надо сказать, оператор А. Заболоцкий (о нем речь впереди) проявил немало изобретательности, снимая картину. Но фильмы Шукшина отнюдь не принадлежат к числу тех фильмов, где изображение может заменить текст.
Кинематограф Шукшина – это разговорный кинематограф. Острому, колоритному диалогу отведено в нем огромное место. Ну, а в «Печках-лавочках» диалог несет главную смысловую нагрузку: знакомство всегда предполагает разговор, а фильме таких знакомств добрая дюжина. Соответственно, и диалог ни на минуту не иссякает, идет в ритме хорошего скорого поезда, кстати сказать, весьма удачно найденном. Помнится, прочитав сценарий, я отметила чисто кинематографическую, как мне казалось, динамику этого диалога и услышала от Шукшина задумчивое, сдержанное:
– Вообще-то диалог для кинематографиста – коварная штука. Даже употребляя приемы письма, подсказанные разговорной интонацией, драматург не выходит за пределы пусть облегченного, но все же сугубо литературного стиля письменной речи. А такая речь, не связанная со зрительным рядом, может пройти мимо зрителя, так сказать, скользнуть в одно ухо и в другое выскользнуть. Что бы «не пропасть всуе» слово быть либо связано с изображением, либо противопоставлено изображению, либо – и это особенно важное условие – доведено до той степени выразительности, когда оно становится образом. Слово – образ помогает точно обрисовать предмет, глубоко определить явление, как в литературе, так и на экране. Никакого открытия в этом нет. давно уже прошли те времена, когда подвергалось сомнению право на существование разговорного кинематографа. А между тем, как часто приходится встречаться в кино с недоверием к слову, непониманием его природы, неумением превращать слово в образ. Драматург может написать очень интересный диалог. Но все достоинства этого диалога на экране померкнут, если режиссер не найдет актеров, наделенных острым чувством слова. Актеров, способных превратить литературный диалог в кинематографический. А какая разница между литературным и кинематографическим диалогом? Наверное, та же, что между словом, написанным и словом изреченным: первое раскрывается до конца в контексте, в определенном ряду, а второе – если так можно выразиться – самостийно: оно само по себе значительно и само по себе весомо. Если актер не ощущает этой разницы, он всегда будет в плену у литературных представлений. Он всегда будет говорить «по-писанному», не по живому. А это может повредить даже очень талантливому исполнителю, даже очень выразительной роли. Когда кинематограф был немым – зримый облик актера сам по себе служил великолепным кинематографическим образом. Но в звуковом кинематографе одно неверно сказанное слово может разрушить образ…
Сам Шукшин – актер в полной мере обладающий чувством слова. Заметим, он всегда приходит на экран в одном и том же неизменном обличье. Современный костюм, минимальный грим. На фотографиях все его герои вроде бы похожи на Василия Шукшина и друг на друга. Но какое разнообразие человеческих типов и характеров создает он на экране. Это люди разных социальных категорий, разного жизненного опыта – рабочий и крестьянин, шофер и моряк, учитель и журналист, начальник строительства и председатель колхоза. Мастерство портретной характеристики, которым сполна владеет Шукшин, позволяет сразу же заявить образ. Но от внешней характерности он идет вглубь характера, делая ставку на звучащее слово. Это не значит, что он пренебрегает внешней выразительностью – Шукшин актер высокой пластической культуры, и мы увидим, как она дополняет и разнообразит его искусство. Но непреложного ощущения реальности, жизненности образа он добивается, работая над текстом.
У каждого из его героев своя речевая характеристика, своя манера говорить. Помните, сколько внутренней энергии, достоинства и целеустремленности было в самой речи героя, сыгранного незадолго до Ивана Расторгуева. Директор завода Черных говорил так же, как он мыслил – четко, строго и вместе с тем воодушевленно. Портрет его был бы немыслим без этой речевой характеристики, от эпизода к эпизоду все более разворачивающейся и усложняющей наше представление о герое. Точно так же и образ Ивана Расторгуева складывался из каких-то мельчайших подробностей, открытых не только глазу, но и слуху. Именно в контрапункте жеста и звучащего слова Шукшин находит все краски, необходимые для того, чтобы рельефно обрисовать своего героя. Что ни диалог – то новые оттенки, новые откровения.
Первый попутчик – некий нагловатый горожанин, привыкший сверху вниз посматривать на «деревенских», не принял добросердечного уважительного тона, взятого Иваном, позволил себе поиздеваться над «деревенщиной» и мы тут же открыли в покладистом, смирном Иване бузотера и забияку, готового рубить с плеча. Появился в купе милиционер – и оказалось: «трусоват был Ваня бедный». А новый попутчик, вроде бы неглупый, добрый малый, позволил нам вдруг обнаружить в Иване резонера, героя деревенских сходок. За резонерством открылась в нем вдруг какая-то потаенная удаль, этакий молодецкий размах – эх, однова живем! – а за этим размахом – тихая устоявшаяся «тоска жизни»: вроде бы все хорошо, ан – нет, чего-то не хватает, чего-то душа просит… Весь секрет выразительности здесь даже не в смысле произносимых слов, а в их интонации, их эмоциональной окраске.
Думается, решив сыграть в своей картине главную роль, Шукшин сразу же задал определенный тон в выборе ведущих исполнителей. Он взял в фильм актеров, близких ему самому по складу дарования: В. Санаева на роль профессора, Г. Буркова на роль вора, Л. Федосееву на роль Нюры. Именно такие исполнители, бережные и внимательные к слову, умеющие как-то незаметно, исподволь усложнить первоначальное однозначное представление о персонаже, оказались нужны фильму Шукшина с его далеко не простым образным миром, с его глубоким содержанием, зачастую сокрытым за внешними непримечательными событиями. Подтекст, заключенный в фильме Шукшина так запрятан, что его лучше всего передавать не через паузы, не через молчание, а через диалог, через очень активное поведение. Вот почему Шукшин потребовал от исполнителей умения соединять живую разговорную интонацию с большой внешней экспрессией. Во многих весьма различных по своим достоинствам фильмах последнего десятилетия появилась тенденция к быть может драматически острой, но при том совершенно статуарной манере актерского исполнения. Шукшин и его актеры как бы возвращают слову «играть» его простой первоначальный смысл; они подкрепляют все сказанное позой, жестом, мимикой, они «обыгрывают» слова, в особенности всяческие фразеологизмы, которыми так богат язык сценария. Внешняя экспрессия персонажа как бы говорит о его внутреннем стремлении к естественности, раскованности.
Вот мнимый «конструктор» рассказывает Ивану и Нюре о своей воображаемой работе:
– Мы сейчас проектируем систему игрек… Железная дорога без мостов… Паровоз пускает под себя струю отработанного пара и по пару… по пару…
Двумя полусогнутыми пальцами он энергично прочесывает воздух, изображая движение паровоза. Но пораженный доверчивостью Нюры, вдруг обращает все в шутку и теми же согнутыми пальцами делает своей простодушной собеседнице что-то вроде «козы рогатой», которую показывают ребятишкам.
«Конструктор», как он сам себя рекомендует «специалист по железной дороге», нужен Шукшину, чтобы подчеркнуть все ту же мысль: человек, каков бы он ни был, просто не в состоянии прожить без искренности – хотя бы на час. Даже если ложь стала его ремеслом, он должен время от времени возвращаться к «самому себе». «Конструктору» повезло – он встретил людей простых, естественных. И его потянуло к ответной естественности. Он перестал ломаться, на минуту сбросил личину, и оказалось, что этот человек, привыкший «брать», хорошо знает вроде бы такую чуждую ему заповедь: «что отдал – твое». Знает и временами следует ей, чтобы окончательно не потерять вкуса к жизни. (Речь идет, конечно же, не о кофточке, подаренной Нюре, а о сердечности, о внимании к людям). Мысль эта отнюдь не лежащая на поверхности, трудная для выражения с экрана, становится понятна благодаря активному актерскому поведению, благодаря постоянному взаимодействию между словом и жестом, словом и мимикой, словом и позой. Вот Иван перечисляет профессору-русисту все известные ему синонимы слова «ударить»: «жогнуть», «ломануть», «перелобанить», «взять на калган». И при этом подкрепляет многие слова жестом: при слове «жогнуть» – делает рукой резкий короткий взмах, словно хлыстом бьет, при слове «взять на калган» – целую пантомиму разыгрывает – берет профессора за лацканы и замахивается головой.
А вот профессор показывает откуда пошло в русской речи это самое – «взять на калган» – вдруг снимает очки, растягивает указательными пальцами и без того узкие глаза и, жигнув, подскакивает на лавке – раз, другой – точно его подбрасывает в седле лихой скакун.
Кстати сказать, в «Печках-лавочках» – с новой стороны раскрылся В. Санаев, актер строгий, скупой на внешнее проявление чувств. Оказалось, что он отлично умеет «скоморошничать» (употребим это словечко из лексикона его героя), находить острый, почти гротесковый рисунок образа, убедительно говоря об открытом нраве профессора, о его прирожденном артистизме.
Излюбленный герой Шукшина – человек, по-настоящему активный, готовый во все вмешиваться, искать истину, докапываться до истины. И Шукшин-режиссер находит точное зримое выражение этой внутренней активности, стимулируя исполнителей к активности внешней. У Шукшина-актера здесь богатая мимика, свободный жест. Весь текст проходит на съемочной площадке строгую проверку «на действенность». Многие диалоги, которым не удается найти соответствующий пластический подтекст, переделываются, а то и просто выпадают. Так ушли из фильма некоторые рассуждения Ивана, озабоченного многими жизненными противоречиями. Думается, режиссер не без внутренней борьбы пошел на эти сокращения. Сокращенный текст много добавлял к характеристике Ивана Расторгуева. Но пластически не подкрепленный, он как бы повисал в воздухе, утрачивал образную связь с экранным действом.
Несколько раз переснимал Шукшин сцену, в которой Иван по просьбе профессора «выступал» перед студентами в качестве «хранителя языка» и рассказывает о колхозной кобыле, ставшей совершенно неуправляемой после того, как мальчишки обстригли ее роскошную гриву. Ну, никак не шел этот эпизод. Уже и съемочный день окончился, и павильон пришлось покинуть – перебраться со всей аппаратурой в обыкновенный студийный кабинет – а завершить работу никак не удавалось. Снова и снова переписывался текст, пока, наконец, один весьма приблизительный вариант не нашел свое пластическое выражение в мимике и жесте.
Интересно, что снимая картину, Шукшин вроде бы не стремится подвигнуть к такой игре всех исполнителей. Но из фильма в процессе монтажа и сокращений почти совсем уходят актеры, играющие в иной манере – С. Любшин, Л. Соколова, З. Гердт – актеры, тяготеющие к паузе, передающие подтекст не через активное поведение, а через статику. Надо сказать, эти сокращения принесли Шукшину немало огорчений: обидно вырезать из фильма целые эпизоды, которым вся группа от режиссера до осветителя отдала много сил, трудно и больно объяснять потом любимому актеру, почему он «ушел из картины». Но что поделаешь, если дело касается слаженности всего ансамбля, стилистического единства фильма.
Но один персонаж стоит в фильме особняком. Персонаж очень важный. Это жена Ивана – Нюра. По сценарию актрисе была отведена роль достаточно богатая пластическим подтекстом. Нюру можно было сыграть так же остро, как Ивана или профессора – для этого были в тексте все посылки. Ведь по ходу действия Нюра только и делает, что осаживает своего «непутевого», учит его уму – разуму, старается смягчить произведенное им впечатление. Много хлопот доставляет ей Иван: то сцепился с каким-то проезжим, может большим начальником, шут его знает, то привел в купе вагонного вора, да еще заставил принять от него в подарок нейлоновую кофту, разумеется, оказавшуюся краденой, то напился для куражу перед попутчиками – студентами, то потащил на жительство к профессору, в этот вроде бы радушный, гостеприимный, а все-таки чужой дом.
Внимательно вчитываясь в текст сценария, видишь, что по ходу дела Нюра могла бы и дверью хлопнуть, и тумаком наградить своего незадачливого Ивана. Ну, а ее полудетское доверчивое и вместе с тем настороженное любопытство, радостное удивление перед раскрывающимся миром – разве не может оно раскрыться в стремлении войти в непосредственный контакт с какими-то предметами – потрогать, понюхать, погладить – ну, хотя бы ту же кофточку, подаренную ей вором. Словом, в самой роли заложен богатейший пластический материал.
Но Шукшин и Федосеева пошли по другому пути: они лишили образ всей этой внешней динамики, сделали его контрастным по отношению к образу Ивана. Сдержанная, скупая в эмоциях и в движениях Нюра очень много говорит нам о типе русской женщины – сибирячки. Кроме того, она объясняет нечто важное в характере самого Ивана – его подспудное стремление к такой вот пристойной сдержанности, его постоянное изумление перед ней и постоянный вызов ей. Стимулируя исполнителей к самому активному поведению, Шукшин не забывал и о неудаче, которая постигла его вместе с актером Е. Лебедевым при работе над образом Броньки Пупкова. Экран сгущает и без того насыщенные краски. А удлинение плана доводит их до предельной концентрации. Поэтому диалогические сцены идут в картине не на длинных, а на коротких монтажных планах. А между тем Шукшин любит снимать длинными планами: они ему ближе, они символизируют некую неотрывность, пристальность взгляда, которым он смотрит окрест. Они говорят о стремлении показать жизнь в ее естественном течении, ничего не отнимая и не прибавляя. Шукшин из тех режиссеров, которые предпочитают искать короткий план на монтажном столе, разрезая отснятую «на одном дыхании» пленку. Съемка «короткими кусками» лишний раз напоминала ему об условности, о павильоне, о рире. И все же снимать иначе Шукшин не стал. И дело тут не в ограниченности «рабочего пространства» – оператор А. Заболоцкий, большой искусник, сумел бы манипулировать камерой и на пятачке. Просто, требуя от актеров самого активного поведения, Шукшин хотел внести в действие своеобразные паузы – не актерские, а, если хотите, режиссерские. Паузы эти нужны были для того, чтобы незаметно, исподволь «снимать» возникающее в зале напряжение, которое может помешать зрителю воспринимать сложный образ-притчу.
– Мы редко задумываемся о взаимоотношениях между исполнителем и зрителем, – говорил Шукшин. – Порой приходится слышать: зритель любит актера, зритель любит режиссера. Но это о другом. Я же говорю о тех взаимоотношениях, которые устанавливаются между исполнителем и зрителем на полтора-два часа экранного действия. Актер с благословения режиссера должен «подпустить» к себе зрителя, а не держать его на расстоянии. Есть виды искусств, в которых расстояние между исполнителем и зрителем как бы входят в систему выразительных средств, например, цирк, отчасти, может быть, и эстрада. Между фокусником и зрителем непременно должна быть дистанция – она как бы подчеркивает эффект номера. Такая дистанция на мой взгляд уместна и в музыкальном спектакле, музыкальном фильме. Ну, а в современном драматическом театре и тем более – в кино? Актер и режиссер должны не ошеломлять зрителя, не гипнотизировать его своим искусством, а как бы доверительно делиться с ним всеми своими уменьями – умением сосредотачиваться, умением вдумываться, умением постигать чужую душу через свою собственную. Вот тогда зритель не останется «созерцателем» и сможет понять даже очень глубокую авторскую мысль, даже очень сложный образ.
Для понимания образа-притчи очень важно и авторское посредничество, авторское отношение к герою. Беседуя с Шукшиным, мы не раз возвращались к вопросу: чем восполнит экран отсутствие автора-посредника? Закадровый авторский голос в кинематографе сегодня утрачивает свою выразительную силу – не случайно Шукшин потерпел неудачу, взявшись комментировать «за кадром» жизнь своих «странных людей» – ничего не прибавили эти комментарии к намеченным характерам, только внесли ненужную монотонность. И снова все та же «неизбывная» проблема: надо заставить зрителя заглянуть в душу героя так же глубоко, как заглядывает автор. Если на экране, где прямое выражение авторских чувств невозможно, герой вынужден сам себя «заявлять» и сам себя исследовать – значит, авторский комментарий в какой-то мере должен быть заменен самокомментарием. Но в какую форму облечь этот самокомментарий?
Обычно Шукшин облекает его в форму исповедальных внутренних представлений героя – неких видений или, как их чаще называют, «снов». «Снам» в фильмах Шукшина всегда было уделено существенное место. Как правило, они аллегоричны и дают представление о сокровенных чувствах героя, о его потаенной духовной жизни. Вспомните аллегорическую женщину в белом, выходящую наперерез Пашке Колокольнику – женщину, в чьем образе воплотилась и его мальчишеская мечта «об идеале», и его зрелые раздумья о верности своему слову, своему долгу. Вспомните «похороны» Матвея Рязанцева, на которых он присутствует своей собственной персоной – странный и жутковатый сон, в котором нашла свое выражение смутная надежда героя, что человеческая жизнь не кончается в отпущенный земной срок, а продолжается еще долго в делах и думах живущих.
«Сны» героев Шукшина всегда гротескны и всегда новеллистичны по своей драматургии. И в сценарии «Печки-лавочки» был такой сон. Ошеломленный пестрыми впечатлениями столичной жизни, Иван видит во сне некий модный ресторан, ораву «отвязанных» мальчишек и девчонок и свою возмущенную Нюру, которая обращается к ним с увещевательной речью. «Эх, вы! Чего смеетесь? Это над вами смешно-то! Как не стыдно! Девушки… В такие-то годы работать и детей рожать, а вы с ума сходите…».
Шукшин так и не снял этого ресторана. Он придумал другой сон, в котором героине не надо было ничего говорить. Вместо ресторанной свистопляски была снята совершенно иная сцена: разодетая в синтетические одежды, набеленная, накрашенная, и сразу же подурневшая Нюра, фальшивая, баюкает незатейливой детской песенкой жутковатого старикашку, похожего на колдуна – так, оказывается, преломилась в воображении Ивана наивная и решительная угроза Нюры уйти от него – вахлака в няньки к какому-нибудь культурному старичку. Сцена другая, а мысль все та же: нелеп и смешон человек фальшивящий, по какой-то дури отказавшийся от себя самого. Но выразить эту мысль режиссер пытался уже не в монологе, а в зримом пластическом образе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































