Текст книги "Крылатые качели"
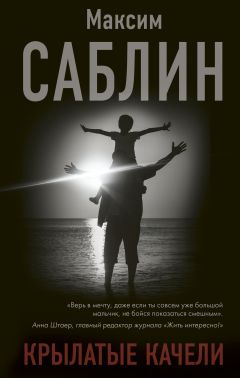
Автор книги: М. Саблин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
41
Прошло полтора года, светловолосый мальчишка с серыми глазами уже бегал по квартире, строил пирамидки из красных кубиков, а маленькая Недоумова с огромным Медузовым продолжали жить с Федором. Это было даже странно, ведь у них была депутатская квартира на Энгельса. Федор дважды говорил Недоумовой съехать. Она соглашалась, Федор уходил счастливый на работу, а когда возвращался, обнаруживал маленькую женщину в темном углу спальни или за портьерой в гостиной. Похоже, ее второй фамилией была Бумеранг.
Декабрь две тысячи седьмого года начался морозом и снегопадом. Москвичи, уставшие от теплых зим, почти поверили в снег. В первые выходные прошли выборы в Госдуму, а четвертого числа установилась плюсовая серая погода, от которой даже у неметеозависимых сводило зубы и болела голова.
Федор уехал в Переделкино к отцу, а Пелагея осталась дома. В квадратной светлой кухне с красным гарнитуром было жарко, низкая подвесная люстра очерчивала уютный конус желтого света. Пахло жареной курицей. За окном было черно. Пелагея старательно пропылесосила ковры и вымыла полы, вытерла пыль с каждой полочки, убралась в квартире (она была аккуратистка), сделала сыну массаж, расцеловала, переодела и теперь начала готовить паштет из печени фермерской. Пелагея ждала с нетерпением мужа и хотела хорошо накормить его. Она знала, что она хорошая жена и прекрасная мать, и получала удовольствие от обеих этих ролей.
Родители Пелагеи сидели за итальянским стеклянным столиком у окна. Мать, в очках с толстыми линзами, умело поддевала крючком петельку шерстяной овечьей нити и вязала теплый носок. По «Маяку» передавали «А годы летят»[11]11
Песня из к/ф «Добровольцы» (1958). Музыка М. Г. Фрадкина. Стихи Е. А. Долматовского. 16 4
[Закрыть] в исполнении мягкого, старомодного баритона Владимира Трошина. Отец Пелагеи, разворачивая шуршащую газету, читал колонку политики. Сын в детском высоком креслице размахивал ручками и гремел погремушками.
– «А годы летят, наши годы, как птицы, летят, – подпевала Трошину Эрида Марковна. Лоб ее разгладился, глаза мечтательно расширились, – и некогда нам оглянуться назад».
Пелагея, услышав пение и обернувшись к матери, посмотрела на нее с теплотой. Только мама ходила с ней по всем ее делам, самоотверженно спорила, решая проблемы, возила в Турцию на отдых, ухаживала, когда девочка болела скарлатиной. Только мама интересовалась ее жизнью, защищала ее, когда ее обижали, и бросалась на любого, не разбирая, права была дочь или нет. «Ведь все, что она говорит и делает, она делает из большой любви ко мне!» – подумала Пелагея Медузова, и на ее глаза навернулись слезы.
Недоумова сосредоточенно вязала и тонким голоском пела: «Не созданы мы для легких путей, и эта повадка у наших детей, мы c ними уходим навстречу ветрам». Вдруг она подняла на дочь глаза, увеличенные линзами, и смущенно улыбнулась. Пелагея быстро отвернулась.
– Я же говорил! – Дэв ударил по газете и отбросил ее на сахарницу. – Все эти выборы обман! И хорошо, что не ходили, незачем нам участвовать в спектакле. Сами придумали, сами распределили. – Он скосил глаза на Эриду Марковну, ожидая, как она отреагирует, но та продолжала вязать. – И все за наши деньги! Я написал пост, уже пять тысяч лайков!
– Нет, этот зять наш меня разочаровал, сильно разочаровал, – сказала Недоумова строгим тоном, возвращаясь к своей излюбленной теме. – Пелагея, я три раза ему сказала, в девять ребенок должен спать, а он что? Принес Иннокентия в десять вечера, спина голая, куртка в грязи… Режим для чего придумали? – Спицы громко звякнули, и от этого звука у Пелагеи заболела голова. – И я видела с лоджии, он опять заставлял нашего малютку лазить по шведской стенке. Да ребенок еще ходить толком не умеет! Твой Ребров развел эту возню со спортивным развитием, сил уже нет. Ох, не доведут эти опасные игры до добра, сломает себе шею ребенок. Скажи ему, чтоб успокоился! Скажи! Скажи!
– Да у тебя паранойя, – сказала Пелагея, отвернувшись к сковороде. Мама нападки на мужа обращала к ней, словно это она все делала так, и это ее раздражало. – Федор молодец, он и работает, и ребенком занимается. Ничего с Иннокентием не случится, Федор спортсмен и знает, что делать. Кстати, его повысили до главного юрисконсульта! – с гордостью за мужа добавила она. – За два года такая карьера!
– Подумаешь, достижение! – воскликнула Эрида Марковна. – Немезида мне говорила про одного парня, он уже главный в региональной ячейке партии! Вот кто герой нашего времени, а не твой буржуй Федор. Подумай! Пока не родится второй ребенок, ты еще можешь поменять мужа! Познакомить тебя?
– Мама, что ты говоришь такое? – закричала Пелагея, и от недовольства стукнула по раскаленной сковороде лопаткой. – Я замужем! Мой буржуй муж честно работает с утра до ночи и обеспечивает нас! Ты хочешь разрушить мою семью? – Она немного понизила голос. – А того парня я видела у Немезиды. Он толком не работает, слоняется по съездам, отдает под козырек и ленту «Одноклассников» своими фотками засоряет. Может, он герой нашего времени, но мой герой – Федор!
Некоторое время обе они, раскрасневшись, занимались своими делами. Пелагея мешала на сковороде лук и заодно заглядывая в духовку. Недоумова, поджав губы, вязала. Слышалось, как спицы ударяют друг о друга и протыкают плоть шерстяного носка. Иннокентий в этот момент жевал огромный кубик, и, увидев это, Недоумова закричала на него: «Весь в отца, весь в отца! Ох, непутевый мальчик вырастет!» Дэв, положив ступню на колено, теребил нарост на большом пальце ноги, а глазами водил по газете.
– Ты мне лучше скажи, где твой буржуй в десять вечера? – заговорила Недоумова тем холодным, строгим голосом, что сводил Пелагею с ума. Недоумова поначалу не утверждала своих предположений, а строго спрашивала дочь, знает ли она то, что как будто бы всем известно. – Говорит, что в Переделкино, а сам, наверное, с любовницей? – продолжала она. – Как ты можешь сидеть спокойно? Боже, какой стыд на нашу семью!
Пелагея в такие моменты люто ненавидела мать.
– А слышали про Матвея? – сказал Дэв с каким-то лучистым, сияющим, радостным лицом.
Пелагея удивленно обернулась к отцу.
– Проиграл выборы в Госдуму! – крикнул Дэв.
42
Ночное Переделкино с высоты птичьего полета было похоже на заснеженный лес с желтыми точками домиков: на дачах снег всегда таял медленней, чем в городе. Федор полулежал, вытянув ноги, в бабушкином кресле с изогнутыми подлокотниками и переключал каналы телевизора. Приезжая к родителям, он всегда засыпал, и теперь глаза закрывались, к тому же мама укрыла его павлопосадской шалью. С кухни пахло песочными тарталетками с заварным кремом и малиной. Большой кусок снега шумно слетел с крыши, и Федор, вздрогнув, посмотрел в окно. В темноте виднелась маленькая желтая баня с серым скворечником, высвеченная светом второго этажа. Федору было хорошо, как всегда бывало хорошо дома у родителей.
В камине гудело высокое пламя, люстры давно не горели. Пахло сосновыми бревнами. В гостиной, как на картинках про Рождество, ощущалось тепло и уют, разве что не было наряженной елки.
Посреди гостиной стоял дубовый стол, на котором стоял элегантный натюрморт из армянского коньяка, шаровидного бокала на маленькой ножке и зеленого яблока. Отец сидел на троне махараджи и синими блестящими глазами всматривался в бутыль цвета прозрачного малахита. Он налил маслянистую жидкость на донышко шаровидного бокала, понюхал, посмотрел на огонь через бокал и быстро выпил.
– Знаю, знаю! – сказал отец, увидев некоторое превосходство во взгляде Федора, и сделал лицо безрадостным, словно осуждал себя. – Но и это пройдет, говорил Соломон! – Отец перетер влажными красными губами остатки коньяка и тяжело вздохнул. – Нет, я понимаю, – продолжал он, – я должен в воспитательных целях сказать тебе: «Я еще не кончился! Я встану, наполнюсь энергией и полечу, как птица». Но мне не можется! Мне уже шестьдесят семь лет, мое время ушло. Я должен завести кур и уступить дорогу молодым! – Он внимательно посмотрел на Федора. – Пришло твое время потрудиться во благо стране и миру!
Федор откинул шаль и сел прямо. Отец делался пессимистом примерно раз в десять лет, когда судьба полностью разрушала его жизнь. В эти дни он забывал про позитивное мышление пастора Пила, забывал о Кашпировском, своими сеансами по телевизору случайно отбившем у отца желание пить крепкое, и становился человеком большого откровения. На следующий день отец забывал, что хотел завести кур, и начинал новую жизнь, полную активных действий и приключений.
По телевизору показывали бородатого широколицего мужчину в белом свитере и черной жилетке, это был Демис Руссос. Он стоял на подстриженной поляне, за его спиной виднелись деревья и пасмурное небо, и он пел о том, что мы будем танцевать, мы будем танцевать, и, когда день подарит нам шанс купить все скрипки на балу, мы выкупим наши души и будем танцевать и петь. Он пел о том, что весной взойдут посевы и мы будем танцевать и петь, будем играть с детьми и молиться, у нас будет дом и камин, и все будет хорошо.
Отец вслед за Федором повернул лицо к экрану, вместе они дослушали песню.
We shall dance, we shall dance,
The day we get a chance
To pay off all the violins of the ball…
Два дня назад, 2 декабря 2007 года, прошли выборы в Государственную думу пятого созыва. Независимым кандидатам баллотироваться запретили. Отец Федора мог вступить в «Единую Россию», но примкнул к партии, которая была ему относительно близка по взглядам. Та партия проиграла, а «Единая Россия» получала квалифицированное большинство. Это значило, что партия власти могла никого не слушать и принимать любое решение.
– Наш народ иногда кажется мне странным, – сказал отец и размашисто замахал жилистой рукой, заметив на миг промелькнувшее в глазах сына недоумение. – Нет-нет, в нашем проигрыше я никого не виню кроме себя, но сейчас я не хочу в этом разбираться, я хочу говорить то, что вертится у меня на языке.
Федор посмотрел на деревянные часы на стене. Часы были старые, механические, с гирьками-шишками на цепях. Каждый час из круглого окошка над циферблатом с треском вылетала кукушка. Федор вспомнил с улыбкой о кукушке, о времени, о жене Пелагее и сыне Иннокентии и решил, что через полчаса надо выбираться домой. Отец отставил бокал и принялся прохаживаться перед камином, заложив руки за спину.
– Наш народ сидит на кухне и критикует власть, – продолжал отец, вышагивая взад-вперед, – а когда у него появляется реальный шанс запросить у власти отчет, вспомнить обещания и результаты, поговорить о проблемах, сменить недостойных на достойных, что делает наш народ? – сам себя спросил отец, усевшись вновь за стол и разглядывая на огонь бокал с коньяком. – Ничего не делает! Сорок миллионов не пришли на выборы! Возьми родителей Пелагеи, вот уж эксперты на все руки. Жалобу предлагал отдать президенту – не написали. На выборы звал – не пришли. А почитать блог Дэва Медузова, так Че Гевара покажется Котом Леопольдом. Странные люди! Никакого тебе диалога, а потом революции, погромы и расстрелы. Или они хотят вернуть цензуру, нищету, ложь в телевизорах и прочие прелести?
Федор, будучи аполитичным, особенно не слушал. Он вспомнил, как за тем же столом, здесь же, в Переделкино, дед Алексей Душевин рассказывал Федору, когда тот был мальчишкой, о стахановцах, о чистоте советских людей, о добром Ленине, пощадившем Фанни Каплан. Дед был членом КПСС и считал себя обязанным рассказывать внуку о том лучшем, во что верил сам, и это лучшее, безусловно, было в той жизни. Правда, позже Федор узнал, что режим доброго Ленина без суда и следствия расстрелял и сжег Каплан и, не успокоившись, угробил миллионы людей просто потому, что они имели иное мнение, чем мнение доброго режима. «Похоже, режим был что моя теща, такой же старый и глухой, – думал Федор. – И за что мне такие беды?»
Отцу надоело пить, он подошел к камину и кочергой сбил в центр полуобгоревшие полешки. Федор перебрался на старый велотренажер и, глядя в телевизор, начал с гулом раскручивать педали.
– Пап, а мне кажется, власть виновата, что народ не верит, – сказал он из чувства протеста. – Власть запретила независимым кандидатам избираться. Власть отменила графу «Против всех». Власть подняла входной порог и не пустила ряд заметных партий, – Федора вдруг охватил революционный дух, и он начал выдергивать из памяти слышанные по телевизору мнения. Отец, сидевший на корточках у камина, посмотрел на него с улыбкой. – А этот фарс с технологией «паровоз»? – продолжал Федор, разгоняясь на тренажере. – Люди голосовали за одну власть, и что? Больше ста человек из списка партии власти отказались от мандатов, пропустив в Думу других. Это ли не фарс? А отказ от дебатов – не фарс? Как может партия – не простая партия, а партия власти – отказаться публично дискутировать с другими? Нет, пап, не народ отказался от диалога, а власть оглохла.
Отец закончил возиться с огнем. Тонко и довольно улыбнувшись, он вернулся за стол и с лучистым сияющим взглядом потянулся к бутылке коньяка, но налить не успел. Мама поставила перед ним сельдь под шубой и вложила в руку мельхиоровую вилку из сервиза московской Олимпиады. Отец, находясь в каком-то вдохновении от слов Федора, забыл о намерении выпить и принялся за салат. Федор включил спортивный канал и вместе с отцом некоторое время смотрел повтор шоссейной многодневки «Вуэльта Испании».
– Я думаю, власть и народ одно и то же, Федор, – продолжал отец, доев сельдь под шубой. – Посмотри на Недоумову – если что не по ней, так твоя теща оппонента в асфальт закатает, какой там диалог? Эрида Марковна прекраснейшая женщина, но нет у нее культуры спора, то же и власть! Кстати, я голосовал против всех этих барьеров и «паровозов». Жаль, был мало убедителен, – отец вздохнул. – Но возьмем тебя. Ты, наверное, думаешь, будь ты на месте власти, так сидел бы с телефоном, аки оператор колл-центра, и диалоги вел? – Федор усмехнулся, не понимая, к чему клонит отец. – А я вот посмотрю на твой диалог с Эридой Марковной!
Отец и Федор одновременно прыснули со смеху и через минуту, согнувшись, смеялись в голос. Отец смеялся заразительно, а Федор, глядя на отца, смеялся еще больше.
Позвонила Пелагея. Продолжая отрывисто смеяться и ладонью стирать слезы, Федор нажал кнопку приема.
– Тебе смешно? – услышал он умирающий слабый голос жены. – Я сижу с ребенком, а ты с любовницей?
Федор, объясняясь на ходу с Пелагеей, надел черный пуховик, махнул рукой родителям и убежал на маршрутку.
43
Татьяна Алексеевна, проводив сына, села наискосок от мужа и посмотрела в его синие блестящие глаза.
– Матвей! – сказала она, поправляя волосы. – Мне кажется, нашего Феденьку там обижают! – Мама Федора уже не считала Дэва с Эридой Марковной людьми своего круга и как раньше находила в них одни достоинства, так теперь находила только недостатки. – Почему он спит на раскладушке в своем доме? Давай я поговорю с ним.
– Раз спит на раскладушке, значит, удобно, – строгим голосом ответил муж. – Я запрещаю тебе вмешиваться. Пелагея хорошая девушка, родители ее мудрые люди. Все будет хорошо, только не вмешивайся. Вы, женщины, в своей любви к детям иногда бываете опасны для самих детей.
Татьяна Алексеевна вздохнула и опустила глаза.
– А почему нам не дают Иннокентия? – продолжала она, глядя с тревогой на мужа. – И приезжать запретили. Куда это годится?
– Закрыли тему, – сказал Матвей Ребров. – Мы сказали Федору свое мнение и скажем еще раз, но пусть решает сам. Они взрослые, самостоятельные люди и должны во всем разобраться сами.
Татьяна Алексеевна обрела покой и, напевая веселенькую песню, ушла на кухню, зато покой потерял Матвей Ребров. За прошедший год он не раз звонил Дэву Медузову, но тот не брал трубку. Он звонил Эриде Марковне и, к своему удивлению, не смог с ней договориться. «Чертова Недоумова! – подумал он. – Характер – это судьба!»
Матвей Ребров решил выпить и потянулся к бутыли армянского коньяка. Бутыль таинственным образом со стола исчезла.
44
Шестеренки настенных часов в Переделкино исправно отстучали пять с половиной лет, и настал июнь две тысячи тринадцатого года. Милицию переименовали в полицию, ни одна новая партия в шестую Думу не попала, а Федор, начитавшись Кийосаки, решил стать богатым папой[12]12
Роберт Кийосаки. «Богатый папа, бедный папа». 17 5
[Закрыть]. По всем правилам науки он подыскал дешевую хрущевку неподалеку от себя, делал там ремонт и планировал сдать в аренду. Когда Пелагея разрушила империю мелкого рантье, сбежав в эту хрущевку, он в шутку говорил друзьям: «Вот же, стал богатым папой – ни аренды, ни жены, ни сына. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Встречу Кийосаки, дам ему в глаз!»
Федор растолстел и уже не мог быстро ходить из-за одышки. Он выселил из квартиры Дэва Медузова, но человек-зло оккупировала спальню и оттуда руководила сопротивлением.
В тот день они приехали в парк развлечений «Хэппилон» на пятом этаже торгового центра «Филион» праздновать седьмой день рождения Иннокентия. Иннокентий, толстый мальчик в черном костюме Бэтмена, в компании двух сорвиголов, Вани Богомолова в мушкетерском костюме и Анжелы Мягковой в платье принцессы, скакали от одного аттракциона к другому. Иннокентий, в один момент остановившись, с улыбкой указал друзьям на родителей.
Троица веселых пап соревновалась в смелости и умениях. Бородач дядя Илья на грохочущей американской горке смешно вцепился в поручни и по-козлиному блеял от страха; огромный дядя Петя, голосом изображая выстрелы, по-ковбойски, с обеих рук, расстреливал кактусы; папа, в азарте закатавший рукава и кричавший на каждую неудачу, проиграл странноватой тете Изабелле в аэрохоккей.
Послышался голос мамы, и Иннокентий обернулся. Высокая светловолосая мама в синем красивом платье звала всех на сладкое. Они прибежали в маленькое детское кафе, уже заполненное друзьями Иннокентия, детсадовскими Мстителями, Гарри Поттерами, Людьми Икс и Гермионами. Был и один Супермен. В центре стоял белый длинный стол с детскими яствами, у стены вразнобой валялась обувь и пакеты с подарками, поодаль виднелся разноцветный детский уголок с пластмассовой горкой, кубиками и пирамидками.
Иннокентий, стянув с лица мрачную маску Бэтмена, расправил мантию и гордо приземлился на место именинника. Коренастый черноволосый Ваня громко шмыгнул носом, деловито уселся справа и посмотрел пристально на тонкую рыжую Анжелу, севшую слева от Иннокентия. Дочь маминой подруги показала тому язык и, заулыбавшись и засияв, отвернулась к Супермену. Тот занимался робототехникой и хранил в лице холодность. Цепкой тонкой рукой, кокетливо выгнувшись вбок, Анжела стащила с головы клоунский колпак, открыв для Супермена перламутровую заколку с камнем в тугой рыжей косе, но мальчик был занят поеданием глазированного эклера. Скосив голубые глаза на Ваню, Анжела нахмурилась. Странный сынишка дяди Пети, двумя пальцами разглаживая накладные усы, продолжал пристально разглядывать ее.
Вдруг свет погас и откуда-то из темноты появилось пятно дрожащего золотистого света, окруженного небольшой толпой людей. Широко улыбающаяся мама Иннокентия вынесла вишневый торт с семью маленькими свечками и поставила перед детьми. Папа, встав за спиной сына, положил ему на плечо теплую крепкую руку. Иннокентий не видел его, но через руку ему передалось папино спокойствие и уверенность. Слева Иннокентий различал строгие и чужие лица родителей папы (ему запрещали встречаться с ними), справа улыбались родные и единственные, как он считал, бабушка и дедушка. Все запели «С днем рожденья тебя!».
Иннокентий раздул щеки и, вытягивая губы, задул все свечки. Взрослые тепло улыбались и хлопали ему, он был счастлив и горд. Через пять минут, не доев торт, дети убежал на аттракционы.
Федор вышел следом за детьми. Пелагея подошла сзади и обняла его. Федор улыбнулся и указал ей на Ваню Богомолова, который ужасно походил повадками на отца. Ваня, сидя на вороной лошади, разглаживал накладные усы и убийственным взглядом оглядывал зал.
Странные люди воспитывали странных людей. Ваня дома носил шпагу, а трехлетняя Маша ходила в колготках и камзольчике, как шут-горбун. Неизвестно, готовил ли Петька дочери судьбу герцогини девонширской, но сын Иван поступал в сентябре в Императорскую школу, где преподавали дворянский этикет и фехтование. Богомолов воображал себя королем, а детей престолонаследниками. Друзья намекали, что дети свергнут его за такое воспитание, но Петр игнорировал их замечания.
Пелагея кивком головы указала Федору на тоненькую Анж. Красивая девочка улыбалась им, качаясь на белом лебеде. Анж росла как и большинство детей. Мягков, в перерывах между уборкой и писательством, возил ее на кружки и каждый год менял пристрастия. Анж танцевала брейк, пела народные песни, рисовала кубизм, ныряла с аквалангом и прыгала в длину. Правда, Кира эту неразбериху пресекла и записала дочь на фигурное катание.
Увидев толстого Иннокентия на звездолете, Федор крепче сжал руки Пелагеи. С собственным сыном ничего не выходило. Маленькая Недоумова вбила в голову Пелагеи идиотское правило, которое запрещало секции, если Иннокентия нужно было далеко отвозить или занятие было опасным. У Федора и Пелагеи даже появилась игра:
– Плавание в «Труде»? Далеко.
– Футбол в Черемушках? Опасно.
– Вело… – Далеко и опасно!
Странное дело, Эрида Марковна и Пелагея не замечали того, что Иннокентий растет толстым. Стоило Федору сказать «толстый», как теща шипела эфиопским питоном, Медузов скакал сколопендрой, а Пелагея с лучистыми безумными глазами пела, что сын ее самый стройный в мире мальчик. Черта с два Иннокентий был стройный! Стоило посмотреть медицинские таблицы роста-веса – и все делалось ясно любому здравомыслящему человеку.
Однако договориться с тещей было так же возможно, как у Фиделя Кастро отобрать сигару, поэтому тихим вечерком, вернувшись с дня рождения сына, Федор потер руки и вывел в ежедневнике красивое слово:
«Революция!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































