Текст книги "Крылатые качели"
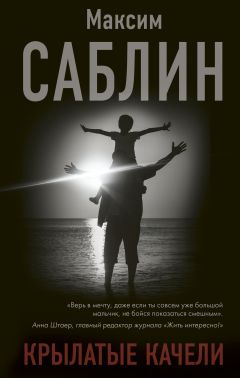
Автор книги: М. Саблин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
55
Федор вышел в уютный коридор с креслами, столиком и книжными шкафами, рассеяно посмотрел на репродукцию Климта, висящую на стене. Проходя мимо секретарши, заметил ее любопытный взгляд: она тоже читала.
– Не переживай, Федя, – сказала Сирена, угадав его мысли. – Письмо стерто с серверов. Ты воспитанный и вежливый. Просто скрываешь это!
– Как смешно, – рассмеялся Федор и зашел к себе.
В кабинете, он тяжело уселся в кресло и, предупредив секретаршу, чтобы его не тревожили, положил ноги на стол и уставился пустым взглядом в окно. События последних суток истощили его.
Погода менялась. Золотые кресты Богоявленского собора за окном зловеще сияли на фоне черных туч. Ветер трепал перышки голубя, присевшего на голову Баумана. Мальчик в сером пуховичке ковырялся в клумбе с увядшими розами.
Как известно, сознание может опережать или отставать от бытия. Маленький Федор был человеком, опережавшим и определявшим бытие. Однако сознание его, до того момента, как он посмотрел в окно, на сутки отставало от случившегося. Только увидев мальчишку, Федор вдруг в полной мере осознал тот факт, что Пелагея ушла от него, забрала Иннокентия и, возможно, вся его прежняя жизнь разрушена. Он вспомнил, как проснулся одетый в четыре часа утра и больше не мог спать. Как долго ходил по тропинкам Воронцовского парка и думал: «Что это значит?» – все более осознавая, что это значит что-то совсем нехорошее.
Федор почувствовал головокружение. Окошко начало стремительно отдаляться и уменьшаться, вокруг стало чернеть. Его качнуло, как на волнах, галстук сдавил шею, а в ушах послышался тончайший писк.
Быстро спустив ноги со стола, Федор уткнулся лицом в колени. Сердце сотрясало стуком грудную клетку. Федор вмиг вспотел и тут же почувствовал озноб. Он обхватил себя руками, глядя расширенными глазами в пол. В смятении он предположил, что старая ведьма, должно быть, сейчас сидит на кухне и тонким лезвием тычет в куклу с его физиономией. Некоторое время Федор следил за своим состоянием, вроде бы хуже не становилось. Полагая, что движение – лучшее лекарство, Федор осторожно встал, открыл окно и скрючившись походил перед стеной с нарисованным змеем. Полегчало. Позже психиатр объяснил, что это была реакция организма на стресс. «У некоторых волдыри, у тебя головокружение, все нормально, – говорил психиатр, лучисто улыбаясь. – Что ты хотел, твоя жизнь дала трещину».
Успокоившись, Федор позвонил Пелагее. Долго слышались гудки, звонок оборвался. Он аккуратно положил телефон рядом с клавиатурой компьютера и, сцепив руки за спиной, встал у окна. Думать о работе он не мог. В этот момент завибрировал телефон, и Федор, посчитав, что перезванивает Пелагея, схватил его и крикнул в трубку:
– Пелагея!
– Вы Ребров? – спросил незнакомый мужской голос.
– Да.
– Рашидов, старший следователь ОВД района Черемушки. Вам бы подъехать.
– Что случилось?
– Поступило заявление от вашей жены.
Федор Ребров, если его били, всегда оживал. Головокружение пропало, он выбежал на парковку и с удивлением долго смотрел на пустое место, где должна была стоять его машина. «Тьфу ты, я же на метро приехал», – подумал он. Поодаль сиял чистотой черный служебный «мерседес». Федор подошел, погладил рукой жесткий холодный металл с капельками дождя, открыл дверцу и сел на место водителя. Седовласый водитель дядя Гена, спавший на пассажирском месте с электронной книгой на животе, проснулся и посмотрел на него сонным взглядом.
– Сегодня сам, спасибо! – сказал Федор.
Дядя Гена отдал ключ от машины, вылез из салона и пошел в водительскую досыпать.
56
Когда он выехал на Новорязанскую, начался дождь и по стеклу заколотили крупные капли. Послушный черный зверь немецкого автопрома довольно рокотал и несся вперед, рассекая лужи.
Упершись локтем в выемку между стеклом и дверцей, Федор тер висок и думал, что ему следует ожидать: уголовное дело? как себя вести в пункте полиции? что писать в объяснениях? Как и все нормальные люди, Федор боялся, что его посадят, и потому решил позвонить Богомолову и переговорить с ним по громкой связи.
Богомолов был прокурором, а друг в прокуратуре стоил сотню в полиции. Прокуратура все умела, все могла, прокуратура была мрачным всадником на черном коне, что скакал по нарушителям закона и сносил им головы. Посмей сатана нарушить закон, прокуратура сожрала бы его и отрыгнула. Вот почему Федор звонил Богомолову.
«Все-таки хорошо, что я учился в лучшем университете, – думал он, мчась по Земляному валу, тонувшему в потоках воды. – Лучшие университеты правят миром, потому что те странные типы, которым ты маркером подрисовывал усики, позже становятся Толстыми и Ганди, Урусовыми и Карабчевскими, Цукербергерами и Джобсами, а некоторые даже прокурорами в московской прокуратуре!»
После Яузы гроза неожиданно сменилась солнцем. Пухлые облака на ясном голубом небе висели неподвижно. «Вот оно, мое небо Аустерлица! – думал Ребров, слушая гудки. – Еду в участковый пункт полиции по заявлению собственной жены!»
Огромный, вспотевший Богомолов только что вышел из кабинета прокурора Москвы, где докладывал об уголовном деле, обещавшем стать главной новостью столичных СМИ. Заодно Богомолов предложил себя на вакантную должность заместителя прокурора. Шеф, к его удивлению, отказал.
Встав у белого подоконника, Петр задумчиво поглядел на застывшие облака, размышляя о главной мечте всей своей жизни. «Почему он отказал? – подумал Петр, разглаживая жесткие усы. – Впрочем, мне все ясно, – он прикусил указательный палец. – Прокурор просто отсталый тип. Человек прошлого. У него нет масштабного мышления. Нет понимания государственного интереса. Сын его не учился в Императорской школе. Как он оценит меня, человека прогрессивного и государственного? Ладно, мое время придет очень скоро!»
Достав из ременной коробочки, какие в то время уже не носили, старую кнопочную «Нокию», Богомолов направился в кабинет, планируя возложить кавалерийские ноги в блестящих туфлях на прокурорский стол, красиво зажечь трубку из сицилийского бриара и, причмокивая, выпустить колечко дыма.
Петр Богомолов был человеком политизированным, чувствовал себя приобщенным к власти и жил мыслями государственного деятеля. Мелкие дела его не волновали, средние заставляли зевать, и только большие возбуждали его государственный ум. Мечта его была прежней – стать заместителем прокурора Москвы, и каждый день, глядя в кабинетное зеркало, он видел себя в кабинете заместителя прокурора Москвы со скипетром в руке и шапкой Мономаха на голове.
– Раз не бил, значит, не возбудят, – сказал он, выслушав Федора.
– А вдруг? Просто сам разберись с делом, как разбираешься с другими. Считай меня просто человеком.
Обычным заявителем.
Петр пообещал разобраться.
– Спасибо! – сказал Федор, следя по цветному монитору, как скругленный оптикой полосатый бордюр приближается к окуляру заднего бампера.
Петька вошел в свой кабинет и закурил трубку. В тот день он еще много работал, давал интервью «Коммерсанту» и забыл о мелком деле Федора, а в следующие дни не вспомнил.
Участковый пункт прятался в маленьком домике, по диагонали от хрущевки, где теперь жила Пелагея. Известка с фасада местами отвалилась, открыв красный кирпич, в черной трещине колыхалась паутина. Федор решительно вошел в темный сырой подъезд, потом в другой, еще темнее и сырее, с тусклой лампой и старым хламом в углу. По логике дальше был совсем ад, и Федор с бьющимся сердцем остановился перед дерматиновой дверью, исполосованной ножом. Федор виндицировал украденные небоскребы, отменял незаконные собрания акционеров, разрушал планы коварных олигархов, но никто пока не додумывался заявлять на него в полицию, поэтому он боялся полиции, как дети боятся бабайки. Федор застыл перед дерматиновой дверью.
Справа висела доска с фотографиями довольно приятных на вид участковых с шишкастыми лицами разыскиваемых, подтверждавшими худшие теории Чезаре Ломброзо о преступном типе черепа. Федор представил на доске свою фотографию в ковбойской шляпе. Под мужественным лицом его было бы написано «Wanted*. Dead or alive. 100$». И внизу страницы: «*за убийство тещи». Романтика бандитской вседозволенности развеселила его. «Кого из моих друзей обвиняли? Никого. Только меня. Какой опыт», – думал он с самодовольным видом, пока его воображение не нарисовало тесную камеру с двумя кроватями, застеленными полосатыми одеялами. Федору стало скучно.
57
Страшная дверь открылась сама, и на полу обрисовался уголок желтого света с черной маленькой тенью посередке. Следом появился владелец тени, огромного роста краснощекий капитан полиции с добродушным лицом. Покрутив фуражку, он посмотрел на Федора, словно сверяя его физиономию с физиономиями, представленными в списке черемушкинской мелкой преступности, и ушел.
Мужчина с цепким взглядом провел Реброва мимо маленьких комнатушек в квадратный холодный кабинет с плакатом, на котором была изображена Саманта Фокс в белой майке, и усадил на шаткий стульчик спиной к двухметровому портрету Дзержинского. С таким тылом Федор еще больше испугался за свое будущее.
В зарешеченном мутноватом окошке Федор с тоской увидел голубое небо и есенинские белые березы. Ему стало очень грустно и жалко себя. Там, в другом мире, странный Петр купал детей и препирался с Анной, там хипстер Илья, жуя коричневую сигару, длинными пальцами настукивал на клавиатуре компьютера бестселлер, там старик Серафимов, глядя сонными глазами в окно, придумывал идиоматические выражения. А он, Федор, сидел здесь, в полиции, и уже представлял себя в кандалах и полосатой робе. «Как много я еще не сделал, – думал он. – О, свобода, я не ценил тебя и не жил так, как надо!»
Как Йозеф К. Кафки, так и Федор не понимал, в чем его обвиняли, не понимал процедур, не понимал, что с ним будет, и все это угнетало. Он представлял с ужасом, как будет сидеть по-турецки на тюремных нарах и ботать по фене.
За угловым столом полулежал, опершись на руку, светловолосый парень с прозрачными глазами и разговаривал со здоровенным черноволосым мужчиной в форме. Федор узнал в них тех полицейских, что приезжали на вызов Дэва Медузова. Оба они едва заметно кивнули Федору и продолжили разговор.
– Кровать объята пламенем, шторы с треском падают, я вытаскиваю женщину в коридор, – рассказывал черненький. – И спрашиваю ее: «Может, вы курили в постели?»
Светловолосый, расширив глаза, слушал его, сдерживая смех.
– «Что вы! – пищит она мне. – Когда я легла, постель уже горела!»
Полицейские засмеялись, а с ними и Федор, с ужасом ощущая, что смеется из холуйского желания подлизаться к власти.
Зашел пожилой нахмуренный узбек с добрыми глазами, пышными черными бровями и короткими седыми усами. Пару минут он всматривался в растерянное лицо Федора, а затем, похлопав по плечу, пересадил его за маленький покоцанный стол, на котором лежал томик Омара Хайяма, а сам сел напротив. Это был дознаватель, Пиргали Фаридович Рашидов.
– Опять домашнее насилие, – сказал он, наклонив голову над раскрытой папкой. – Что это за слово такое, не узбекское? Достали эти феминистки.
Светловолосый встал, взял в руки кисть Федора и показал костяшки Рашидову.
– Костяшки чистые, Пиргали Фаридыч.
– Может, он лбом ей затылок раскроил? – спросил дознаватель и подмигнул Федору.
Светловолосый приблизил прозрачные глаза к лицу Реброва, потер пальцем его лоб, с подозрением осмотрел волосы. Попросил закатать рукава рубашки и осмотрел локти. Затем пожал плечами и вернулся к себе.
Федор, пытаясь понять, что они думают о его деле, вслушивался в каждое слово, всматривался в каждый жест полицейских, но ничего не понимал. Ему казалось, в каждом слове их была ирония, понимание, теплота, но умом осознавал, что если Рашидов признает в нем преступника, то с ласковым взглядом подпишет ему обвинительный акт. Все было честно в мужском мире.
Федор с трудом накалякал объяснение и поставил маленькую подпись. Рашидов в это время говорил по стационарному телефону, курил и пускал носом струйки дыма.
– Против тебя толстый дурень и старая ведьма, – сказал Рашидов, внимательно проверяя подписанные Федором бумаги. – Против тебя показания жены. Против тебя справка из травмпункта. Ты вляпался, дружище.
Он с заговорщическим видом подвинул ближе к Федору картонную папку и сделал знак, что сейчас будет секрет между мальчиками. Да, он вроде не имел права давать дело преступнику. В общем, «дело» попало в руки домашнего буяна, а Рашидов уставился на березы и запел узбекскую заунывную песню. Ребров изучил каракули врача, больше похожие на записи олигофрена. В справке было написано то ли про сотрясение мозга, то ли про кариес. Федор перевернул страницу и прочел заявление о преступлении. Говорят, гении пишут коряво, а каллиграфический почерк – свидетельство слабого ума. Заявление было выведено каллиграфически, с витиеватой буквой «П» в слове «преступник» и жирной «Р» в слове «Ребров». То был почерк человека-зла, но внизу стояла корявая закорючка Пелагеи. Федор взялся читать показания Дэва, но узбек выхватил у него папку.
– Разводись, дружище! – неожиданно сказал черненький. Он обернулся и свесил руку со спинки стула. – Поверь нашей черемушкинской практике, не сможешь ты жить с такой женой. Раз подала на тебя в полицию, значит, конец доверию, а конец доверию – конец семье. Спать с ней не сможешь, будешь думать, что заявление подаст!
– Да скажешь тоже, – возразил светленький, сморкаясь в платок. – Я живу и ничего.
– Тебе ничего, а нам каждую неделю упрашивать твою жену не подавать…
– Порфирий Петрович, не бил я! – крикнул Федор в отчаянии. – Я…
– Порфирий Петрович! – Рашидов поднял руки вверх.
Светловолосый захохотал, смахивая слезы, а черноволосый даже развернулся, багровый от смеха, и показал Реброву большой палец.
– А твоя фамилия случаем не Раскольников? – спросил Рашидов, сдерживая улыбку, но плечи его вздрагивали. – Что ж ты бабку… – Он, надув щеки, фыркнул и, сорвавшись, закричал высоким дурным голосом: – Бабку-то сразу не зарубил? – Рашидов отвернулся и, положив руку на серый сейф, затрясся от смеха. Он издавал ртом что-то похожее на «кх-кх-кх» и плакал.
– Порфирий… – вновь оговорился Федор и покраснел.
Уходя, Федор обнялся с полицейскими. Пиргали Фаридович с шутками и прибаутками проводил его, дав понять, что дела не возбудит – со здоровьем Пелагеи все было хорошо.
Он глянул на черные окна второго этажа хрущевки, долго звонил Пелагее, опершись локтем на крышу «мерседеса», а потом уехал в Переделкино. Пелагея советовалась с мамой, а Федор – с папой.
58
Через час Федор припарковал машину перед низеньким деревянным заборчиком и погасил ксеноновые фары. В Переделкино было солнечно и сухо. Бревенчатый домик, выбеленный известью, прятался за желтеющими рябинами. Зайдя во двор, Федор погладил выбежавшего ему навстречу охотничьего пса, оглядел стеклянную теплицу, баню и старые детские качели. Штора в окошке кухни сдвинулась, и за стеклом показалось лицо мамы. Увидев Федора, мама улыбнулась и замахала рукой. Папа вдали, за поляной, выкапывал вилами картошку. Он был в выцветшей штормовке с капюшоном и черных калошах.
Федор быстро выпил приготовленный мамой кофе, скинул шерстяной английский костюм и переоделся в садово-огородное. Одежда лет пятьдесят скапливалась на даче, отец вяло бунтовал, порывался сжечь, но сам первый ходил в дедушкиной телогрейке. Подвал дачи и вовсе был забит до потолка дорогими сердцу предметами из квартир всех поколений Душевиных и Ребровых. Там можно было найти печатную машинку, выжигательный аппарат, детскую коняшку, деревянные санки, пятнадцать комплектов лыж, два фотоувеличителя, дисковый красный телефон и пылесос «Ракета». Федор однажды хотел выкинуть печатную машинку, донес до мусорного бака и вернулся с ней обратно. У каждой семьи были свои ритуалы.
Вытащив из-под веранды вилы, он пришел к отцу и начал вскапывать пожухлые ростки. «Каково сейчас Иннокентию? – думал Федор, вытаскивая из рыхлой черной земли красные картофелины. – Каково ему, что мама живет в одном доме, а папа в другом?»
Пока Федор гнал машину к родителям, он вдруг перенес свое злое настроение на жену. «Понимаю, человек-зло и большой дурень… но ты сама чем думала, Пелагея? – размышлял Федор. – Что за глупая идея уходить из-за велоспорта? Кому скажешь, не поверят. Почему просто не поговорить? Но ладно ушла, почему не дала сына? Почему подала заявление в полицию? – На эти вопросы он не находил ответа. – Отец был прав, они странные люди. Черт! Черт! Черт!
Что мне делать?»
Федор от недовольства проткнул картофелину. Отец с улыбкой наблюдал за ним. Он сильно сдал в последний год, сгорбился, облысел и стал опираться на трость при ходьбе, однако не унывал, практиковал скандинавскую ходьбу, писал мемуары, занимался огородом и работал советником в Институте стратегических исследований.
Федор начал рассказывать, но вдруг дверца загончика между теплицей и забором открылась, и наружу стали выскакивать белые бройлерные куры. Кудахча и подпрыгивая, куры бросились врассыпную, словно их не кормили шесть дней. Отец с Федором кинулись ловить. Ребровы держали на даче кур, но когда наставало время забивать их – не могли решиться. Вот уже который год Матвей Ребров перед холодами сажал кур в проволочную клетку и отдавал соседу.
Заперев кур в загончике, отец уселся под зеленый навес на широкую качалку с мягкой спинкой и матрацем. Он держал во рту спичку и смотрел синими выпуклыми глазами вдаль. Федор сбил с калош прилипшие комья и сел рядом. Над деревьями виднелось закатное солнце. Пахло рыхлой землей. В соседнем леске пели птички. От пруда доносился звук моторной лодки. Федор, раскачивая ногами качалку, коротко описал отцу все события и грандиозный план спасения Иннокентия.
Как военачальнику привычно думать о войне, так и адвокату привычно думать о суде, даже если нужно всего лишь купить корм для рыбок. Федор считал необходимым подать десяток отвлекающих заявлений, жалоб и исков, направленных на деструкцию и деморализацию Недоумовой. Фоном он натравливал на нее полицию, пожарных, санитаров, службы дератизации, дезинфекции, защиты прав потребителей и антимонопольную службу. Венцом многоходовой комбинации Федор видел признание Недоумовой недееспособной и помещение ее в психиатрическую лечебницу. Пройдя кровавую школу корпоративных войн, он разучился мыслить просто.
– Пойми, пап, – говорил Федор. – Один день Пелагеи и Иннокентия наедине с Эридой Марковной равен пяти годам перед федеральным каналом. Недоумова быстро научит их говорить, кто виноват, и объяснит, кого ненавидеть.
Отец, передвигая спичку из одного угла рта в другой, сказал, что во всем случившемся виноват сам Федор, и призвал уважать мнения тещи и жены, какими бы они ни были. Касательно юридической многоходовки отец использовал ряд идиоматических выражений, в которых был мастер получше Серафимова. «Возомнил себя пупом земли», «око за око», «ахиллесова пята», «одного поля ягода», «шарики за ролики», «остепениться». В общем, отец запрещал сыну воевать с тещей. Они договорились, что Федор будет вежливо и терпеливо пытаться уговорить Пелагею вернуться. «Пойми, – сказал отец, – выигрывает тот, кто умеет быть терпеливым, остальным позже будет стыдно».
Федор укатил в офис, удивляясь, как много глупостей может натворить юрист, если не пообщается с нормальным человеком.
В офисе он переделал всю скопившуюся работу и вечером, верный совету отца, приехал на «Профсоюзную». Панельная хрущевка в темноте смотрелась как «Титаник»: горели окна, слышались веселые голоса, звон бокалов. Федор уставился в окна второго этажа и увидел Пелагею. Жена стояла перед окном в черном халате и заводила за уши прямые светлые волосы. Красивыми глазами она водила по улице в поисках, наверное, его. Перед ней стоял Иннокентий. Закрыв ладошками щеки от света, он прижался к стеклу носом и тоже высматривал. Они увидели друг друга и замахали руками. Внезапно сзади Пелагеи сверкнули глаза человека-зла, а маленькая костлявая рука утащила их и задернула штору. Федор рассудил, что на первый день он уже истратил лимит терпения и быстро ушел. Нужно было хорошо выспаться.
59
В одиннадцать утра Федор присутствовал в своем кабинете, но работать вновь не мог. Глядя в круглое зеркальце, он поднимал и опускал брови, собирая лоб в морщины. Вчера он не захотел идти в пустую квартиру и забрался в ирландский паб на Нахимовском, где выпил пять кружек темного пива, посмотрел английскую премьер-лигу, а пышногрудым официанткам с патронами рюмок на ремне, захмелев, с десяток раз признался, что человек он опасный, чуть что лезет в драку и вообще в розыске. С утра Федору было на все наплевать.
Дверь со щелчком открылась, и бочком в кабинет вошел Илья Мягков. Федор еще вчера хотел сказать Илье об уходе Пелагеи, но не успел. Федора вызвали на ковер к Серафимову.
Сейчас же Федор усадил друга перед собой. Некоторое время они молчали. Мягков, закинув на колено ногу в ковбойском сапоге, крутил в пальцах золотой портсигар с портретом Льва Толстого и щурился от солнечного света. Он вытащил было сигару изо рта, но засунул обратно. Мягков считал кубинские сигары неотъемлемой частью образа крутого писателя, как и вельветовый пиджак с накладками на локтях, и черный шелковый платок на шее.
Федор молчал, прикидывая, в каком месте разговора произнести продуманную им фразу: «Знаешь, от меня ушла жена». Он предвидел, что Мягков спросит: «Почему?» И подготовил ответ: «Она сказала, я превратил ее жизнь в ад». Звучало получше, чем «Она не хотела водить Иннокентия на велоспорт».
– Нет, я все понимаю, – Илья привычно свел разговор к своей любимой теме, – Кира хороший юрист, много зарабатывает, но ты пойми, она мне только задачки раздает. «Сделай то, сделай се!» – смешно изобразил он низкий, грудной голос жены и бесстрастное лицо.
Федор рассмеялся до слез, неосознанно копируя повадки Серафимова.
– Я писатель, а не нянька! – продолжал вдохновленный его смехом Мягков. – Эта работа дома просто жуть. Я начинаю читать сказку и засыпаю быстрее дочери. Я езжу с ней на фигурное катание за двадцать два километра! А Кира сидит там в офисе, штаны протирает и задачки мне придумывает! – Илья сморщил лицо, разглядывая змея на стене. – И еще теща выдумала жить многопоколенной семьей, черт ее побери. В квартире живет дед старообрядец, семья скрипачей с Чухломы, троюродная сестра из Одессы. Я часами не могу сходить в туалет, терплю, а меня выгоняют из дома! Эта Немезида ненавидит мужчин!
– Купируй ты этот конфликт, – сказал Федор, повторяя слова Серафимова. – Ты что, одного поля ягода с Немезидой Кизулиной? Махатма Ганди говорил: «Если все будут око за око, то человечество останется слепым».
Мягков несогласно мотал головой.
– Пойми, ахиллесова пята человечества – мстить друг другу! – повторял Федор идиомы отца. – Будь терпеливым с тещей, люби жену. Остепенись. Найди компромисс с тещей. Пойдем, проводишь меня.
Они вышли из офиса, направляясь к «Шоколаднице» на углу Спартаковской и Бауманской, где у Федора была назначена встреча с женщиной из центра медиации[14]14
Медиация – процедура урегулирования спора с привлечением посредника.
[Закрыть], порекомендованной отцом. Мягков шагал рядом, опустив голову. Ребров, обходя лужи и поглядывая на вывески банков, представил перед мысленным взором депутата Немезиду Кизулину, любившую заворачивать волосы в старомодную бабетту[15]15
Женская прическа в виде шара на макушке.
[Закрыть], как Бриджит Бардо. «Ласковая, внимательная, умная женщина, – подумал он. – Я б давно с ней договорился».
– Федя, советовать другому легче простого, – сказал Илья, угадав его мысли. – Ты со своей Недоумовой не можешь разобраться, а смотришь на меня снисходительно. Нет, с Кизулиной не договориться! Она считает, что только она права, а остальные неправы, а как что не так: «Уходи из моей квартиры к Грибу», будто Женя Грибоедов мечта моей жизни…
Они встали на перекрестке перед «Шоколадницей». Со звоном промчался бешеный красный трамвай с застывшими желтыми лицами пассажиров за окнами. Некоторое время Федор с Ильей молчали. Федор вглядывался в тучи над старинным розовым зданием с балконами на овальном торце. «Куда они все идут?» – подумал он, оглядываясь по сторонам. Большая толпа веселых, грустных, задумчивых, счастливых незнакомых людей собралась на этом перекрестке, чтобы раз в жизни встретиться и разойтись по своим судьбам навсегда.
– Послушай, ты мужик или кто? – сказал Федор, которому со вчерашнего паба все казалось легко и понятно. – Мужик если хочет стрелять – стреляет, а не болтает! Шучу, но ты понимаешь, о чем я? Хватит ныть. Если ты писатель – пиши. Если есть сложности – терпи. В семье либо ты приносишь деньги, либо работаешь домохозяйкой. В Строгино ему далеко дочь возить! – Он помолчал. – А вообще, странные мы с тобой люди, друг. Мы тратим самое дорогое, свою мимолетную жизнь, на пустые разговоры и глупые ссоры, хотя быстрей было бы не ворчать, а смиренно исполнить свой долг и потратить свободное время на счастье. Пройдут годы, мы умрем, будем гнить в земле и думать, какие мы были идиоты.
Мягков с удивлением посмотрел на Федора. Они перешли вместе с толпой и встали около «Терволины», рассматривая в молчании ряды ботинок и сапог. Вход в «Шоколадницу» был рядом, но оба они в малодушии еще не сказали главного.
– Знаешь, от меня Пелагея ушла, – произнес Федор и, сам того не ожидая, несколько раз поднял брови, как тренировал перед зеркальцем.
Илья вздохнул, но не от удивления или сожаления. Была одна причина, не дававшая ему удивляться и такая неудобная теперь, что он и не знал, как говорить о ней.
– Ужасная новость. Послушай, можешь одолжить мне две тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей? – спросил Мягков и пожал плечами.
Федор, усмехнувшись тому великому и малому, которое живет бок о бок, вытащил из кармана смятые деньги. Кошельки он не любил.
– Прости, но зачем тебе две тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей?
– Столько стоит букет роз в «Мосцветторге». Кира любит цветы!
Федор, улыбнувшись, пожал на прощание крепкую руку Мягкова и поднялся по винтовой лестнице в краснокирпичный зал кофейни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































