Текст книги "Крылатые качели"
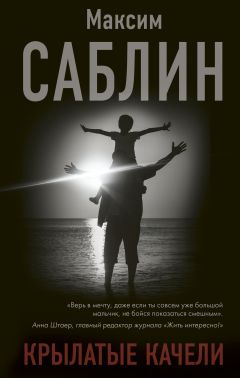
Автор книги: М. Саблин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
36
Они спустились по винтовой лестнице, набросили на плечи махровые мягкие полотенца и в сильнейший дождь добежали до деревянной бани. Раздевшись в маленьком холодном предбаннике, они быстренько запрыгнули в натопленную, черную от времени, крошечную парилку. Федор осторожно присел на раскаленные доски.
Пахло кедровым ароматизатором. Отец набрал в черпак клокочущей воды из бака над печью и короткими резкими движениями, с разных сторон, бросил на круглые камни. Раздалось шипение, такое долгое «шшшшш». Федор почти сразу почувствовал озноб от обжигающего пара, согнулся и зажал уши мокрыми ладонями. Они поговорили о чем-то постороннем, обсудили работу Федора и жизнь сестры в Нью-Йорке. Примерно через час, распарившись березовыми вениками, облившись теплой водой, они небрежно обмотались полотенцами, открыли дверь во двор и блаженно уселись в предбаннике. Разговор был продолжен.
– Но ты ничего не сказал про Пелагею! – сказал Федор, глядя на дрожащую яблоню в черноте сада.
Из сада дуло приятным холодом и дождевой пылью.
– Пелагея хорошая девушка, но она фанатично слушает своих родителей, – сказал отец, переложив их калоши с крыльца внутрь бани. – Будешь минералку? – Он налил себе и Федору, и они выпили из граненых стаканов, глядя, как в саду льет дождь. – Ты можешь мне сказать, что насоветуют ей такие родители? – Отец смерил молчавшего Федора долгим взглядом. – И я не могу сказать. А это плохо! Пойми, Недоумова с Медузовым странные люди. Они сидят целыми днями у себя дома, у них нет коллег по работе, нет практики разрешения конфликтов, нет элементарного опыта жизни в социуме! Я уж не говорю, что они воры! Как ты собрался с такими жить? Слишком много вопросов.
– Похоже, ты во всем прав, папа, – сказал Федор, повернувшись к отцу. – И все же я попытаюсь. Это моя жизнь, и я хочу прожить ее сам. В конце концов, я люблю Пелагею.
– Неправильное решение! – сказал отец, нахмурившись. – Я не могу запретить тебе тонуть, но подумай о детях. Ты не имеешь права рисковать жизнью своих детей. Ты не имеешь права порождать несчастных людей. Любовь – она для молодых, а дети – для взрослых.
Федор промолчал. Они еще поговорили, попарились и вернулись в дом, где на столе их ждал горячий чай с молоком, овсяные печенья и мармелад.
37
В середине июня две тысячи шестого года светловолосая Пелагея рожала в известном роддоме на Севастопольском проспекте. Федор, стоя сзади, держал ее за голову и желал сам рожать, чем наблюдать, ничего не делая, потуги и стоны старательной жены и слышать из динамиков пульсацию маленького сердца своего ребенка, боясь, что стук прекратится.
Родильная была квадратной комнатой из белого кафеля. Пелагея лежала в кресле, между раздвинутыми голыми коленями ее, прикрытыми простыней, виднелось сосредоточенное лицо акушерки.
– Все будет хорошо, все будет хорошо, – говорил Федор с надеждой и страхом. – «Даст бог, даст бог», – шептал он, хотя до этого дня был атеистом.
– Тужься! Тужься, дорогая! – повторяла, дожидаясь каких-то своих сигналов, акушер-гинеколог, ухоженная черноволосая женщина в шапочке и повязке, уверенно улыбаясь им одними глазами.
Федор следил за ее выражением лица, пытаясь понять, как идут роды, и лишь только глаза акушерки становились серьезными, ему делалось страшно. На экране справа мерцали в такт динамикам большие красные цифры пульса его ребенка, Федор вглядывался в них, молясь, чтоб значение не падало и не росло. Иногда экран гас, и Федор, слабея в коленях, чувствовал себя нехорошо, скорее сам уже держась за голову Пелагеи, чем поддерживая ее. Акушерка поправляла датчики, экран загорался, Федор наполнялся жизнью.
Пелагея зачем-то придумала, чтоб он пришел. Он не испытывал никакого желания присутствовать при родах, но беременным отказывать было опасно, и вот он стоял тут с серым лицом. «Нет, хорошо я не женщина! – Федор бережно держал вспотевшую голову Пелагеи ладонями, а локтями давил изо всех сил себе в ребра, чтобы оставить кровь где-нибудь в верхней части тела и не завалиться в обморок. – Это ужас, ужас и ужас вытерпеть такое! Все могу, только не рожать!»
Другой доктор, круглолицый бурят с седой аккуратной бородой и обиженным выражением карих ясных глаз, еще загодя предупредил, обрисовывая карандашом кривую трубку на снимке, что случилось двойное обвитие пуповины вокруг шеи ребенка.
– Таким образом, – каким-то особенно чистым русским диалектом говорил он, – может случиться удушение плода, гипоксия, вы понимаете? – Видимо, Федор не выглядел понимающим, и доктор долго обиженно разглядывал его лицо, пока Федор не кивнул. – Если пульс скакнет, мы будем экстренно делать кесарево, если успеем, ясно? – Федор кивнул, вынужденный постоянно кивать недоверчивому доктору. – И там как повезет, вы понимаете?
Через большое прямоугольное окно Федор видел соседнюю родильную комнату, такую же, как их, в белом крупном кафеле, где тяжело прохаживалась, держась за спину, располневшая маленькая женщина в светлом балахоне. На стене их родильной он видел солнечного зайчика, застрявшего в одном месте. В ушах стучало сердце плода, давно ставшего в его мыслях маленьким человечком, ведь он выставлял ножку через живот, икал и брыкался, когда Пелагея лежала с высокой температурой и Федор, боясь давать лекарства, растирал ее спиртовым полотенцем. Казалось, что время натянулось до предела, словно тугая резина, и не пускало ни ребенка родиться, ни Федора выдохнуть. Женщина в соседнем блоке бесконечно ходила, пульс ребенка пикал, Пелагея тужилась и стонала, сминая тонкими пальцами простыню, и это сводило с ума Федора, который ничего не делал и не мог делать.
«Вылезай, Ребров, вылезай из мамы!» – шептал он.
Вдруг прямо перед его глазами на свет появился новый живой человечек. Вывалившись каким-то слизким комком, сын был поднят вверх акушером-гинекологом и явил Реброву слипшиеся в космы светлые волосики на маленьком, вжатом в плечи мокром затылочке, синеватую длинную спину и распрямленные, как у лягушки, ножки. Одновременно сын часто закричал жалобным высоким голоском, каким плачут только новорожденные младенцы, и Федор ощутил в этот момент, где-то внутри груди, что навсегда полюбил его.
Обвитие и вправду было, но у младенца была фамилия Ребров. Он зажал пуповину пальчиками и выбрался живым.
«У меня сын, сын, сын!» – подумал Федор, чувствуя какое-то высшее счастье, вдохновение и легкость, словно к его душе прикоснулся Бог. Против воли глаза его наполнились слезами, он дышал редко-редко и только смотрел на маленькое тельце с синеватой длинной спиной. Ребенку, выдавив сильным щипком каплю молока, насильно дали грудь матери, тут же оторвали и перенесли на устланный заранее полотенцем белый пеленальный столик с бортиками. На нетвердых ногах Федор проплелся следом и влюбленно-испуганно смотрел то на акушерку, то на мальчика.
Пелагея возлежала в родильном бежевом кресле, приподняв располневшее от беременности, потное лицо, и просветленными, усталыми глазами любовалась ребенком. Федор переглянулся с ней, счастливо улыбаясь. Жена счастливо улыбалась ему.
– Спасибо за сына, Пелагея! – сказал он.
– Тебе спасибо! – сказала она каким-то новым, счастливым голосом.
На столике сына обтерли полотенцем. Он приподнял припухшие веки и мутноватыми темно-синими глазами, щурясь от света, удивленно посмотрел вокруг. Федор часто думал, как будет выглядеть его сын, понравится ли? Увидев же его, он почувствовал, что вот это самое сморщенное опухшее личико и удивленные глазки есть идеал лица и другого идеала быть просто не может. Проорав жалобно все время, пока акушерка в белом халате быстро и умело тыкала его пальцем в сокровенные места, ощупывала и растягивала, оценивая по шкале Апгара, а потом навешивала на руку зеленую бирку с фамилией, весом и ростом, сын решил, что на первый день жизни ему довольно потрясений, и уснул. Его укутали и отдали Федору, выгнав обоих в темноватый коридор.
Прижимая легонько новорожденного, стянутого столбиком шершавой простынкой, Федор чувствовал, как в груди теплеет. «У меня сын! Сын! – думал он, примеряясь к этой новой, смелой мысли и вглядываясь в припухший маленький носик и закрытые глазки. – Так я что теперь, отец? Федор Ребров – отец мальчика! – подумал он, примериваясь к ощущениям от этого нового, смелого слова. Слово это звучало солидно, красиво, слово это значило что-то веское, важное, слово это содержало какой-то архетипический божественный смысл, от которого Федор сразу зазнался, возвеличился и возмужал. – Дышит? – подумал вдруг он и, наклонив голову правой стороной, услышал тихие вдохи и выдохи. – Фуф. Дыши, сын!»
Много мыслей прошло в те моменты в голове Федора. «Передо мной новый человек, который произошел от меня и Пелагеи, – думал он, прохаживаясь по темно-зеленому линолеуму. – Для этого ребенка я и Пелагея – это весь его мир, боже мой, какая ответственность!»
Он подошел боком к мутноватому окну, стараясь плечом закрыть от сына яркий свет. Далеко внизу бибикали машины, пытаясь разъехаться в узкой дорожке за чугунным забором. Виднелся запруженный машинами Севастопольский проспект. Федору никак не верилось, что из этого малыша вырастет большой человек, способный сам ходить, говорить, принимать решения, любить. И если Федор, несмотря на прочтенных Спока и Сирсов, пока не представлял себе, как кормить, купать, одевать, усыплять ребенка, то глобальные задумки о его воспитании, занятиях, школе, университете уже были определены. Федор считал свое воспитание образцом и своих родителей лучшими и, не отдавая себе в этом отчета, готовился все делать, как они. Тут Федор заметил в стеклянной двери, ведущей к лестничному темному пролету, свое отражение, в зеленом халате, марлевой повязке и натянутой на голове больничной шапочке.
– Привет, сын! – сказал он спящему сыну. – Я – твой папа!
Федора позвали. Из отделения на плоской каталке с колесиками выкатили полусидящую на подушках Пелагею. Она прижимала к уху телефон, разговаривая с кем-то, правой рукой держала прозрачную трубку капельницы с раствором, серые глаза ее лучились ясным светом материнства. Она заметила Федора и опустила телефон.
– Все будет хорошо! – сказала Пелагея с теплом и задором в голосе, переводя счастливый взгляд с Федора на младенца, которого он осторожно показывал ей.
Она выпустила капельницу и мягко положила покрасневшие кончики пальцев на туго стянутый животик сына. Ребров сверху прикрыл ее ладошку, прислонив свое элегантное обручальное кольцо к ее, и легонько пожал.
Пелагею укатили в покои, а молодого отца с сыном отвели в небольшую светлую комнату с прозрачными люльками из оргстекла, где лежали другие спеленутые столбики, а в углу, закрытый огромной колбой, лежал, раскинув красные ножки и ручки, недоношенный. Федор положил сына в пустую люльку с персональной зеленой биркой и шатаясь побрел вниз по лестнице. На улице было солнечно и чудесно, асфальт был зарисован поздравлениями. Федор, неожиданно для себя, проплясал лезгинку и как сумасшедший побежал домой.
Часть четвертая
38
Федор поначалу ценил помощь Эриды Марковны, переехавшей к ним сразу после свадьбы, но довольно быстро люто возненавидел. Недоумова вмешивалась в его разговоры с Пелагеей и закатывала глаза от каждого слова. Конечно, она говорила Пелагее гадости и за его спиной. Пообщавшись с мамой, Пелагея начинала ненавидеть Федора. А Федор в эти месяцы частенько думал о том, есть ли на свете книга, в которой бы говорилось, что делать с тещами, но кроме книги о ядах на ум ничего не приходило.
Недели через три после рождения сына, устав от споров с Недоумовой, он встретился с Петькой в Варшавских банях. Они сидели в шестиместном отсеке за столиком, в длинном полутемном зале, где имелось еще несколько таких же отсеков. Было влажно, пахло пивом и селедкой, приглушенно работал телевизор.
Петр был из тех уверенных людей, что во всех банях любых городов России берут первенство, и только вернулся, весь в красных пятнах и раздражающе шумный, из парилки, где выгнал всех старожилов, выгреб листья и расплескал никем не понятый апельсиновый ароматизатор. Продолжая говорить, Петька аккуратно прилепил к маленькому стеклянному столику два картонных бирдекеля и поставил на них, выгибая кисть, стеклянные кружки темного пива.
Федор на секунду задумался, почему Варшавские Петька называет лучшими банями Москвы, вспомнив неплохие Сандуны, Покровские и Воронцовские. «Так он живет рядом!» – догадался Федор. В жизни Петьки произошли перемены. Женьку Грибоедова уволили из прокуратуры Москвы за пьянство, Петьку забрали из Гадюкино на место Гриба и поселили в общежитии на Азовской. Послышалась трель звонка. Развернувшись, Федор вытащил из брюк «Нокию Сирокко» с золотой задвижкой.
– Да в Варшавских мы! – закричал он Мягкову.
Федор договорил с Ильей и, дождавшись, пока старик отвернется, спрятал «Нокию» в брюки. В те времена в банях уже не боялись, что сопрут брюки, но за телефоны испытывали тревожность. Улыбаясь мыслям о Мягкове, он повернулся к Петьке.
– А ты что такой довольный? – спросил Богомолов, глядя на него пристальным взглядом и собираясь сказать гадость. – Я помню тебя на первом курсе. Спортсмен! Кремень! А сейчас ты тряпка! Как ты мог пустить тещу к себе на грудь? Выгони ее, пока она не выгнала тебя!
Петр всегда называл Федора тряпкой. Они оба вдруг рассмеялись и крепко пожали руки, как-то сразу поняв друг друга и радуясь, что есть верный, понятный, честный мужской мир – мужское отделение бани, огороженное от женщин охранниками, где они, Гераклы и Гефесты современности, могут спрятаться и спокойно поговорить.
Ребров сходил к парилке, убедился, что еще рано, и вернулся. Он посмотрел еще раз на темное пузырящееся пиво в кружке. Пелагея, обожая повторять свои наказы, трижды с садизмом в голосе и во взгляде потребовала с него обещания не употреблять. Федор трижды должен был произнести дословно то, что жена требовала, и только под этим условием был отпущен в баню.
– Обещаешь не пить пиво?
– Да, я обещаю не пить пиво.
– Ты точно обещаешь не пить пиво?
– Да, я обещаю не пить пиво.
– Скажи с нормальным лицом!
– Да, я обещаю не пить пиво! – сказал он с нормальным пионерским лицом.
Вообще, у Пелагеи были странности, произраставшие из дурного влияния Недоумовой. Послушать ее, так все друзья завидовали Федору и спаивали его. Послушать ее, так родители Федора только и мечтали, чтоб младенец заболел, раздевали догола, подбрасывали к потолку и варили в котле.
39
Поговорив с Петькой Богомоловым, Федор твердо решил выгнать тещу из своего дома. Представляя, как, подобно Зевсу-громовержцу, он сломает ногой врата своей обители и внезапно произнесет: «Эрида Марковна, у вас есть одна минута, чтоб исчезнуть!», Федор тихонько поскреб дверь своей квартиры. Раздался звук открываемого замка, и Федор протиснулся в темную прихожую.
Он сразу ощутил тяжелые запахи, положил на табурет кожаный портфель и начал снимать туфли. «Кому расскажешь, не поверят, – подумал он, подпрыгивая на одной ноге и рассматривая на стенах аккуратно развешанные травы, коренья, лягушачьи черепа, конские копыта и даже один мышиный хвост. – Потомственная ведьма она, боже мой!» Недоумова использовала этот суповой набор для колдовских отваров, заклинаний и наговоров. Правда, она портила Федору жизнь не ведьмовством, а дурным языком.
Из ярко освещенной гостиной вышла ему навстречу красавица Пелагея. Жена смотрела на него и улыбалась широкой игривой улыбкой. Она шла как модель, по одной линии, с неподвижными плечами и развевающимися светлыми волосами, одетая в тонкий халат с пальмами, островом и морем. Федор обнял ее за тонкую талию, поцеловал и пошел к сыну, которого не видел с утра и по которому очень соскучился.
В темной спальне было жарко и душно. На белом подоконнике, рядом с любимым кактусом Пелагеи, горела восковая свеча, ламинат светился пентаграммами, маленькая Недоумова прижимала к груди младенца, только вчера нареченного Иннокентием. Теща была одета в красную клетчатую юбку, плотную серую рубаху и кокошник с железными мульками. Федор решил отложить разговор громовержца на час.
Он забрал сына из рук Недоумовой и начал играть с ним. Недоумова напряженно смотрела на них, порываясь несколько раз отобрать внука, но Федор как бы случайно всегда закрывал мальчика спиной.
Наконец теща исхитрилась и отобрала Иннокентия. И ничего не оставалось, как уйти на кухню, где Дэв Медузов, подложив под себя жирную ногу, пил чай и глядел в старый обшарпанный ноутбук. Завидев Федора, он прижал ноутбук к большому животу и перебрался в гостиную. Тесть вел блог в «Живом Журнале», имел миллионы подписчиков и был в топе блогеров. Многим нравилась его умная болтовня.
Федор съел салат с сурепкой и южными томатами, кусок расстегая с семгой и визигой и выпил чай с облепихой и имбирем.
Недоумова имела одно неоспоримое достоинство – она вкусно готовила.
40
Набрав в грудь воздуха, Федор вбежал в душную жаркую спальню. Желтый свет свечи выхватывал в темноте влажный ротик младенца и блестящие глаза маленькой Недоумовой. Теща замотала Иннокентия в несколько пеленок, и сын вопил, дергаясь, как головастая гусеница. В советское время врачи вроде бы и советовали делать так, но в последнее время считалось, что младенцам полезно давать гораздо большую свободу, Федор сам видел, как иностранцы таскали своих новорожденных полуголыми даже на улице.
– Ты не умеешь его усыплять, – прошептала теща. – Уйди и закрой дверь.
– Да ему жарко, распеленайте его, – возразил Федор, сам сразу вспотев в душной комнате. – Можно я форточку открою, Эрида Марковна? Душно. Жарко. Проветрить бы. А вы бы пока…
– Только через мой труп! – перебила Федора Недоумова.
«Хорошенькая идея, но лучше я убью ее утром!» – подумал Федор, сжав кулаки, и решительно двинулся открывать форточку.
Недоумова подбежала к подоконнику и своим маленьким телом загородила путь.
– Он заболеет, а сидеть кому? – захрипела Недоумова. – Кто-то штаны на работе протирает, а мне сидеть! Пелагея! Пелагея! – закричала теща. – Он хочет форточку открыть! Представляешь, что он хочет? Быстрее сюда! Все сюда! Караул! Беда! Убивают!
Послышалось шлепанье ног и вбежала побледневшая Пелагея. Отстранив дочь, в спальню протиснулся огромный Дэв Медузов.
– Послушайте, Федор Матвеевич, – начал он бархатным представительным голосом, переходя на вы. – Вы хотите вреда своему сыну? Чтоб он заболел и умер? Чтобы выпал? Чтобы бактерии, пыльца, пыль?
Медузов жил в обществе женщин и, похоже, ничего не знал о мужской солидарности. «Говорят, в одной капле воды отражается Вселенная, – подумал Федор, – а тут в одном слове ясен идиот».
– У нас воздуха свежего нет, а вы, простите, чушь говорите! – ответил Федор, разозлившись. – А если я, гипотетически, захочу закаливать ребенка, что вы скажете? Смертельно опасно?
– Закаливать?! – крикнула Недоумова, ничего не поняв. – Да ребенку три недели. Нет, вы послушайте, что он еще выдумал! – Она переглянулась с мужем, и оба они, поджав одинаково губы, покачали головами. – Подумай о матери. Мать страдала, рожая тебе сына, а ты заставляешь ее нервничать. Да у нее молоко пропадет! – не унималась Эрида Марковна. – Ты иди на свою работу, а воспитание оставь нам.
– Пелагея, запрети ему открывать, – сказал Дэв Медузов бархатным голосом. – По Семейному кодексу, статья шестьдесят пять, отец и мать все, абсолютно все вопросы о детях должны решать по взаимному согласию. Пелагея, запрети ему! Ты мать! Ты бог в семье! Только скажи, и он юридически не сможет открыть форточку.
Федор удивленно перевел взгляд с маленькой тещи на большого тестя. Их влажные странные глаза блестели в пламени свечи. На демонически довольных лицах застыли одинаковые насмешливо-презрительные улыбки.
Пелагея, закрыв лицо ладонями, расплакалась и убежала в гостиную, успев перед уходом запретить Федору открыть форточку. Выгонять ее родителей стало неуместно, и Федор отложил это дело на следующий день и ушел спать на раскладушку в прохладную прихожую.
Так Федор стал членом клуба «мужья-что-дома-форточку-не могут-открыть».
Но однажды ночью он придумал хитрость. Он тихо пробрался в спальню, где, обняв Пелагею и Иннокентия, спала и страшно храпела Недоумова, и быстро подменил младенца на китайскую вазу, а сам ушел. Теща заворчала во сне и прекратила храпеть. Раздув широкие ноздри, она шумно повернула голову в другую сторону, потерла короткими пальчиками вазу и вновь страшно захрапела.
У себя на раскладушке Федор распеленал сына, и тот, задергав затекшими ручками и ножками, открыл блестящие глазки и заговорщически улыбнулся. Федор прижал к своему голому животу теплое тельце и заснул. Разбудил его юродивый крик Эриды Марковны, которая вместо внука обнаружила на кровати вазу.
Когда Пелагея разобралась, в чем дело, то смеялась до слез.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































