Текст книги "Крылатые качели"
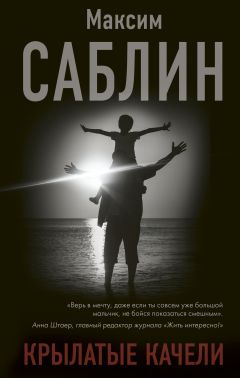
Автор книги: М. Саблин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
86
Бронированный черный «Хаммер» Ареса Велиалиди мчался по московской кольцевой, обгоняя самосвалы с лязгающими заслонками. Слева и справа от Иннокентия сидели мама и бабушка. Дедушка на переднем сиденье, надев на кончик носа очки, читал с телефона Фейсбук. Дядя Арес вел машину, прямой ладонью двигая ручку скоростей. Внимание засыпающего Иннокентия интересовал набалдашник этой ручки, в виде белой розы, запаянной в стеклянный шар. Дорожные фонари высветляли множество ртутно-блестящих пузырьков внутри. Арес Велиалиди, почувствовав взгляд, улыбнулся ему глазами в зеркале, Иннокентий улыбнулся в ответ. Ему было тепло и спокойно на душе.
Мама теплой рукой гладила Иннокентия по волосам и задавала вопросы. Мама спрашивала, мыл ли он руки, чем кормили, что делал, когда лег, с кем спал и ходил ли какать. Иннокентий сонно отвечал. «Пил кока-колу! – эхом повторяла бабушка, переглядываясь с мамой. – На голову упало весло. Дед ударил по попе. Прыгали в купель на улице. В ноябре!» Он перелег на мягкое плечо бабушки и, следуя вопросам мамы, вспоминал Переделкино. Он вспомнил уснувшего в кресле папу, укрытого шалью, вспомнил бабушку Татьяну, игравшую на пианино, вспомнил деда, певшего голосом Крокодила Гены. Чувство всеобщей любви наполнило его уверенностью, что все легко и просто.
– Мам! – тонким голоском сказал он, глядя в лицо мамы.
Он уже знал, что мама ушла от папы, но был уверен, что произошло недоразумение. Он думал, стоит ему честно все рассказать, как мама тут же поймет и все будет как раньше, когда он, держась за руки родителей, подпрыгивал высоко-высоко.
– Вернись к папе, мама, – сказал он сонным голосом. – У него столько медалей.
Мама вместо ответа ласково улыбнулась ему, поцеловала в лоб, и он сразу заснул. И вновь Иннокентий видел сон, как он плывет в берестяном каноэ с братьями по реке Амазонке и, зажимая рукой рот, издает клич индейцев. На желтом, истоптанном копытами берегу его провожает племя, разукрашенное белыми полосами и перьями. В центре – папа с мамой, по бокам дедушки и бабушки и все-все-все люди, которые любят его и которых любит он. И все они хором поют песню Крокодила Гены, улыбаются и машут братьям руками.
Может, мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет этот лист.
К новым приключениям спешим, друзья,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист.
Иннокентий мечтательно улыбнулся во сне и дернул ногой.
87
Слова Иннокентия о Федоре и медалях вызвали раздражение маленькой Эриды Марковны, и она, приподняв верхнюю губу, посмотрела на дочь. «Опять его подготовили!» – говорил ее взгляд. Недоумова привычно начала перечислять доводы против Федора.
Зачем Недоумова говорила то, что разводило Пелагею с Федором, она не знала и под таким углом не думала. Она не видела всю картину под названием «семья» и не догадывалась, что если вытащить хотя бы один малюсенький пазл или вставить новый, то гармония в картине может быть нарушена.
Выискивая с лупой недостатки на квадратных миллиметрах картины, она никогда не догадывалась отойти на шаг назад и посмотреть целиком. Если б она отошла на шаг, а лучше на километр, то увидела бы не только прекрасный рисунок, но и что пазлы картины неплохо притерты друг к другу. Пелагея, Федор и Иннокентий были скреплены любовью и доверием, терпимостью и снисхождением, ролями и ожиданиями, правилами и договоренностями. Имелись даже клапаны для стравливания давления – в виде редкого пива с друзьями, вина с подругами и запретной кока-колы. Неосторожно вмешиваться в эти отношения было так же опасно, как кинжалом править картину Пикассо.
Недоумова, имей она более совершенный аппарат мышления, отошла бы от картины гораздо дальше, чем на километр. Она бы увидела, что семья ее дочери – это часть большой картины под названием Москва. И чем дальше отходила бы Недоумова, тем более масштабное полотно могла бы увидеть. В конце концов она увидела бы картину всей планеты Земля и частичку бесконечного эфира Вселенной. Она бы тогда поняла, что задача семьи – не только бездумно опекать, но и научить ребенка жить самостоятельно в этом большом мире, а значит, понемногу давать ему возможность получать по голове веслом.
Эрида Марковна такими вопросами не задавалась и выковыривала то один, то другой пазл из картины. Если бы кто спросил ее, зачем она разрушала семью дочери и воспитывала Иннокентия нежизнеспособным, – она бы удивилась, думая, что она ничего такого не делала, а только давала отдельные советы, даже иногда весьма правильные и мудрые. Недоумова искренне верила, что делает дочь счастливой, а внука растит человеком будущего.
Стоило признать, представление Недоумовой о семье было не лишено математического изящества. Семья дочери виделась ей кучей бильярдных шаров, и своей задачей она считала отстреливать кием плохие шары и заменять их хорошими. Таким образом, она искренне верила, что замена Федора на любого другого мужчину из числа свободных была заменой одного бильярдного шара на другой.
Только была одна странность в построениях Недоумовой. Эрида Марковна, разрушая семью дочери, совершенно не знала, какой рисунок она хочет построить взамен, уверенная, что об этом думать – обязанность самой Пелагеи.
Пелагея, глядя на то, как растаскиваются пазлы из картины ее семьи, теряла спокойствие, металась, переживала, сходила с ума, и ее донимал вопрос: «Зачем я все это делаю?» Поначалу она твердо решила не ехать в Переделкино и долго держалась, но Меду-зов с Недоумовой жаждали отмщения проступка, дабы в будущем Ребровы знали, что шутить с ними опасно. Ночью Пелагея была переубеждена.
– Если бы не чертов закон, я б закатал их в асфальт! – кричал в негодовании Медузов.
– Иннокентия там мучают! – высоким голосом кричала Недоумова.
Все, что они там сделали с Иннокентием, было, конечно, страшным преступлением, в особенности КОКА-КОЛА (этого простить было невозможно), но Пелагея не могла не чувствовать успокоенного счастливого состояния сына. Ужас, но не так чтоб ужас-ужас. Может, Федор знал, что делал? Может, два мнения лучше одного? Глядя на ресницы спящего Иннокентия, она вдруг увидела свое одинокое тоскливое будущее, увидела несчастье выросшего без отца сына, и ее кольнуло в сердце. Она вновь спросила себя: «Зачем я все это делаю?»
Пелагея повернулась к матери. Эрида Марковна, улыбаясь мечтательной улыбкой, смотрела в окно на пролетавшие стойки электропередачи. Почувствовав взгляд, она обернулась к дочери.
– Мам, я тебя люблю, – сказала Пелагея и обняла маленькую Эриду Марковну.
– Ты же не хочешь вернуться к психу? – встревожилась та. – Он же…
– Завтра я вернусь к Федору, – перебила Пелагея. – И ни слова больше, мама!
Они приехали домой и легли спать.
Часть восьмая
88
Незаметно пролетели ноябрь и декабрь. Ни одна сторона не сделала ни шагу для сближения. Больше того, каждый считал, что заново открыл другого. Выходило, что Пелагея всю жизнь морочила голову Федору, а Федор превратил жизнь Пелагеи в ад.
Разрушало мосты к схождению назад и время. Схождение назад казалось очевидным в первый день, казалось возможным через неделю, а через два месяца уже никто не то что не хотел, но и не мог в силу человеческой гордыни вернуть все на прежние места. И если Пелагея уходила из семьи, убежденная Эридой Марковной, что это временно, что так надо для будущего счастья, что муж приползет, то после двух месяцев эти мысли Недоумовой счастливо забылись, и вспоминать их вслух считалось неприличным. «Я такого никогда не говорила!» – с обиженным лицом заявляла Недоумова.
Человек-рептилоид, оттопырив мизинец, каждый вечер пил фужер игристого шампанского. В мелких схватках с настоящим юристом он неизменно выходил победителем, и это льстило его самолюбию.
Человек-зло, в предвкушении долгой счастливой жизни с дочкой и внуком, готовила лучшие сельдерейные отвары. Препятствия к абсолютной власти исчезли, и человек-зло могла воспитывать мальчика так, как считала единственно правильным.
Пелагея, наученная Медузовым, изощренно лишала Федора общения с сыном. Лишь только Федор собирался прийти – с Иннокентием случались разные дела. Иннокентий как проклятый делал уроки. Иннокентий ходил на дни рождения всех мальчиков и девочек района Черемушки. Иннокентий мчался на премьеры детских спектаклей, словно был театралом в шестом поколении. Иннокентий посещал сотни экскурсий. Иннокентий неделями подозревался на грипп, ангину, скарлатину и корь. Иннокентий уставал. Иннокентий часами готовился ко сну.
Федор же совершенно заболел синдромом Туретта, сообщения его к Пелагее сопровождались подзаборными ругательствами. Он надеялся, что чем точнее обзовет родителей жены, тем скорее Пелагея согласится с ним, но, похоже, ошибался. Ребенка он не получал, Медузов с демонической ухмылкой пересылал сообщения в адвокатское бюро, а Недоумова звонила Серафимову и убеждала уволить безнравственного сотрудника. Иван Иванович внимательно выслушивал ее речи, вызывал Федора и вел с ним задушевные разговоры.
В квартиру Пелагеи все чаще наведывался дядя Арес Велиалиди, играл с Иннокентием в войнушку, расстреливая резиновыми присосками иностранных солдатиков, строил звезду смерти из лего-конструктора и ел на кухне спагетти, болтая с мамой. Иннокентий не знал, что Арес ходил свататься, а Пелагея каждый раз отказывала.
Жизнь Иннокентия шла своим чередом. Мальчик сотрясения мозга не получил, не простудился и даже выжил после кока-колы, но происходящее в семье не могло не влиять на него. Нельзя было вот так просто, как думала Недоумова, вырезать отца из жизни сына и продолжать жить как ни в чем не бывало. Иннокентий разговаривал со сверчком, гримасничал, часто моргал и видел ночью ведьму с черным волком. Согласно определению суда Пелагея с Федором ходили в институт психиатрии имени Сербского, где было проведено психолого-психиатрическое исследование Иннокентия и детско-родительских отношений. Психиатр, крупный квадратный мужчина с блестящими линзами очков, обещал прийти на заседание и рассказать результаты.
Но были и радости в жизни мальчика. Каждый день ровно в восемь вечера Иннокентий брал с подоконника спальной комнаты маленькую пластиковую лейку, деловито набирал из стеклянной литровой банки отстоянной воды и возвращался поливать кактус цереус. Эрида Марковна в умилении терла глаз платком, не догадываясь о правде. Иннокентий не просто поливал кактус – он наблюдал на улице куст рябины, за которым прятался его отец. Они незаметно махали друг другу и расходились, улыбаясь своему мужскому секрету.
Сам Федор фанатично верил в лучшее. Он ездил на работу, тренировался на треке и боролся за сына. Предварительное расследование по уголовному делу он приостановил. Орган опеки он убедил в равенстве жилищных условий. Оставалось ждать комиссии. Федор даже иногда радовался, что остался один. Одиночество было ему как холодный душ, от которого он взбодрился и увидел жестокую правду мира.
Мягков и Богомолов в эти месяцы, как и Федор, фанатично верили в лучшее и титаническими усилиями разламывали препятствия. Илья Мягков, не обращая внимания на писательский кризис, на запрет видеть дочь и на перебранки Грибоедова с Недотроговой, гнал смельчака-моряка к финишу романа. Он, казалось, сросся с маленьким столиком у окошка кухни, сидя за ним по двадцать часов в сутки. Мягков пил по двадцать чашек кофе, исхудал, отрастил длинную бороду-лопату, громко говорил вслух и имел вид то ли безумца, то ли настоящего писателя. Богомолов, после отказа шефа, пыхтел в кабинете не меньше друга-писателя и терпеливо ждал своего шанса стать заместителем прокурора Москвы.
Отвлекаясь от забот, друзья иногда встречались. Богомолов купил коттедж в Мытищах и убеждал всех, что лучшие бани теперь в Мытищах и только по счастливой случайности его дом находится рядом. Петька был Петька – они пожимали плечами и ездили на край света. Петька с Федором обычно говорили. Илья, привалившись к спинке, спал.
89
Двадцать третьего декабря две тысячи тринадцатого года, накануне второго судебного заседания, снег таял. В Москве все перепуталось: оппозиционеры стали тихими, партии одинаковыми, а погода и вовсе никудышной.
Примерно в два часа дня Федор сидел в переговорной адвокатского бюро и неспешно переключал слайды презентации. Общий свет был выключен. В темноте блестели глаза суровых мужчин: один, лысый, в дорогом костюме и с перстнем, был юрист, двое других, в джинсах и футболках, – владельцы крупнейшего в Европе бизнеса. Федор объяснял доктрину снятия корпоративной вуали, как вдруг раздался звонок. Ему позвонили из органа опеки и наказали быть через час на комиссии по Иннокентию. Он глянул на часы – успеть можно было только на метро и только прыгая через три ступеньки эскалатора. «А ведь могли и вообще не позвонить!» – подумал Федор, стараясь мыслить позитивно.
Клиентов перехватил Серафимов, а Федор, как был в туфлях, помчался по лужам к Бауманской, на ходу влезая в пальто. На перроне было шумно. Толпа людей готовилась к штурму поезда. Федор, опершись спиной на постамент советской статуи Командира, затолкал в мокрые носки газету из портфеля, как делал на сборах с мокрым велоджерси. Из туннеля вылетел поезд.
Администрация Черемушек, в составе которой числился отдел опеки и попечительства, занимала пару помещений в длинном жилом доме на Новочеремушкинской, 57. Через пятьдесят минут после звонка вспотевший Федор стоял возле стеклянного тамбура и успокаивал дыхание. С навеса стекали капли и дырявили рыхлый снег. Две собаки играли и лаяли у промокшего стенда с информацией. Пахло ледяной водой. Мокрые ноги грела газета.
Федор вошел в маленький коридорчик с одинокой тусклой лампой. Справа виднелась приоткрытая дверь с табличкой «Глава администрации муниципального округа Черемушки». Через щелку падала полоска света и слышался женский голос. Слева пил кефир и смотрел телевизор худой старик в форме охранника. Женщина с усталым, изможденным лицом монотонно читала детскую книгу высокой девочке с косичками. Поодаль Федор увидел Пелагею в красивом красном платье. Она была одна. Кира с Ариадной, как он позже узнал, адвокатствовали на важных судебных процессах и попросту не могли внезапно все бросить, а Недоумова с Медузовым страшно боялись ходить в официальные учреждения. Посмотрев на Федора серыми большими глазами, жена завела за уши светлые длинные волосы и смущенно улыбнулась.
Из зала заседаний вышла довольно костлявая, но очень красивая девушка с золотыми кудрями и голубыми глазами. Она была одета в свитер с двумя оленями и зеленые джинсы. Тонкие ножки ее были похожи на спички. Готовясь к иску, Федор узнал каждого члена комиссии не только в фас, но и в профиль. Девушку звали Геральдина Маскеева, она любила Kenzo, была главным специалистом отдела опеки и вела дело Федора. Она ушла от мужа, жила на Севастопольском и растила дочь. Очевидно, она много знала о разводах и графиках встреч; правда, возникал вопрос, много ли она вообще понимала в жизни?
– Иванова и Гамсахурдия здесь? – спросила Геральдина, не выпуская ручку двери.
Женщина с маленькой девочкой захлопнула книгу и прошла внутрь. Федор уселся на ее стульчик, положил на колени портфель и завозился с заедавшей блестящей застежкой. Вытащив исковое заявление, он вдруг задумался.
«Иванова и Гамсахурдия? – подумал Федор. – Вышла замуж за грузина? Грузин бросил? – гадал он, ощущая в себе страшное беспокойство. Он вдруг понял, что никогда еще его судьба не зависела от такого непонятного учреждения, как администрация района. – Зачем она привела на заседание маленькую девочку? – размышлял Федор, пытаясь отвлечься. – Чтоб дочь знала, какой преступник отец, или просто ее некуда девать? Или Гамсахурдия – фамилия девочки и женщина удочеряет ее? Поди разберись в чужой жизни!»
Федор, тряхнув головой, начал читать иск, но тут в коридор, стаптывая с обуви мокрый снег, зашли двое: улыбчивая высокая женщина в голубом пальто, похожая на Снегурочку, и маленький мужчина с приветливым типом лица, обвязанный пышным шарфом. Позже выяснилось, что он был француз. Сняв короткую шляпу с перышком, он галантно кивнул Федору, угадав в нем соратника по несчастью.
Женщина с девочкой почти сразу вышли со счастливыми лицами, и зашел француз со Снегурочкой. Заседание француза шло два часа. Вначале они говорили тихо, слышались смешки и приятные слуху французские словечки, как вдруг голоса возвысились до крика. Федор, от нечего делать, смотрел телевизор, но и там кричали: в Киеве разгоняли палаточный городок.
«Такое чувство, что люди скоро перестреляют друг друга!» – мрачно подумал Федор и залез листать Фейсбук. У него возникло странное чувство, что пока он ладил с Пелагеей, весь мир был счастлив, но стоило им поссориться, как в мире все пошло наперекосяк. Религиозные фанатики резали друг друга, террористы сходили с ума, взрывались бомбы. Даже в братском Киеве, где они с Пелагеей, вымокшие до трусов под майским ливнем, однажды бежали по Крещатику, опять началась революция. «Почему люди воюют? – подумал Федор. – Можно танцевать, петь и веселиться, так нет, им хочется перерезать друг другу глотки!»
Федор каждые десять минут менял положение тела, вставал и ходил по коридору. С улицы заглянул седой почтенный мужчина и с растерянным лицом спросил, тут ли биржа труда. Когда все уже казалось иррациональным и абсурдным, дверь вдруг с силой раскрылась, ударив ручкой по стене. Федор заметил на стене приличную вмятину от прежних заседаний.
Француз с багровым лицом выбежал на улицу, следом вышла женщина с просветленным, лучистым лицом. Она подмигнула Пелагее и тоже ушла, оставив весенний аромат французских духов. Пригласили Федора с Пелагеей.
90
Федор вошел в прямоугольный кабинет. У единственного окна стоял длинный страшный стол, за которым сидели множество неуклюжих людей. Кабинет освещался только светом из окна, лица членов комиссии по делам несовершеннолетних казались черно-белыми. У двери рос карликовый померанец. На серой стене висела страшная расчлененка Кандинского. Было холодно и пахло шваброй. «Никто и не обещал, что администрация района будет массажным кабинетом, скорее стоматология», – подумал с ужасом Федор.
Члены комиссии едва оглядели вошедших и продолжили с волнением обсуждать прошлое дело. Геральдина усадила Федора с Пелагеей в конец стола, словно жениха и невесту, а сама, обойдя всех, уселась на противоположной стороне, рядом с толстой старой женщиной. Федор, хотя и ослепленный светом из окна, опознал ее. Это была Бухарикова Олимпиада Макаровна, начальник отдела опеки и попечительства Черемушек. Бухарикова была старой женщиной с отстраненным пустым взглядом, крупным мясистым лицом и вывернутой нижней губой. У нее была прическа «площадка», не хуже, чем у Грейс Джонс, разве что желтая. На каждую щеку она любовно приклеивала черные завитушки.
Геральдина Маскеева подвинула Олимпиаде Бухариковой папку, и начальник отдела опеки принялась неторопливо листать страницы толстыми пальцами. Федор, раскладывая на столе бумаги, осматривался. Членов комиссии было не так много, как сперва показалось Федору, – всего двое мужчин и целых четыре женщины.
Вообще членов комиссии по делам несовершеннолетних значилось одиннадцать. Отдел опеки и попечительства представляли Бухарикова с Маскеевой. Остальные подбирались из госучреждений, что следили за детьми в Черемушках: наркологических диспансеров, отделений внутренних дел, местных советов депутатов, органов социальной защиты и пр. Только один мужчина был просто отец шестерых детей – похоже, он пытался прокормить их и работал на всех работах. Участие в комиссии для госслужащих было непонятной, неизвестной, непрофильной, ненужной работой, так что все они старались увильнуть. В результате из одиннадцати и приходило шестеро, минимально достаточных для кворума.
Федор, готовясь к выступлению, невольно подслушивал разговор о предыдущем деле. Француз, имевший французское имя Паскаль, просил комиссию отдать тринадцатилетнего сына ему, чтоб жить в Париже, гулять по Монмартру и учиться в Сорбонне, а трехлетнюю дочь соглашался оставить матери. Женщина была категорически против, и комиссия единогласно оставила детей в солнечных Черемушках.
– Но мальчик взрослый! – все еще спорил отец шестерых детей, взъерошивая редкие волосы. – Мы должны были учесть возраст ребенка, перспективы… Да и Паскаль богат. Париж, о Париж! – мечтательно говорил он. – Почему он не усыновил меня?
«И Недоумову, она неплохо готовит!» – подумал Федор, вертя перед глазами фотографию. На фотографии маленькая Эрида Марковна, стоя на носочках и сверяясь с учебником Алибека Египтянина, развешивала на проволоку хвосты мышей.
– Я за революции, но не в мою смену! – отвечала ухоженная дама средних лет со смеющимися глазами и длинными черными ногтями. Это была депутат муниципального собрания. – Когда мальчик вырастет, пусть едет хоть в Гонолулу, а пока он останется с мамочкой. – Депутат несколько секунд размышляла, царапая ногтем стол и многозначительно переглядываясь с другими женщинами. – И потом, этот Паскаль – мужчина, а значит, алкоголик!
Отец шестерых детей, переглянувшись с черноволосым мужчиной, хмыкнул и промолчал. Все члены комиссии, сделав какие могли серьезные лица, уставились на Федора с Пелагеей.
– Геральдина, где заключение? – спросила Бухарикова густым высоким голосом, свойственным полным людям.
Маскеева, заканчивая говорить по телефону, ткнула тонким пальцем в желтую закладку. Олимпиада Макаровна искусно поддела ногтем нужную страничку и быстро прочла, стреляя глазами то в Федора, то в Пелагею.
– Вам слово, отец мальчика!
Внезапно открылась дверь, пол заскрипел, как от человека восьмидесятого размера, но вошла очень маленькая, очень юная и очень тоненькая девушка в сером деловом костюме. Похоже, государственная должность придавала ей немалый вес. Это была глава администрации района Черемушек Давыдкина. У нее было усталое, не по годам, выражение лица и холодные бесцветные глаза. Глава администрации, как показалось всем, с неудовольствием нашла в кабинете людей и сразу вышла.
– Подождите! – вдруг закричала Геральдина и бросилась к двери, подхватив бумаги. – Подпишите заключение! Неделю назад, помните? Типовое!
– Нет! – послышался строгий голос. – У меня аудиенция!
Геральдина скрылась в коридоре и закрыла за собой дверь. Пока члены комиссии, осторожно подглядывая в экраны своих телефонов, ждали возвращения Маскеевой, Федор, перекидывая по столу золотой паркер, смотрел в окно на проезжающие по раскисшей жиже машины и пытался составить мнение о главе администрации, в чьи маленькие красивые ручки попала судьба Иннокентия. Комиссия чаще всего соглашалась с мнением отдела опеки, а мнение отдела опеки определялось Давыдкиной. И Давыдкина подписывала официальное заключение для суда, которое готовилось Геральдиной на основе решения комиссии.
Из недр памяти всплыла биография главы администрации. Главе администрации было двадцать четыре года. С самого рождения Давыдкина твердо решила стать политиком – по крайней мере, так писали в Интернете, а Интернет всегда прав. В тринадцать лет она вступила в молодежное движение «Ходящие строем», неофициально подрабатывала в предвыборных штабах партий, не ходящих строем, пока не нашла ту единственную партию, с которой то ли совпала взглядами, то ли могла попасть в Государственную думу. Впрочем, имелось и то и другое: мечта политологов – сохранить во власти разные взгляды, мечта самых умных политиков – совпасть взглядами с партией власти.
Окончив школу, Давыдкина выбрала специальность политолога, только ошиблась с вузом. Великосветский институт Кайзера Вильгельма Первого, побратим Академии суфражисток Эбигейл Адамс, вместо того чтобы сделать политолога, выпустил политика.
Ко дню заседания комиссии Давыдкина была членом партии власти, активным участником партийных съездов, собраний, совещаний и аудиенций, имела договоренности о будущем депутатстве в Госдуме, а пока управляла Черемушками.
Вернулась пунцовая, с надутыми губами Геральдина.
– Не подписала!
Она уселась на стул и застыла, глядя невидящим взглядом на документы Федора. Бухарикова, побарабанив пальцами по приклеенным на щеках завитушкам, объявила заседание комиссии открытым, как вдруг красивая светловолосая женщина со строгим лицом, начальник отдела по работе с несовершеннолетними преступниками Черемушкинского ОВД, помотав по сторонам головой, как бы испрашивая согласия на реплику, подняла строгие ясные глаза на Федора.
– Перед тем как вы начнете, хочу сказать вам, молодой человек, – произнесла она. – Я очень рада, что вы хотите воспитывать своего сына. Мы так редко видим отцов…
– Похоже, они просто не успевают приехать. – Он с улыбкой посмотрел на звонившую ему Геральдину. – От себя могу добавить одно: я мужчина, но я не алкоголик!
Отец шестерых детей, посмотрев на депутата, рассмеялся. Женщина, оторвавшись от разглядывания черных ногтей, смерила Федора взглядом кобры перед броском. Он встал, ощущая в носках размякшие газеты. Светловолосая Пелагея, наблюдавшая за ним снизу, так жалко улыбалась, что он почувствовал себя чудовищем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































