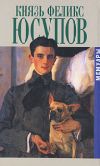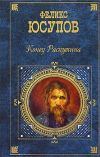Текст книги "Мой отец генерал (сборник)"

Автор книги: Наталия Слюсарева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
Я была молодая мама и единственная понимала абсолютно все, что мне говорила моя трехлетняя дочка.
– Наташа, что она говорит? – переспрашивала меня в свою очередь мама, которая, в общем, хорошо понимала Анечку.
– Асика ать...
– Масик хочет идти гулять, – объясняла я.
– ...етели...
– На качели, – снова поясняла я.
– Ах, мое солнышко, – понимала уже мама. – Пойдем, пойдем на качели. Сейчас бабушка повяжет масику шарфик, чтобы не надуло, наденет варежки на веревочках и... на «етели».
Но в тот раз случилось все как раз наоборот: мама сразу поняла, а я как раз ничего понять из того, что говорила Анечка, не могла. А говорила она немного, только одно слово: «ши». Ее как раз завели в дом с холода. Привела ее из садика мама. Только я оттянула шарфик с ее ротика, тут она и произнесла свое первое – «ши». Щи, что ли, она хочет, удивилась я про себя столь сложному кулинарному понятию. Но не стала уточнять, а стала ее быстро распаковывать, снимать шапочку, расстегивать комбинезончик. Вынимать ее, потненькую, из одежек. «Ши», – еще раз сказала она, давая мне свою крепкую ножку в ладонь, чтобы я стянула сапожок. Не успели мы Анечку раздеть и отвести сначала в туалет, а потом мыть ручки, как в дверь позвонили.
Опля! – стоит передо мной старинный приятель Володя, или лучше даже Вовка, с бутылкой шампанского и букетом роз. В костюме, рукой галстук поправляет, загадочный, то ли клинья ко мне подбивать... пока непонятно.
Веду я его на кухню, которая у нас вместо приемной, и туда же мама заводит Анечку с вымытыми ручками из ванной. Малышка увидела его и говорит, точно к нему обращаясь, громко и радостно:
– Ши!
Мама закатилась смехом.
«О, так она понимает», – обрадовалась я.
– Мама, что она говорит?
– Ой, да ладно, – отмахивается мама, – не важно. – И начинает Анечку причесывать, перевязывать у нее на головке огромный голубой воздушный бант.
– Ши, ши... – настойчиво возвещает Анечка, подпрыгивая у бабушки на коленях, обращая эту тираду в основном к гостю, к Вовке.
– Тамара Петровна, что она такое нам говорит? – интересуется он. – Ну, скажите.
– Ой, – опять машет на него рукой мама и смеется, – я не могу.
– Мам, ну, действительно, скажи нам, что это такое за «ши» – карандаши, мыши?
– Идите лучше в комнату, поговорите, а мы тут с Анечкой побудем.
И только мы зашли в комнату и Вовка внутренне к чему-то приготовился и взял меня нежно за руку, продолжая глядеть в глаза (а я хоть и была матерью, но женщиной свободной и молодой), и только он открыл рот, чтобы сказать что-то свое, как, оторвавшись от бабушки, с устроенным по-новому, еще более пышным, бантом, вбежала Анечка – и сразу к нему, как к распорядителю всех парадов: мол, такое-то отделение к построению готово, товарищ маршал. «Ши», и баста!
– Господи, да что же это такое? – не выдерживаю я и, оставляя своего кавалера с Анечкой наедине, спешу на кухню к маме, чтобы расставить наконец все точки над «i».
Я не вернулась к Вовке. Я сидела на кухне и тряслась от смеха. «Ши, ши...» – доносилось из комнаты. Через пять минут Вовка сам появился на кухне, держа Анечку на руках:
– Ну, скажите же мне, в конце концов, что же это такое?
– Ой, уйди ты, ради бога, – в свою очередь замахала я на него руками. – Уйди с глаз, а то я умру от смеха... мне в ванную надо, у меня тушь течет. Мама, закрой за ним дверь.
Вовка больше так и не вернулся и не перезвонил. Наверное, подумал, что женщин понять нелегко и вообще с ними трудно.
А Анечка хотела нас всех обрадовать. Оказывается, в детском садике, в их группе, нашли вшей, о чем им сказала воспитательница. И Анечка, придя домой, хотела донести нам всем, что как же хорошо и замечательно, что обнаружены вши у некоторых детей в их детском саду «Солнышко».
ЛИНДАУ Линды была узкая мордочка и белый воротничок, переходящий в галстук. Она была небольшая, вся черная, и в тот день на ней был ошейник без поводка. Вначале я ее не хотела, не захотела. Потому что она – собака, дворняжка, но даже если бы она была и не дворняжка, а собака какой-нибудь редкой породы – борзая там или китайский пекинес, все равно животные в доме – это недопустимо.
Только что я вышла на наш проспект из радиального выхода метро и повернула налево к дому, как откуда-то прямо перед моим носом из темного двора вывернулась небольшая собачка. Она бежала чуть левее от меня, немного впереди. Когда я поравнялась с ней, она повернула ко мне свою узкую мордочку и улыбнулась, да, именно так. «Надо же, какая славная собачка», – подумала я. А вслух ей сказала: «Ну что, бежишь? Ну, беги, беги...» И все. Потом я углубилась в свои мысли и в свой воротник, потому что на улице стоял не то что сильный мороз, а прямо-таки лютый мороз – за минус двадцать. До дома от радиального метро пешком – две остановки, и на светофоре – на переход. Я перешла проспект и почти сразу же наткнулась на свою сестру, которая вышла из нашего подъезда за сигаретами. Я столкнулась с ней у табачного киоска рядом со светофором.
– А что это за собачка? – спросила она меня.
– Собачка? – в свою очередь переспросила я. – Какая собачка?
– Да вот...
И сестра взглядом показала мне под ноги. Я высвободила лицо из высокого воротника шубы и глянула вниз. Рядом с подолом моей серой шубки из лисьих хвостиков стояла та самая черная собачка, которую я встретила у метро, глядела на меня снизу и улыбалась.
– Надо же, действительно собачка, – ответствовала я, сама удивляясь – что ж это получается, она, выходит, за мной от метро две остановки бежала и даже проспект перебежала?
– Так откуда она взялась? – допытывается Елена.
– Да не знаю я. Я из метро вышла, а она уже впереди меня бежит.
– Видишь, на ней ошейник, – продолжила сестра. – У нее хозяин есть. Она точно потерялась.
– Ой, ну ладно, – тороплю я сестру в свою очередь. – Ты что, теперь будешь ее хозяина искать? Ты сигареты купила? Гляди, какой мороз. Давай домой, нечего нам тут мерзнуть.
Все это я, конечно, быстро говорю, потому что одновременно вижу взгляд Ленкин, а взгляд у нее уже просящий и умоляющий. Вижу я, что хочет она эту собачку взять. Но, с другой стороны, сестра на меня глядит как на старшую, и знает, что я, точно как и мама, совершенно окончательно и бесповоротно против животных в доме. Мы уже тогда с сестрой вдвоем жили в нашей квартире.
– Лен, – начинаю я сверхстрогим голосом. – Ты представляешь, что такое животные в квартире? Кошки воняют, царапают когтями обои. Собаки лают, пачкают после улиц лапами в коридоре дорожки, шерсть кругом. Их надо выводить каждый день, кормить, смотреть. Нет, нет и нет. Жа мэ!..
В ответ на мою тираду Елена секунду молчит, гладя собачку, а потом воздействует на мой всеобщий гуманизм следующим предложением:
– Знаешь, сейчас уже десять часов вечера. Давай ее возьмем только на одну ночь, дадим ей что-нибудь поесть. А завтра уже отпустим. Холод-то какой. Жалко.
Мне тоже жалко такую славную собачку. И холод декабрьский я чувствую. И понимаю, как это – в собачьей шкуре, хотя сама – в лисьей.
– Ладно, – соглашаюсь я. – На одну ночь можно. – И, обращаясь к собачке, говорю ей как старшая здесь всего: – Пойдем, собачка, с нами.
Ленка на радостях купила вторую пачку сигарет. И мы втроем вошли в подъезд, вызвали лифт и – так же втроем – вошли в нашу квартиру.
Пока на кухне собачка ела и согревалась, стали мы думать, как ее назвать на то время, пока она у нас. Не можем же мы ей все время говорить – собачка. Решили дать ей имя Линда в память о нашей бестолковой лайке Линде, которая жила с нами в подмосковном гарнизоне, и, заметим, не в доме, а во дворе, в собачьей конуре, как и положено, но все равно однажды она вырвалась и убежала. После ужина Лена забрала Линду в свою комнату и закрыла дверь, чтобы мне не мешать.
Утром я выпила свой кофе со сливками. Вошла в комнату сестры, забрала собачку и, посвистав что-то вроде: «Линда, идем, идем», вывела ее во двор. Потом вернулась домой и занялась своими делами. Ближе к вечеру Лена собралась выходить за сигаретами. Она распахнула дверь и наткнулась на Линду, которая сидела на половике под нашей дверью.
– Ничего себе, – удивилась я, подходя к двери, – сколько же она тут сидит под дверью? И не лает...
– Слушай, – затянула свою вчерашнюю шарманку сестра, – холодно на дворе. Давай мы ее сегодня покормим, а завтра уже...
– Ну ладно, давай... – соглашаюсь я, я ж не Гитлер какой, тем более что против моего тезиса «не жить с животными под одной крышей» никто не возражает. – Но только до завтра.
На следующий день ударили такие морозы, что, разумеется, выпускать Линду в такой холод было бы верхом всяческого бессердечия. Прошло три дня. На четвертый день пошел мягкий пушистый снег. Началась оттепель. И я вошла в комнату сестры. Сестра все время молчала и только лупилась на меня своими серыми глазищами. Я приладила к ошейнику из веревки что-то вроде поводка и повела крутящуюся у моих ног веселую сытую собачку, повела ее, совсем не сопротивляющуюся, как мачеха падчерицу, подальше в глухой лес, чтобы привязать ее к темному стволу, на съедение злым зверям.
Мы вышли из подъезда, и я оглянулась, раздумывая, куда бы подальше отвести Линду, чтобы она не вернулась. Я завернула в Капельский переулок и пошла с ней в сторону Каланчевки, шла, наверное, где-то остановки три или даже четыре и в конце концов зашла с ней в какой-то путаный двор. Выбрала подъезд с тяжелой дверью, которая при выходе открывается на себя, вошла с ней в лифт и поднялась на самый верхний, одиннадцатый этаж. Выпустила Линду на площадку, а сама скорехонько на лифте вниз. Выскочила пулей из подъезда, дверь за собой плотно закрыла, и тут же, на ближайшей остановке, села на троллейбус и вернулась домой. Дома я занялась по хозяйству, потом собралась ехать в центр, где по делам и прокрутилась практически весь день. Вернулась домой, когда уже смеркалось. Поужинали мы с сестрой, включили телевизор, стали смотреть. Передачи шли уже предновогодние, с юмором, создающие настрой, но сестра молчит. Я ей не мешаю. Ничего, переживет, зато в доме будет порядок, да и дорожки останутся целыми. Хотя, сознаюсь, такой интеллигентной собачки я не видела. Не так я их много и видела. Но Линда?.. Где-то уже в десятом часу вечера – мы уже и программу «Время» посмотрели – звонок в дверь. Ленка не поднимается, я иду на звонок открывать.
– Кто там? – спрашиваю.
Голос соседки:
– Это я.
– А, Лидочка, сейчас открою.
– Это не ваша собачка тут сидит, она уже давно здесь сидит, я второй раз в магазин спускаюсь.
Я молча пялюсь на черную собачку. Из-за спины сзади Ленка уже к ней руки тянет. А Линда, вы бы ее видели: на ушах снег, сидит на половичке, как мейсеновская статуэтка, и нам улыбается, и любит нас всех до невозможности.
– Боже мой! – восклицаю я голосом распорядительницы всего. – Да разве можно?! Срочно в ванную. Холод-то какой. Ленка, тащи полотенце, и где наш немецкий шампунь? Полный беспорядок. Боже ты мой...
Линда прожила с нами весь свой срок, четырнадцать лет, и заменила моей сестре, у которой не было своей семьи, эту семью. Как-то она сорвалась с поводка и бросилась через проспект на другую сторону, вдруг, ни с того ни с сего. В ту же секунду наш Мещанский район огласил такой громовой вопль: «Линда!!!», что все большое движение машин, содрогнувшись, встало на дыбы. Ленка, падая, теряя сумку, перчатки, добежала до своей дони, подхватила ту на руки и понесла на руках домой. Конечно, это неправильно – переводить всю любовь на собаку. Но если бы вы знали, сколько этой самой бескорыстной любви мы получали от нашей Линды. О, мы едва возвращали ей сотую часть. И не только мы. Она обескураживала своим восторгом всех и всякого по поводу просто его существования на свете. Она лезла целоваться и давать лапку, как в знаменитом есенинском стихотворении, именно не спросив, обрушивая свою любовь на каждого входящего с такой немыслимой щедростью, что этот каждый буквально замирал на пороге.
«Нет, нет, – казалось, говорила она, вставая на задние лапки, пританцовывая, чтобы дотянуться до гостя, целоваться, – неужели это вы пришли к нам сегодня? Неужели именно вы? Не может быть. Какое счастье. Какая радость для всех нас. Нет, мы не перенесем этого восторга. Ну, проходите же, проходите, вот за мной, сюда, в эту комнату, на диван. Ну, давайте же поздороваемся, да нет же, обнимемся, обнимемся наконец. Какое невероятное счастье!»
И каждый уже непременно гладил ее по спинке и приговаривал: «Ой, ну что же это за собачка. Линда, Линда, хорошая, хорошая...» А если у нас бывал сбор гостей, то само собой разумеется, что каждый опускал руку, передавая ей под столом самые вкусные кусочки, только что бутерброды с икрой не передавали, а может, и передавали, кто теперь знает. Я объявляла всем строгим тоном: «Собаку не кормить». И предлагала пока ее вывести в коридор. «Давайте-ка я ее выведу», – говорила я. «Нет, нет, – восклицали друзья, – пусть она останется с нами. Мы не будем ее кормить, честное слово». Но если бы кто-нибудь приподнял скатерть, то увидел бы лес рук, ищущих под столом ее влажный нос.
Один раз она сорвалась с поводка и попала в объятия к какому-то здоровенному кобелю. У нее родились очень крупные щенки, которых назвали – Гладиатор, Геракл, Пир, и, пока их не раздали, она, осознавая себя матерью, посматривала на всех с некой степенной важностью.
Она прожила с нами всю свою обычную собачью жизнь, но то, чем она делилась с нами, в сущности, было таким человечным, таким благородным... Потому что она была, как я и говорила, небольшая, с узкой изысканной мордочкой и белым воротничком по черной, если вымыть шампунем, совсем шелковой шерсти.
ПРАВНУЧКА ВРУБЕЛЯВ тот год, когда у нас появилась Линда, я получила третье письмо из-за границы. Из-за той самой заграницы, в которую навсегда уехала моя лучшая подруга, из-за которой меня не допустили работать в Интуристе переводчиком. «А у вас переписка, да еще с диссидентами». Мне дали от ворот поворот. И постояв на крыльце Интуриста и повторив за темным Данте: «Нель меццо дель камин ди ностра вита ми ритровай ин уна сельва оскура...», что означает: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...», я занялась чем-то другим, особо, кажется, ничем.
Алена носила челку, очки, белыми крыльями бабочки, воротничок, и на уроке литературы на предложение учительницы почитать из Пушкина не по программе единственная, кто подняла руку, и читала перед всеми: «Ночной зефир струит эфир./Шумит, бежит Гвадалквивир», слегка запнувшись на «Гвадалквивир».
Они были из дворян. В Алене было намешано много разных кровей – немецкой, польской самой высокой и достойной пробы. Их род по материнской линии происходит из древнего рыцарского замка, который имел даже свое название, «Бобровый камень», на реке Рейне. Когда генеалогическое древо их рода дало могучие ветви, одна из них зацепилась за ветку Врубелей. Как-то у них в гостях, а жили они в соседнем подъезде, на предпоследнем этаже, я впервые увидела Алениного дедушку, державшегося за столом исключительно прямо, и бабушку с гладко зачесанными волосами и небольшой бледной камеей, замкнувшей узкий пролив выреза. В присутствии дедушки все, казалось, оцепенели. Дедушка, бывший адмирал, молчал, даже и тогда, когда молчать было трудно. На вопрос детей и внуков: «Дедушка, какого хлеба вам передать, белого или черного?» – следовало молчание. Он был, как одинокий утес, на который больше не садились чайки.
Участник Русско-японской войны, адмирал Немитц, из того самого «Бобрового камня», ходил на эсминцах и крейсерах по всем морям, омывающим нашу державу. Душою знавший одну добродетель – силу флота, он остался в конце концов, в семнадцатом году, с одной лодкой, на которой и переправлял, как тот Харон по Стиксу, то Максимилиана Волошина, то Николая Гумилева, то каких-то генералов.
Алена с домочадцами, а это – мама, брат, три сестры и примкнувший к ним по судьбе одинокий дядька, которого они взяли к себе жить, переехали на Первую Мещанскую с Сивцева Вражка. На Вражке у их семьи еще до всяческих революционных подселений был собственный трехэтажный особняк с высокими филенчатыми дверями и окнами бального зала. То, что Алена родственница Врубеля, я узнала случайно после того, как у нее дома открыла альбом Врубеля. У них была прекрасная библиотека. У нас тоже была хорошая библиотека с качественными изданиями по подписке, но у Алены было особенно много книг по искусству. И что немаловажно, в их доме, без отказа, всегда давали почитать на вынос любую книгу. Могучие фолианты, стоило открыть которые – и ты встречался с «Ночью» и «Вечером» Микеланджело, «Весной» и «Поцелуем» Родена, стояли впритык на деревянных, строганных умелым дядькой полках от пола до потолка. Обычно мы рассматривали альбомы, сидя рядом на диване, терпеливо держа их на коленях, давая возможность друг дружке насладиться изображением.
Так мы долго изучали зеленый том по египетскому искусству, издания ГМИИ, задерживаясь взглядом на фаюмском портрете зеленоглазого молодого человека и, конечно, на маске юного Тутанхамона. Абсолютное сияние золотого фараона с бровями из лазурита, зрачками из обсидиана и кварцевыми белками удерживало руку, не давая перевернуть страницу. Говорить про это, то есть про искусство, мы еще не умели, но нам уже хотелось видеть оригиналы. И, раздобыв у родителей деньги на билет в Третьяковку, мы отправились туда вдвоем в ближайшее воскресенье.
Переходя из одного зала галереи в другой с новым ощущением свободы, без сопровождения взрослых, мы останавливались перед теми картинами, которые привлекали наше внимание. Мы не прошли мимо безумного Иоанна, убивающего своего старшего сына, зеленой луны Куинджи, Незнакомки Крамского, у которой было чему поучиться. И уже как родственники навестили Михаила Александровича Врубеля. Воспитание, родственные связи обязывали задержаться в его зале подольше. Ничто не остается без ответа. Незаметно мы вплыли в дом Сирени, лежа на траве, снизу заглядывали в голубиные глаза Пана, переводя взгляд на рогатый месяц и, наконец, на лицо отсутствующего для всех Демона.
Михаил Александрович рад был встретиться со своей правнучкой и, чтобы загладить суровое молчание своего внука, выболтал нам так много. Он выболтал нам то, что самая большая любовь заключена в сердце. А сердце всегда пребывает в том, что ему дороже всего. Любящее и страдающее его сердце билось в оперении Лебеди и соцветиях Сирени.
Мы с Аленой были как пьяные – и после Третьяковки зашли к ним домой, запить опьянение искусством чаем и заесть его пирогами с черникой, которые так отменно готовил дядька. Отныне, как две соучастницы некой тайны, мы уже не могли обходиться друг без друга, вызывая справедливую ревность у моей сестры и другой близкой подружки, Ниночки. Все свободное время мы проводили вместе, то у них дома, то в нашем дворе, напоминавшем внутренний дворик тюрьмы кисти Ван Гога, то под разноцветной листвой Рождественского и Гоголевского бульваров. Как будто сам Врубель, пока мы смотрели на его полотна, смешал нас, как две краски, и положил – уже одной – на свежий, только начатый холст.
Мы так и сверкали, переливаясь оттенками, радуя друг друга, пока другой художник, взяв в руки мастихин, не отделил Аленин тон и не перенес его поближе к «Бобровому камню», на берега Рейна.
Через восемь лет после окончания нами средней школы они всей семьей, без дядьки, умершего к тому времени, отбыли в эмиграцию второй волной, унося подальше из России, не захотевшей их в который раз, свой талант, нравственную безупречность и самые высокие достоинства древней и благородной крови.
МАГАЗИН «ПОДАРКИ»«Не отдавала должное родителям, редко бываю на кладбище, которое за городом. Не досмотрела маму, как должно, до конца... что еще?..»
Мама, мама... С каких же пор я помню ее? Уже знаю, что эта красивая женщина, так любящая меня целовать и причесывать, всегда красиво одевающаяся, пахнущая «Белой сиренью», похожая на киноактрису с открытки, – моя мама.
Так с каких же?.. Наверное, с четырех лет. Достаточно рано. И тот первый взгляд на нее – как бы со стороны, запечатлевшийся в моей памяти коротеньким фильмом, – был связан с ее великим женским началом – неистощимым, неистребимым, неизменно сохраненным ею до самого последнего дня.
В тот день мама вернулась домой с обновкой и с подружкой. Жили мы в ту пору в Москве на Хорошевском шоссе, или Хорошевке, в одном из желтеньких аккуратненьких домов без лифта, построенных, как говорили все, пленными немцами. Мне – четыре года. Маме, соответственно, двадцать четыре.
Мне представляется, что обновку – легкую кофточку без рукавов, точнее, рукав-крылышко, торжественно возлежащую в глянцевой коробке под створками тонкой прозрачной бумаги, как за ставнями, – мама принесла из магазина «Подарки». Магазина со славной историей, на облицовку которого, а также ряда других достойных зданий в начале улицы Горького пошел гранит, припасенный немцами (опять немцы) на не случившийся памятник Гитлеру. С просторными витринами и вторым этажом, магазин «Подарки» по своему положению – окнами практически на звезды Кремля – и ассортименту, порой зарубежному, входил в тройку самых элитных магазинов столицы, сразу после ГУМа и ЦУМа.
На все важные вехи в жизни семьи, да и в их отсутствие, именно в него устремлялся отец, иногда – чтобы загладить вчерашний скандал, некрасивую сценку из жизни венецианского мавра или просто порадовать любимую женушку. И разумеется, на пятнадцатое октября, на мамин день рождения. К всегдашнему аккомпанементу из высокого букета, часто корзины, белоснежных хризантем, мне лично напоминавших курчавый зефир, шла основная тема. Это мог быть большой праздничный набор отечественных духов «Белая сирень», в который входили кусочек душистого мыла, одеколон и сами духи, утопленные в шелковую плиссированную подкладку. В другой раз – затянутая атласом фигурная коробка в форме сердца. При откидывании крышечки – зеркальце на месте полярной звезды – в углублениях обнаруживался чрезвычайно полный маникюрный набор, все ручечки костяные.
Почему же запомнился именно тот эпизод, с обновкой? Конечно, из-за эмоций, которые его сопровождали. Черноглазая подружка с родинкой над губой смотрела на маму в кофточке и смеялась. Сама мама смотрела на себя в зеркало и смеялась. То был не ровный, пристойный смех, а бурное, со слезами на глазах и всхлипыванием, хохотание. Если вы поинтересуетесь: что же пробудило такую непомерную веселость? что такого необычного было в кофточке? – я вам отвечу: ее прозрачность.
Купленная в тот день кофточка была сшита из только что вошедшего в моду нового материала – капрона: цветом – нежно-фиолетовая, на ощупь – довольно жесткая, стекловидная. Застежка на крохотных перламутровых пуговичках на планке заканчивалась под подбородком маленьким черным бархатным бантиком.
Произведено где-то между Парижем и Чехословакией. Скорее всего, кофточка была продуктом чехословацкой легкой промышленности. Французским мог быть только парфюм, но и он появился в магазине «Подарки» гораздо позже.
– Томочка, – квохтала подружка. – Как? И что? И так носят? Нет, не могу... и это модно? И что, ты это наденешь?
Прозрачность капроновой ткани не скрывала первую линию обороны: шелковую белую комбинацию, не думаю что французскую, но из дорогих, и серьезный, «ответственный» бюстгальтер, выглядывающий накрахмаленными лямочками.
Вслед за мамой пришла очередь примерять подруге. Она была ниже ростом, но пышнее, и в груди кофточка не застегивалась. Тут в разговоре упомянули какого-то дядю, знакомого чернявенькой, и чего бы он только ни отдал, чтобы здесь оказаться.
История с капроновой кофточкой подходит к концу. Нахохотавшись, подружки скрылись на кухне. Падает черный занавес. Для меня коротенькое представление закончилось. Но смех красивой мамы я до сих пор отмечаю как замечательную встречу с ее красотой и жизнерадостностью.
Мелькают дни, месяцы, новогодним боем часов – годы. Все ходят кто куда, то есть куда кому надо: отец на работу, мама в магазин, мы в школу. В предпраздничные дни, вполне возможно, и накануне Нового года отец стоит в магазине «Подарки» в очереди за парижскими духами. Хотя не исключено, что, постояв некоторое время, проходит к администратору, ибо если стоять он мог, и стоял, как и все, то положение «один набор в руки» его явно не устраивало – и ему, как обладателю геройской книжки, разрешалось забрать с собой весь ассортимент. А то были непревзойденные – «Soir de Paris», «Сhanel № 5».
Да, отец любил тратить деньги на маму. Спикировав над «немецкой слободой», сделав круг над гнездом – он ведь был настоящий летчик, – он бросал на мамины колени, в самую сердцевину гнезда, то нитку отчаянно-белого жемчуга, морского, подчеркиваю – морского, то есть кругленького и ровненького, то те самые «Soir de Paris».
Ближе к вечеру, переделав все уроки, а часто не сделав ни одного, мы с сестрой входили в мамину спальню. Открывали заветные коробочки и, вдыхая чужеземные запахи, окунались в парижские вечера, поражаясь стойкости и оригинальности, как говорится, букета. И много позже, в аэропорту, признавали Европу по запаху.
Всю свою жизнь – а прожила она восемьдесят один год, пережив отца на семнадцать лет, то есть ровно настолько, насколько он был ее старше, – мама входила во все мои дела. Но не только в мои. Она входила в дела своего брата, моей сестры, моей племянницы – кстати, ее очень любили все соседки, – и, конечно, в дела отца. Порой ему приходилось несладко. Отец много летал, много воевал. В щедро отмеренном, брошенном ему целиком, штукой, пространстве бился с японцами в китайском небе, белофиннами, немцами, американцами в Корее. Для его широкой груди генерал-лейтенанта авиации напекли много крепких лучистых орденов, но, как и другой генерал, который более чем за сто лет до него так же бросал на колени своей жене духи местного производства, он не был героем в ее глазах. «Никто не герой перед своей женой», – буркнул задетый за живое муж и, завернувшись в серую генеральскую шинель, сбежал по мраморной лестнице в оранжерею остыть и успокоиться.
Маминым любимым видом деятельности была перестановка мебели. Более всего страдал от этого отец. Во-первых, потому что он запрещал, подобно большинству мужчин и мужей, что-то трогать в его кабинете, и потом он знал, что мама никогда не останавливалась на ординарной перестановке. Часть вещей после уборки бесследно исчезала навсегда. Чертыхаясь, отец требовал назад свои вещи. Высоко поднимая руки и сотрясая ими над головой супруги, как какой-нибудь Навуходоносор, он призывал гром и молнии на мамину голову. Мама, которая в это время пребывала на кухне, как и вообще большую часть светового дня, безмятежно чистила картошку под этими разрядами гнева: «Сережа, ну что ты так шумишь?»
Через определенный промежуток времени, когда бушующий гневом гейзер отца снижал свою активность, а все, что находилось из мебели в наших комнатах и коридоре, уже давно было переставлено по третьему разу, она распахивала дверь в комнату отца, обескураживая его безукоризненной британской фразой: «Дорогой, помоги мне передвинуть пианино».
«Тьфу!» – плевался генерал и, скинув на ближайший стул китель, двигал послушный инструмент на колесиках в противоположный угол комнаты.
Когда мы были маленькими, маме помогала домработница; когда мы подросли, уже нас использовали как рабочую силу. Мама заходила с одного края серванта, мы с другого, и по команде: «Раз, два, потихоньку на меня, увидите, как сразу станет светло и просторно» – двигали дребезжащий посудой сервант на этот раз, допустим, к окну. Во всяком случае, наша мебель никогда не застаивалась.
Все свое детство я провела в убежденности, что роль жены в том и состоит, чтобы призвать все наличествующие силы к перестановке мебели. И уже начиная с четвертого класса, отходя ко сну в девять часов вечера, не без легкого сопротивления доводя отход до девяти тридцати, воспроизводила в мечтах свою семейную идиллию, раздавая роли и ремарки по заведенному трафарету.
«Ну, давай (мужу), давай двигай на меня еще чуть-чуть. Увидишь, как выйдет славно».
В подобных грезах мой муж, всегда почему-то в свитере с белыми оленями, с широкой улыбкой на открытом лице, выпив предварительно стакан крепкого чая с лимоном и двумя кусочками рафинада, чтобы были силы, охотно двигал на меня тумбочки, кровати, зеркала и прочие деревянные конструкции. И, блаженно засыпая, я повторяла про себя: «Нет, все-таки у меня будет хороший муж».
Когда все находились дома, мама обычно ходила за нами, отец – за мамой, нас тянуло к отцу. Когда кто-нибудь был в отъезде, тем же круговоротом ходили письма в нашей семье.
* * *
Отец писал маме: «Подготовь мундир, не забудь забрать брюки из военного ателье».
* * *
Я писала родителям: «Дарагие мамочка и папочка. У нас все хорошо. Свинка у меня прошла. Я гуляю. На огороде вырос громадный лук».
* * *
Мама забрасывала меня обширными руководствами и законодательными актами, даже если мы находились с ней в одном пространстве. Она первая открыла мне глаза на моего мужа, главным образом на тот факт, что он мне абсолютно не подходит. Но не только муж. Бог бы с ним, но мне совершенно не подходят та материя, которую я покупаю, цвет и фасоны, которые я выбираю, а это уже гораздо серьезнее. Руководства по тому, как правильно одеваться, мама заносила в школьные тетради – не важно, в клетку или в линейку. Записи снабжались сериями вырезанных из журналов «Огонек» или «Работница» образцов для подражания. Каждая тетрадка имела громкое название, допустим: «ДОБРЫЕ СОВЕТЫ ОТ КУТЮРЬЕ».
– Брючный костюм с шелковой кофточкой, пиджачок с юбкой за колено, благородного цвета, без блузки или же с шелковой светлой кофточкой – всегда элегантно, красиво, по возрасту молодит.
– В брюках и красивой тонкой трикотажной кофточке (летучая мышь) не ошибешься, всегда к месту.
– Новая ткань – несминаемая, красивого чистого цвета с добавкой синтетической нити: акрила, вискозы.
– Старая ткань – шерсть, сукно, твид. Из них перешивают костюмы, пиджаки. Старое сукно всегда запыленное. К нему все липнет. Будьте внимательны, строго следите, какая ткань. Пусть вам не вешают лапшу на уши.
– Все вещи цветастые и гороховые вульгарны.
– Не носите черный, он сразу подчеркивает возраст. От него тянет могилой.
– Мужчина смотрит на женщину с восхищением, сожалением... грустью.
– Нелепо и смешно в сорок лет одеваться, как девочка в восемнадцать. Надо быть совершенно глупой или дурой, чтобы в сорок лет натянуть на себя юбку выше колен или шорты и ходить так по улице или в офисе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.