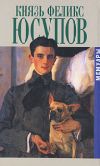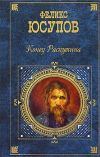Текст книги "Мой отец генерал (сборник)"

Автор книги: Наталия Слюсарева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
АННА И АРМЕН
Случись Армену родиться на американских землях в доколумбову пору, его звали бы Большой Ягуар или Большой Огонь при непременном участии эпитета «большой». Вождем он водил бы за собой послушное племя по гребням скалистых гор, прятал во влажных дебрях тропических лесов, сохраняя от большой беды. Они продержались бы дольше других. Но самым точным прозвищем его на всех континентах оставалось бы Большое Сердце.
Его имя, срывающееся клекотом орла, песней ягуара, говорит о принадлежности земле. Земле раскаленной, древней, такой древней, что звезды, давным-давно устав светить над ее глубокими пустынными складками, сбросили именно сюда свои первые урчащие золотые печатки города. Имя, скатившееся с уступа, подхватывает зурна и – высоким водопадом... урр – к подножию. Армен Зурабов. Натянутая струна и тетива одновременно.
Армен – высокий, красивый. Для вездесущих кумушек с дворовых скамеечек – видный мужчина. Видность бросается в глаза с лету. У самого – глаза пророков, огромные библейские, в которых, ныряя с разбегу, вращается весь глобус разом. Ныряет в озерца с нефтью. Осторожно! Поднесешь спичку – вспыхнут. Если верно, что глаза – открытая часть мозга, через которую, как через амбразуру, ум человека глядится в мир, то глаза Армена, вбирая и прорабатывая этот мир, видят слишком многое. На дне этих глаз – выплески печали самых первых – с посохами – пастырей; тех, со складок гор, на одной из которых, самой высокой, самой «ар», встал на свой вечный причал тысячи лет назад Ноев ковчег.
Большой кусок жизни прожит в Тбилиси. В тени раскидистых платанов, в сочных дворах. Не совсем так тесно, как хотелось бы Армену. Возможно, и оттого он любит творчество Феллини восполняющего. Наполняющего колхидскую чашу римским фалернским. Сегодня их вигвам в Москве – на Юго-Западе. Местные дýхи отмечают своих. Они отправили под окно Большому Человеку обручальное кольцо Юга, чудесную раскидистую лиственницу, никогда не расстающуюся со своим нарядом, так что и самой белой зимой он видит родное зеленое.
Армен раскален. Несуществующий Город Солнца Томаза Кампанеллы отпечатался в его зрачках. Он давно уже почетный гражданин этого города, где равенство, никто не обижает слабых, нет предательства и все говорят друг другу, представьте, правду. И что немаловажно, а может, и есть главное: на тротуарах и площадях этого города не встретишь печальных женщин.
Немыслимо себе представить, невозможно вообразить, чтобы в разговоре он отмахнулся от собеседника, отвечал ему общими малозначащими фразами, обменивался ленивыми репликами. Чтобы не слушал всеми силами своей души и многовольтовым напряжением сердца. Армен не говорит. Возглашает. Не нам – Небу. Задает вопросы Верховным Иерархам. Бередит тучи. Стаскивает одеяло со спящих богов. Как можно спать, когда вокруг еще столько горя?
Голос зарождается в груди. Эта – грудь титана, в которой бьется раскаленное, никогда не остывающее ядро-сердце. Солнце справедливости для всех. Огонь – настоящий мужской – в вертикаль, не какой-ни будь вертлявой саламандры в балетной пачке. Огонь бушует так, что теснит эту грудь. А ведь еще надо дышать. Ему бы – на площади, на Форум: «urbi ed orbi», «сенату и народу», – и тут же в доказательство своей правоты возложить руку на все светильники Капитолия разом: «Долой тиранию! Да здравствует республика!»
Армен – прозаик, драматург, кинорежиссер. Три лепестка пламени огня, три соцветия цветка, трилистник. Три дара – в одном. Путь, как и у большинства очень талантливых людей, порогами и теснинами. Однажды во время учебы в МИИТе (одновременно учился в Литературном), на общем собрании, когда юношеский максимализм студента Зурабова взметнулся верховым пожаром за правду (в те годы не исключался арест со всеми вытекающими), Армена спас один хороший человек, его преподаватель. Поздно вечером после собрания он позвонил своему студенту, сказав в трубку только одну фразу: «Завтра тебя уже не должно быть в Москве». Судьбу творит характер. Кто поумнее, похитрее, остались в аудиториях ожидать получения диплома. Студент Зурабов со второго курса отправился домой, в Тбилиси. Мама, лучший человек на земле, спросила только: «Ты ел?» Ничего, он вернется в Москву. Закончит институт. Будет инженером строить главное, что соединяет: мосты и дороги. Станет писать рассказы о тех, кто создает воссоединяющее. Будет учиться во ВГИКе на режиссера, работать на киностудии «Армен-фильм». Снимет фильм об Армении «Песни песней» так, что заговорят камни, зазвенят водопады. Водные струи, преткнувшись о камни, прокричат покаянными плачами из Нарекаци, величайшего из поэтов Армении.
А если бросить в печь те суровые камни, сбрызнуть ледяными горными струями да подбросить жгучего «яр-солнца», то выйдет из горнила герой из жалящих оводов. Будет он жечь округ себя и других, но и его жги, пали – не дрогнут ресницы, не сдвинутся брови. Как не вглядеться в такого, кто первым в огонь, за идею. Овод из Закавказья, он же Кудияр и Робин Гуд, легендарный Камо. О нем – повесть «Тетрадь для домашних занятий», снятый на телевидении трехсерийный фильм. О высоком трудится сердце Армена, не уставая.
Высокое видит он и в одном из самых скромных русских писателей. Говоря о нем, Армен меняется. Меняется в лице, в выражении глаз. Он становится мягче, тише, как будто смотрит на нежный цветок. Русский писатель, который преображает взгляд Армена, – Антон Павлович Чехов. Он восхищает Армена бесконечно. Чехов, его жизнь и творчество – каждый раз источник для нового изумления.
«Нет, подумать только, Чехов поднял все те вопросы, которые волновали и меня. О чем бы я ни задумывался, все это уже есть у Чехова. И потом, можно сказать, один провел перепись всего Сахалина. Поехал сам, никто не просил, на край земли, больной, в климат, который ему противопоказан, с ветром, сыростью, делать самую нудную работу. Заходить в бараки и переписывать... какой же человек!..»
Такое же точно чувство к Чехову, вплоть до обожания, было у Сергея Рахманинова: «Что за человек был Чехов! Теперь я читаю его письма. Их шесть томов, я прочел четыре и думаю: как ужасно, что осталось только два! Когда они будут прочтены, он умрет, и мое общение с ним кончится. Какой человек! Совсем больной и такой бедный, а думал только о других. Он построил три школы, открыл в Таганроге библиотеку. Он помогал направо и налево, но больше всего был озабочен тем, чтобы держать это в тайне».
Изумиться человеку, будь то известный писатель или, при взгляде на старую карточку, его друг по средней школе: «Нет, какой восхитительный человек Нодик, другого такого нет», – и прокричать об этом, прокричать над складками гор, над улицей Юго-Западного округа столицы – песня его сердца. Лиственница за окном его поддержит.
Анна хлопочет на кухне.
– Жэнщина... гдэ ты?!!!
Звучно через столик, преувеличенно с акцентом, в направлении кухни глас ее мужчины. Театральный жест поднятой руки вверх.
Из кухни:
– Иду, иду... уже здесь, с вами.
Анна и Армен. Мужчина и женщина. История – простая и необыкновенная. Сюжет и фабула – они не могли не встретиться. Встретились оба несвободными. Он – известный кинорежиссер, ищущий для роли в своем новом фильме молодую актрису. Она – та самая молодая актриса из драмтеатра, которой в тот день так не хотелось идти на встречу с режиссером. Разглядывания, пробы, приглядки... может, не стоит... лучше не сегодня.
Сюжет для небольшого рассказа. Вышла пьеса на два действующих лица. История любви написана драматургом Зурабовым, отрепетирована, поставлена на сцене и снята в версии телевизионного спектакля. Название – женское имя «Лика». Ее пульсирующий над страной на десятилетия чип – песня известного барда: «Дерева, вы мои дерева,/Что вам головы гнуть – горевать./До беды, до поры/Шумны ваши шатры,/Терема, терема, терема...»
Нежная и пронзительная пьеса – хрупкая и сильная одновременно. Для наших позднейших времен светло целомудренная. Крест и роза. Соловей сокрыт в тени ветвей.
– Женщина! Так, где ты?
Старинный овальный столик – вся мебель перевезена из отеческого дома в Тбилиси – каким-то чудом вмещает непереставаемо носимую из кухни снедь: печеный картофель, селедку, маринады, огурцы и помидоры, салаты, лобио, бастурму, грузинские травки, армянский сыр «чанах», баклажаны, перцы и прочее и прочее. Все. Дальше некуда. Пространства нет даже для соли. Просто больше не имеется. Хлеб пошел по рукам. А хозяйка все носит и носит. Тарелочкам с каемочкой, селедочнице, рюмкам и пиалам не остается ничего иного, как договариваться. Не без легкого возмущения они сдвигаются, втягивая поглубже в себя свои хрустальные брюшки, подбирая фарфоровые ножки. Ничего, потеснимся, вон на том краю за горкой белой солоноватой брынзы есть свободный островок для влажных листьев салата, который чуть ли не плачет. «Давай вписывайся, чего там...» Разве можно огорчить Анну?
О, чудо-столик! Столик для маленького Мука. Столик, за которым при наличии небольшого воображения можно вообразить поочередно скупого рыцаря, пересчитывающего свои золотые дублоны, карлика герцога, мечтательно глядящегося в сердцевину инкрустированной овальной столешницы, сжимающую в узких ладонях колоду Кармен. Опля! Пара атласных карт, туз и дама, не удержавшись на краю, непременно слетят на пол.
– Жэнщина! Все ждут тебя!
– Сейчас, сейчас... не могу же я... Вы садитесь.
– Вах! Мы сидим.
«Ух!» и «Ох!». Призвав на себя ветерок от полотенца, веера, фартука, Анна опускается на стул. Глаза веселые. Веселые оттого, что все идет как должно. Есть столик, который умеет накрываться только пиром. Есть еда, есть Армен. Есть мы, которые пришли. Есть кого любить. И кому подкладывать.
– Ой, Анюта, не могу больше...
– Да ты только попробуй, вот... (половина блюда уже на моей тарелке). Это же все с рынка.
И как не попробовать, когда перед тобой – в узорчатых виноградных листьях долма, которой с пальчиков кормила Язона черноглазая Медея, дымящиеся, не требующие челюстных усилий, сами собой лениво отваливающиеся от ребрышек пахучие куски баранины в божественном соусе – блюда уже царицы Тамар. Добровольно соскользнешь в ущелье. Пальчики облизываешь, облизываешь, только что не мурлычешь. «Ладно, – уговариваешь себя. – Ну, глобальное переедание». Ничего, зато следующую неделю ублаженный организм ничего не запросит у тебя, по уши в витаминах и редких минералах.
– И как ты это готовишь?
– А я тебе сейчас расскажу... – хозяйка с энтузиазмом, – берешь зелень, пассеруешь лук... – И далее, казалось бы, столь же божественно простой рецепт.
Ты головой киваешь, киваешь. Но уже наперед знаешь, что сама дома не возьмешься. Ибо дело не в ингредиентах, хотя и в них. Но то волшебное, не слабое, что исходит от Анны, от ее рук и сердца, и делает эту еду уникальной. Да и исходит-то самое простое – любовь. Но как же ее много! И какого она неповторимого вкуса.
В круг столика гости нанизываются ожерельем. Двое сели – отлично. Четверо – усаживаемся. Вшестером – потеснимся. Как-то сидели ввосьмером, и восьмерым места хватило. Ломберный столик с готовностью раскатывает перед гостями свою палубу-самобранку. Что ж, сели. Подняли наполненные бокалы. Взоры устремлены на капитана. Еще минута, и мы отчалим на нашем инкрустированном кораблике в страну счастья. На Востоке капитанская должность зовется «тамада». Тамада – от грузинского tamadoba, что буквально означает «старшинство во время пира». Старшинство за хозяином. Первый тост Армен будет говорить в честь гостя – и так пойдет по второму и третьему кругу по часовой стрелке или против. По какой стрелке и на сколько заходов, в сущности, не важно, интересно другое. Не думаю, чтобы кто-либо из тех, кто пришел в этот день к Армену и Анне, в жизни слышал о себе подобное. «Столько хорошего?» – подскажете вы. О хорошем тут не говорят, тут и превосходная степень не добирает до степени хозяев дома. Самые малые, непроявленные, но имеющиеся в потенциале у пришедшего положительные задатки будут предъявлены ему во всем блеске мастерской огранки. Не предполагающий в себе столь могучих талантов, гость румянится. Каждый, на кого обращен по очереди мощный, бьющий, как из брандспойта, луч тамады, цветет благодарным цветом.
Да, ты – такой. С храброй душой и золотым сердцем. Тебя облекают в светящиеся одежды и выводят на авансцену. Знакомьтесь, перед вами – Серафим, житель совершенных небес...
Анна улыбается. Но мы все знаем, Анна – сама командор.
В первый раз я услышала Анну Смирнову в Москве, на сцене театра «Школа современной пьесы», что на Трубной площади, в конце восьмидесятых. Представлял певицу Булат Окуджава, сам Окуджава, заслуженный барабанщик и трубач всех трубных площадей и арбатских переулков, чрезвычайно скромный и что-то такое по своей обычной нелюдимости сказавший, буркнувший, что Анна Смирнова – это очень хорошо, и утонувший в сумеречной ложе бенуар на последующие два с половиной часа. Помнится, я тоже утонула, пропала в абсолютном волшебстве магии голоса, слова и души. Ах, да и в самом деле стянуть эту долгую белую скатерть со звоном шампанского стекла из голицынских подвалов, стукнуть каблучком да закружиться метелью в шали Ахматовой. Ах! Анна, что за чудо!
После концерта, вслед за многократными криками «браво» и «бис», соседствующий со мною по партеру приятель художник (настоящий художник, по одному уже тому, что практически без всяких средств к существованию), вцепившись в подлокотники кресла, чуть ли не кусая запястья, негодовал. Отчего он не богатый купчина, отчего не может он прямо сейчас швырнуть на сцену к ногам Анны соболью шубу или выставить перед ней корзину с нанизанными на георгины гроздьями гранатовых браслетов?
Много раз я слушала Анну и в Крыму на берегу, для нас всегда Эвксинского, самого гостеприимного из морей, в курортном поселке Коктебель, поселке со своим климатом, своей историей, населением, поселением, точно обозначенным кем-то, может и Максимилианом Волошиным, как обормотным. Обормотничество, она же богемность, то есть наивысшая мера свободы, у коктебельцев в крови. В 90-е годы пение происходило уже не во дворе, хотя и во дворе – прекрасно и неповторимо, – в открывшемся на веранде Дома Волошина кафе «Богема».
У «Богемы» своя не простая судьба. Ее тягали из рук в руки арендаторы. Одни хотели сделать из «Богемы» шикарный ресторан с белыми накрахмаленными скатертями, другие – столь же торжественное для посольских гостей. Поначалу кафе делило с кинотеатром один барак: ему строили козни, его поджигали. «Богеме» пришлось завести себе крылышки. Пчелкой-хиппи она порхала над поселком, опускаясь то на полянку поближе к корпусам с отдыхающими, то на набережную. Последнее пристанище – вполне с артистическим интерьером, изогнутыми габриаками и старым черным пианино, – кафе обрело в глубине тенистого парка (в оные времена литфондовского), по чьим тропинкам на протяжении многих лет спешила, торопилась к морскому прибою советская «письменниковская» элита. Сегодня «Богеме» без генуэзских стен и парусиновой крыши не страшно ничего, кроме дождя, хотя и в ненастную погоду, отважно подставляя под косые ливни свои сухие полынные букеты, она укроет под соседними кронами парочку заскочивших обормотников.
Известно, что вначале было Слово. Лично для меня это стало понятно через Анну. У нее власть над словом, даже сговор. Слово смотрит ей в рот. Своим магическим, то есть имеющим силу и чары, голосом она одевает слово, да что там слово, каждый слог в подходящие ему одежды. Безупречно! Написанное слово она переводит в услышанное. Услышанное первозданно автором – Аполлинером, Верленом, Гумилевым. Идеальный проводник их поэтической речи. Голос уникальный. Голос – Свет. Взрастающий клинком меча с наковальни души. На такой голос выберешься из самого гибельного лабиринта.
Она берет гитару. Крепко обеими руками. Руки – не тонюсенькие веточки. Руки, знающие свое ремесло. Надежные. Руки-весла. Ладные весла для гребли по волнам, бросающим в лицо пригоршни соленых брызг. «Это, синьор мой, волна морская». Гитара – парус. Пройтись по струнам – перебрать канаты. Натянуть паруса. Парус поставлен по ветру. О, мы будем плыть милями! Мы поплывем над Александровским садом, где никогда не виденный нами, но обещанный кораблик Бродского будет следовать за нашим парусом в фарватере, проплывем под мостом Мирабо, махнем рукой перевозчику-водогребщику и в конце концов окажемся в доме царствующей луны. Шахматные фигуры в углу, набрав в легкие побольше воздуха, вот-вот объявят шах даме-бессоннице. Полная луна легко опустится в джонку к китайскому поэту и его подруге – изнеженной хризантеме. Еще чуть-чуть... и, вибрирующий лунной дорожкой, луч поэзии коснется наших ресниц.
В доме Максимилиана Волошина разрешили снимать только на рассвете. Армен снял фильм «Час ученичества», в котором Анна Смирнова читает Марину Цветаеву. Те, кто видел этот фильм, сразу поняли, ощутили, что та – в янтарных бусах и серебряных кольцах – приходила на заре в дом к Максу. Кто, как не Марина, прозреет твою судьбу:
Час ученичества! Но зрим и ведом.
Другой нам свет – еще заря зажглась.
Благословен ему грядущий следом.
Ты – одиночества верховный час!
Серебряное сердце России. Наваждение длится. Анна читает. Но как? Как она это понимает. Не в нашу плещущуюся в тазике мерку, а в ее – Маринину морскую семибальную меру – волну. И нас поднимает за вихры на гребни Хокусая. О, как мы высоко и как мы счастливы в эти мгновения!
Сценка в саду у Рахманинова: после ночного концерта Шаляпина Рахманинов, взволнованный, ходит по саду: «Как Федя меня вчера утешил! Как изумительно он произнес: „Вы сгубили меня, очи черные“. Мне теперь хватит этого воспоминания по крайней мере лет на двадцать».
Каждое выступление Анны – ну почему так редко? – заряд на долгие месяцы. «А на улице снег... а враги мои прочь...»
О, какое за это спасибо!
«Один из самых прекрасных и богатейших голосов России. Увы, невостребованных в наше бездуховное время», – одинокий голосок грустного слушателя из страны зазеркалья с чатов и форумов.
Но если уже начался концерт, то Анна – не скупа, дает насладиться пением и чтением сполна. Хотите – она будет петь хоть всю ночь. Да что одну ночь? – и вторую, и третью. Да только кто там поднимается на эстраду? Расторопный администратор вежливо, но необратимо тянет микрофон на себя: «Друзья, мы бы и рады подольше, но задерживаем персонал... гардеробщицы, электричество... надо освобождать... до следующего...»
После выступления с Анны градом пот. Это небесная влага изнутри, охлаждающая ее мотор – сердце, запущенное на максимальные обороты и пущенное в расход. Мотору ничего не остается, как стучать. Мотор стучит громко и часто. По дороге завернуть в аптеку за таблетками, замирить сердечное цунами.
– Так, ты приходи завтра.
– Ты отдышись, передохни хоть денек.
– Там все отдохнем.
– Анюта, уймись.
– Приходи, приходи, и Армен так будет рад... Ну что, придешь?
– Конечно приду, только ты ничего не готовь...
Смеется...
НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ
Я познакомилась с М. М. Рощиным, когда в силу его возраста, званий, регалий – известный писатель, именитый драматург – я не могла называть его уже Михаилом, Мишкой, Михой. Мы познакомились – и, что важно, сразу подружились: он допустил. На только что вышедшей в серии ЖЗЛ своей книге «Иван Бунин» он и написал это главное: «Будем дружить! Ладно?» И как-то все само вышло ладно. Еще не так давно, в прошлом веке, его громкие пьесы «Валентин и Валентина», «Эшелон», «Спешите делать добро», «Старый Новый год» были более известны, чем его замечательная проза. Он был иконой МХАТа и «Современника». Его имя – повторяющееся в отчестве – было не самым удобным в произношении, во все убыстряющихся ритмах будней, упрощая, я звала его про себя МихМихом.
– Где ты была вчера весь день? Не могли тебя разыскать.
– С самого утра у МихМиха.
И всем ясно, что вчера я ездила в Переделкино в гости к Михаилу Михайловичу Рощину, откуда раньше позднего вечера никогда не возвращалась. Всегда только в гости – дружить, что вмещало в это понятие: выпить бокал вина, закусить, поговорить за жизнь. Чаще всего – на кухне, по особо торжественным поводам и при большом стечении людей (дни рождений, Новый год) – на терраске, на диванах. В последнее время он быстро уставал и после основной еды, отказавшись от чая, опираясь на тонкую неудобную трость, уходил поспать в свою комнату на кровать или прилечь на диванчике перед телевизором. Ночью не спал или плохо спал. В полнолуние в продолжение нескольких дней вообще не смыкал глаз. Спал днем. В промежутках между сном и бодрствованием курил. И вел совершенно неправильный образ жизни, даже, кажется, намеренно неправильный. Но жизнь его по качеству была лучшая.
Его никогда не отравляли собственные мысли по поводу происходящего вокруг. Он ни о ком не отзывался с осуждением, ни к кому не вязался. А плохое – то есть плаксивая унылая мысль – вообще не могло свить себе гнезда в его творческой голове. Это совсем не означает, что он был идеален. Он был эгоистом. Скорее всего, никудышным отцом, умел не замечать ближних чаще, нежели дальних, и умудрялся обидеть более всего тех, кого сильнее всего любил и кем мучился. И все же его бриг попутным ветром под парусами шел легким ходом.
Корпус его корабля, оставлявший белые кипящие буруны в людском океане, никогда не обрастал коростой зависти или озлобленности. Он был щедрым, открытым. Открытым, даже слишком. Нараспашку – всем розам и всем ветрам. В нем действительно было нечто от капитана разбойничьей каравеллы. Отстучав на механическом «Ундервуде» очередной акт пьесы, постукивая деревяшкой, он торопился выбраться на палубу к людям. Порадоваться. Веселье – что бочка с ромом. Что – швартоваться. Что – в порт, что – в море. Быть главарем пиратов ему шло, не случайно именно он инсценировал «Остров сокровищ» Стивенсона, где совсем не второстепенный персонаж, попугай Капитан Флинт, судьбоносно скрипел с плеча Сильвера: «Пиастрры! Пиастрры!!!» Как капитан, он видел дальше всех, зорче всех и то, как под Сириусом с правого борта он пройдет Сциллу и Харибду. Он видел цель. Его пиастрами, его цепями, его тяжелым сундуком с кладом было писательство.
Внутренне, часто озаряясь этим во внешнем, он думал о работе. Он думал о правде, о том, как сделать вещь лучше. Он был уже не усредненной моделью задумчивого «sapiens», бери реей повыше – осознающего, отправляющего ежесекундно внешние впечатления на внутренние фактории, на переработку. К сожалению, он не имел угодий графа Льва Николаевича Толстого, по которым было бы так полезно пройтись после легкого завтрака косой, дабы уравновесить психическую энергию физической нагрузкой. Его психический баркас зачерпывал уже глубоко. Он потерял сознание прямо в салоне самолета по пути в Штаты в 1978 году, на премьеру своей пьесы «Эшелон», и знаменитый американский хирург Майкл Дебейки сделал ему операцию на открытом сердце – протез митрального клапана. К тому времени, как мы познакомились в Доме писателей в Переделкине (где у него был свой постоянный номер, смахивающий больше на лифт, в котором он жил с последней женой Татьяной), он уже перенес инсульт. В столовую за порционным обедом он шел ветвистым затемненным коридором, очевидно прихрамывая, опираясь всей силой правой руки на палку. Искусственный клапан и регулярные, два-три раза в год, капельницы в Институте хирургии им. А. В. Вишневского.
Стоял в очереди на писательскую дачу, никого не торопя, не понукая. Наконец, спустя десять лет, отмучив честно очередь в Союзе «за шапкой», перебрался в писательский коттедж на улице Чаплыгина, бывшую дачу Андрея Вознесенского – дачу, знаменитую тем, что на ее территорию как-то ступил ногой Марк Шагал со словами: «Вот, самое прекрасное место на земле!» Прекрасного, прямо скажем, мало. Участок никак не прибран, в прошлогодних листьях, трава, пни, остро торчащий кустарник. Земля не обработана, «нон колтивата» – обычное изумление европейцев: «Как у вас много земли нон колтивата!» Окидываю глазами участок с самыми обычными соснами. Так чем это место могло так поразить старика Марка? Верно, одним только деревянным штакетником, напомнившим художнику родной Витебск.
На кухне коттеджа, за квадратным столом, накрытым обычной клеенкой, мы и встречались. Я также не спрашивала себе чая, не понимая, зачем он нужен после распитой качественной бутылки красного сухого французского вина (можно и чилийского), с сыром на лаваш и закусок. Собравшись небольшим коллективом (жена Татьяна, мама жены, я, добравшаяся сюда пешком с электрички), усадив каждого на свое место, меня к стеночке (позвав МихМиха из кухни голосом жены: «Миша, мы уже за столом»), пойдя отважно бокалами на таран, прочувствовав хрустальный удар, дождавшись, когда теплая волна дойдет до сердца, мы размыкали внутренние сундуки и начинали одаривать друг друга впечатлениями. Мы говорили... о здоровье, оно обязано было прирастать, об искусстве – его задача была оставаться на отведенной ему высоте, о том, что сопровождало искусство: о спектаклях, чаще в телевизоре, о старых верных книгах, – испытывая при этом самое доступное, но от этого не менее замечательное удовольствие – от общения.
МихМих всегда готов был рассмеяться. Смеялся глазами, лицом, всем собою. Подгребая ладонью под себя, немного по-крабьи, зажигалку и сигарету, улыбался; вот сейчас засмеется тому, что нам расскажет, может, театральную байку. Быстро зажигался и сам умел замечательно слушать. Когда рассказывал, никогда – безучастно, то будто боролся со штилем: двигал ребром правой руки, как бы считая маленькие волны. Если бывал в силе, на подъеме, выспавшись накануне, то сидел с нами подольше и тогда вспоминал о ранних, интересных вдвойне, когда еще никто, кроме балета Большого и цирка, не ездил за границу, поездках, о людях, о качествах любимых им людей. Про главного друга Ефремова:
– Встретил его, насупленного, мрачного. «Ты чего такой хмурый, ты же в театр?»
И Олег, уходя поглубже в плащ, и мордуленцию такую скрючил:
– Ах, если б вы только знали, как я не люблю э т о т т е ат р... (Понятно, что – то, что в нем, – оборотное.)
Он с особой любовью говорил об Ефремове, восхищаясь его естественной свободой, мерой этой свободы, подумать только – в кастрюле под крышкой.
– Ты чего это?.. А я ему навстречу по площади Маяковского мимо старого здания «Современника» с сеткой, в которой бутылки. «Ты чего гуляешь? Ты давай иди домой, пьесу пиши».
Он рассказывал о некоей американке, страстно влюбленной в русский театр, в русскую культуру, помогавшей бескорыстно «Современнику» с гастролями в Америке. И как после ее смерти ему передали коробку или что-то вроде урны с пеплом и завещанием развеять ее прах в Москве над театром «Современник». И как они с Галиной Волчек ночью на Чистых прудах, с бутылкой крепкого, опершись на бульварную ограду перед театром, куря как сумасшедшие, помянули ее и развеяли американский седой пепел с его русской бессмертной составляющей над серебряным прудом, на котором весной всегда плавала пара лебедей.
Он вспоминал о том, каким прекрасным актером был Олег Даль. И мое сердце замирало, потому что я была влюблена в Олега Даля и остаюсь верной этой любви до сих пор. Влюблена в его исключительный актерский талант, светлую недосказанность, подробную нежность, в его привязанность к Лермонтову – в судьбу, нацеленную на пропасть, сгинуть – если не на Кавказе, так на Мойке или уже в заснеженной Москве... «карету мне, карету...».
Все шестидесятые – семидесятые годы театральная каста проводила за кулисами, по кухням у друзей или в ресторанах. Они были молоды, они не хотели расставаться. У Рощина в ресторане «Пекин» был, кстати, собственный столик, за которым в течение дня обычно перебывала вся труппа. Счет отправляли драматургу. Он удивился, если бы было иначе.
Однажды в ресторане ВТО (в старом, до пожара, с огромными окнами в пол, выходящими на Тверскую и Страстной) в окне появился Олег Даль. МихМих сидел вместе с другими актерами за столом как раз под этим огромным окном. Олег Даль своими журавлиными ногами легко преодолел не самый высокий бортик с улицы и шагнул прямо на белую скатерть, не залитую еще коньяками и колами. Это было так неожиданно, так «по Сирано», так по-актерски. «Олежек! Олежек!» – раздалось восхищенное отовсюду. Лица сидящих за столиками озарились счастьем.
– Михал Михалыч, так за это же надо... – вставляю я свою реплику.
Реплика признается большинством сидящих на кухне истинно шекспировской, и под бдительно неусыпным взором Тани, жены, бдящей меру, нам добавляют в гусь-хрустальные бокалы красного вина, и мы отщипываем еще по куску лаваша с нежнейшим французским камамбером.
Его земная оболочка, которую он амортизировал на скоростных и сверх того оборотах, достойно служила ему достаточно долгое время и была само притяжение. В его лице, открытом и светлом, казалось, паренька с окраины, где собраны самые могучие, пышущие трубами заводы, на одном из которых он начинал учеником фрезеровщика, было нечто элитное. За такое лицо стоило заплатить, чтобы отрекламировать им зимние и летние модели швейцарских часов семейства лонжонов, снаряжение для игр всего белого по зеленому, гольф и поло, а также всего кожаного и серебряного, созданного дизайнерами по поводу «un vrai homme». Такому притяжению не противятся, за ним, сорвав пальтишко с вешалок, на трамвае через весь город от мужниного стола, семьи, а то и пешком. За ним и уходили, взрывая за собой разводные мосты. А потом уходил он... «E in Spagna. E in Spagna, e in Spagna – mille tre», «А в Испании – три тысячи», – предупреждает. Лепорелло... «mille tre».
В середине шестидесятых блондинистые барышни простодушно мечтали столкнуться невзначай на Арбате с Василием Аксеновым, гипнотизирующим женское гипюровое облачко дымком табачной трубки, укрученным на кадыке шелковым шейным платком. Аксенов считался первым плейбоем. И как все бои, был, разумеется, пай-мальчиком, в чем честно и признавался: «У нас тогда секса не было. У нас разговор между парнями по подъездам был один: „Ну, ты ее обжал? Ну, я сегодня свою пообжал“».
Но Дон Жуан был один. И Москва знала его. Кому надо было, знали, чуяли, чувствовали, втягивали с полночным ветром. Маргаритами, разбивая стекла, вылетали на Арбат – и, кося зрачком на зеркальце-звезду, над фонарями и высотками. Его быстрое, жадное внимание на новую радость, как он сам признавался, во многом передалось от матери. «Ну, не виновата я, девчонки. Ну, влюбчивая я!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.