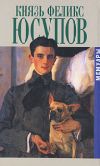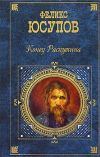Текст книги "Мой отец генерал (сборник)"

Автор книги: Наталия Слюсарева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
КОККОЗ
«Наше коккозское имение – „коккоз“ по-татарски „голубой глаз“ – располагалось в долине близ татарской деревушки с белеными домами с плоскими крышами-террасами. Красивейшие были места, особенно весной, когда цвели вишни и яблони. Прежняя усадьба пришла в упадок, и матушка на месте ее выстроила новый дом в татарском вкусе. Задумали, правда, простой охотничий домик, а воздвигли дворец наподобие бахчисарайского. Получилось великолепие. Дом был бел, на крыше – черепица с древней зеленой глазурью. Патина старины подсинила черепичную зелень. Вокруг дома фруктовый сад. Бурливая речка прямо под окнами. С балкона можно ловить форель. В доме яркая красно-сине-зеленая мебель в старинном татарском духе. Восточные ковры на диванах и стенах. Свет в большую столовую проникал сквозь витражи в потолке. Вечерами в них искрились звезды, волшебно сливаясь с мерцанием свечей на столе. В стене устроен был фонтан. Вода в нем перетекала каплями во множестве маленьких чаш: из одной в другую. Устройство в точности повторяло фонтан в ханском дворце.
Голубой глаз был всюду: и на фонтанной мозаике среди кипарисов, и в восточном убранстве столовой.
В лесах ближних гор водились лоси. Мы завели охотничьи сторожки и частенько обедали там во время прогулок. Один домик стоял высоко на горе над ложбиной, и называли его „орлиное гнездо“. Мы закидывали камни на скалы, чтобы спугнуть орлов, и они взмывали и кружили над ложбиной». (Ф. Юсупов. Воспоминания).
В Коккозах все на «к» – камни, кручи, колодцы, сами козы. «Коз» – не коза, глаз. «Кок» – голубой. На голубом глазу принц Феликс Юсупов дарит своей невесте домик и близлежащий сосновый лес.
Из дневника великой княгини Ксении Александровы, матери невесты: «Чудная погода. В половине двенадцатого отправились с Юсуповыми, Минни, Ириной... в Орлиный полет, в 10 верстах от Ай-Петри. Дивное место. Я ехала в закрытом моторе с Зинаидой Юсуповой – обе весьма простужены.
В 8 верстах оттуда есть место, откуда открывается идеальнейший вид на всю долину Коккоз (вид и их дома) и горы, даже можно видеть море, но была мгла. Едешь через чудный буковый лес – и выезжаешь на площадку – красота большая!
Юсупов подарил все это прелестное место с домиком Ирине! Это ужасно трогательно, и княгиня и я совсем умилились, потому что он так любит ее. Ирина совсем обалдела, не могла даже благодарить как следует. Наконец я ее заставила поцеловать его!»
Когда-то князь Феликс Феликсович (старший) устраивал здесь праздник-байран. Сто лет назад розоворунные овцы в атласных ленточках, бараны в голубых перевязях стекались извилистыми ручейками с окрестных гор, чтобы предстать перед зваными гостями в версальских менуэтах и сарабандах. Звались все – от русского императора и португальского короля до простых чабанов. Сто лет спустя совсем все одичало. И видно, как все бедны и все бедно вокруг. Баранов сварили в нечищеных котлах еще в Гражданскую. С 1941 по 1944 год из окон охотничьего домика Юсуповых, тогда – казино, доносится бесхитростная мелодийка «Лили Марлен». Офицеры группы контрразведки «Айнзатцгруппа Д» под управлением группенфюрера СС, graalritter, рыцаря Грааля Отто Олендорфа сходились в ханскую столовую на отдых после карательных экспедиций и безуспешных выматывающих поисков чаши Грааля. Вокруг – много захоронений готов, что привлекало Олендорфа, который поставил себе целью отыскать именно здесь священный сосуд, выскользнувший из рук первых крестоносцев и мистически ушедший из Византии, как он полагал, в пещерный Крым. Осмотрены старые мечети, мавзолей дочери Тохтамыша Джанике-ханум, пещерное поселение Чуфут-Кале, остатки крепости Керменчик. За эти экспедиции Олендорф получает от Гитлера Железный крест, но не чашу. Вырубленный фруктовый сад и парк перед княжеским домом – памятка «Айнзатцгруппы Д». В те же годы князь Юсупов насаждает сад. В окрестностях Парижа, на небольшом участке собственной земли, Феликс встает на рассвете, возится в огороде, выкапывает картошку и, погрузив ее на велосипед, вихляя передним колесом, катит в Париж. И категорически отказывается идти на переговоры с немцами, предлагающими ему, ни много ни мало, царский трон с двуглавым орлом.
Оккупированный Париж. «О, эта вечная жалкая картина всеобщего исхода: перепуганное стадо женщин, детей, стариков, кто в силах – на своих, кто нет – на повозках и тачках, куча-мала с собаками, кошками, шкафами и перинами. Лица растеряны или безумны» (Ф. Юсупов. Воспоминания).
...Под ногами – камни, желуди, лесные орехи. На горизонте – гора «Орлиный залет» в форме орлиного крыла. Почему-то привязанная к забору на пригорке коза. Тополя. Так щемяще странно вступать на твою территорию, князь. Нет чудной зеленой майолики на крыше, нет цветных витражей, ни одного фонтана. А их по проекту – три или четыре. Коккоз – любимое детище талантливого архитектора его императорского двора А. Краснова.
«Замазать все масляной краской!» – последнее указание завхоза во время очередного ремонта в школе-интернате, разместившейся в княжьем доме.
Перед охотничьим домиком, довольно запущенным, вызвавшаяся простодушная экскурсия из трех подростков, самый смелый из которых – «А давайте я вам расскажу» – татарчонок с вишневыми глазами, а совсем не с голубыми, младший брат Беллы. Населяло когда-то, по легенде, долину Бельбек татарское племя с голубыми глазами. «Расскажу...» «Кара-коз». Черный глаз. Карагез. О, какой конь, нет быстрее Карагеза. Верхом на таком Карагезе, на верхней тропе, и встретил князь свою будущую невесту. Под копытами коня – кремни, груши. Не слышно клекота орлов в кручах. Горошком пересыпается по крашеным облупленным ступенькам деревянной лестницы звонкий голосок заманившего на экскурсию:
– Здесь жил царь Юсуп. Здесь под лестницей жили слуги. Не знаю, сколько строили дом Юсупу, наверное, больше года. Здесь был фонтан. Его замазали...
По его быстрым «кара» глазкам вижу, что в конце прогулки Азамат «на авось» попросит маленькое вознаграждение.
– Здесь было красиво. Люстра висела до потолка. Здесь была решетка, там хранили золото. Здесь была спальня княгини. Там была такая красота. Глаз всех оттенков. Закрасили, когда был ремонт. Здесь была казна, здесь казнили.
Спускаемся вдоль Коккозки, правого притока Бельбека. Воздух в энное количество раз чище, чем в операционной, – не поэтическое сравнение, замеры ответственных метеорологов. Струи горной речки, нигде не соприкасаясь с продуктами человеческой деятельности, той самой чистоты, под хрустальные чаши Грааля. Тополя – алтарными свечами в небесный неф.
Туман, выспавшись на крыле орла, будто нехотя начал подниматься, но потом передумал. Короткими стежками застрочили по небу стрижи и ласточки. Поднявшийся неожиданно сильный ветер, заморосивший дождик меняют планы. Ветер так силен, что высоченный тополь низко кланяется до земли то в одну, то в другую сторону...
1943 год. В селе Тополевка, в двух часах езды от Соколиного, где тополя так же высоки и так же низко кланяются от ветра, не спят мои бабушка и дедушка. Это – их последняя ночь. Ночь оставленности в крымском «Гефсиманском саду». На рассвете придут немецкие солдаты в сопровождении невыспавшегося офицера из «Айнзатцгруппы Д» и заберут в симферопольскую тюрьму. В Симферополе их расстреляют за связь с партизанами – по доносу соседа. Мои крымские предки – не бусины ли они одного красно-белого ожерелья, что, хлынув с единой, порванной кем-то нити, рассыпаются и пропадают все?..
Укрыться скорее бы под кровлю. В покосившуюся калитку, как в зону после проверки, закосолапили гуси. Трое опоздавших зэков, вытянув мокрые шеи, с испуганными криками «А нам, а нам!..» за последней пайкой бросились догонять стаю. Охоты на сегодня отменяются. Остаются охотничьи рассказы под гусиное гагаченье и сердитое бурлыканье соседского индюка. Много чего мог бы порассказать павлин, что жил у Ивана Шмелева в Алуште в двадцатом году. Очевидец таких событий. Но его изумрудный хвост давно не ныряет в ближних виноградниках.
Ну, о чем тебе еще поведать, князь? Во-первых, в Соколином соколов нет. В Бахчисарае, недалеко отсюда, на территории ханского дворца стоит соколиная башня. И можно предположить, что Эдигей, твой пращур, основатель крымского ханства, любимый военачальник железного хромца Тимура, тешился когда-то в этих краях соколиной охотой. Но это было так давно. Орлы если и есть, то слишком высоко. И все же на десерт – правдивый охотничий рассказ. Поведал местный охотник, который давно поселился здесь и ходит по курчавому лесу напрямик без тропинок, добывая себе на пропитание кроликов, почти как маркиз де Карабас. В одну из прогулок, когда он пробирался ввысь напролом, на каменистом плато неожиданно встретил сидящих в круг пять больших орлов. Опешил охотник, но не орлы. При его появлении орлы повернули свои головы и посмотрели ему в глаза. Какие-то доли секунд ничего не происходило. Потом один орел, видимо старший, отделившись от группы, не торопясь, прошествовал мимо охотника к краю площадки, оттолкнулся и взмыл в небо. За ним с тем же достоинством на полосу старта вышел второй орел и взлетел. Следом третий, четвертый и, наконец, пятый.
Царский герб не должен опускаться низко.
Первым вышел и пошел по красной дорожке к обрыву, конечно, император Николай II. И улетел. Вторым орлом был Феликс Феликсович Юсупов-старший, граф Сумароков-Эльстон. Третьей орлицей закружила над князем княгиня Зинаида Юсупова. Четвертым весело вырвался в небо князь Феликс Юсупов-младший. Пятой поднялась за своим суженым великая княгиня Ирина Александровна Романова.
ГАЛАТЕИ
Это бред. Это сон. Это снится...
Это прошлого сладкий дурман.
Это юности Белая Птица,
Улетевшая в серый туман.
Вы в гимназии. Церковь. Суббота.
Хор так звонко-весенне поет...
Вы уже влюблены, и кого-то
Ваше сердце взволнованно ждет.
А. Вертинский
Сбросив Врангеля в Черное море, Колчака – в полынью, влепив поручику Говорухе-Отроку сорок первую по счету пулю, дети революции присели на завалинку погрызть из кулака семечек и оглядеть себя. Выкатили бочку и воздвигли на нее свою Галатею, кряжистую, прочно стоящую на мощных ногах, босых – у доярки, в гипсовых носках – у девушки с веслом. Не знаю, как та история с ребром, но из одной икроножной стальной мышцы «Колхозницы» Мухиной можно было выкроить дюжину Адамов и, попутно отобрав у них паспорта, навечно записать в колхозы.
И что же, первый хулиган, он же глашатай Советов, в первом же Париже сворачивает шею за барышней, своей соотечественницей:
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
эту красавицу взял
и сказал:
правильно сказал
или неправильно?
Эту красавицу, топ-модель Татьяну Яковлеву, племянницу известного художника Александра Яковлева, «одну себе вровень», Владимир Владимирович уговаривает идти за себя и за собой в Москву в 1920 году такими словами:
...вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Но не уговорил. Татьяна сама недавно спаслась из Москвы. И была очень счастлива с мужем, прожив с ним всю жизнь в любви и согласии около полувека.
Длинноногие остались в Париже. Длинноногие вышли на «язык». (На жаргоне профессионалов «язык» – дорожка, по которой дефилируют модели.) Вышли и прошли, сорвав аплодисменты, представительницы русских аристократических фамилий: Оболенские, Палей, Эристовы, – девушки, прекрасно говорящие на нескольких иностранных языках, с безупречными манерами, врожденным вкусом.
В 1924 году к Высокой моде присоединились и Юсуповы. Скандально известный князь открывает на rue Duphot Дом мод «Ирфе». «Ир» – Ирина, «Фе» – Феликс. Взыскательным парижанкам пришлись по вкусу модели «Ирфе» – элегантный крой, тщательность отделки, парфюм от «Ирфе» – для блондинок, брюнеток и, представьте, даже рыжих. Первых посетительниц принимала лично великая княгиня Ирина Александровна Юсупова, в девичестве Романова. «Его жена Ирина, бледная, очень молчаливая и замкнутая, с необыкновенно красивым и строгим лицом, принимала покупательниц. Она никогда не улыбалась. У нее были светло-серые печальные глаза и светлые волосы. Она редко показывалась где-нибудь. Сам же Юсупов очень любил общество и особенно людей искусства» (А. Вертинский. «Дорогой длинною»).
Заинтригованные историями, тянущимися длинным шлейфом за красавцем князем, многие приходили поглазеть только на него.
Феникс с изумрудными глазами и драгоценным опереньем для золотой клетки императоров. Помнишь, как махараджа (ты еще смеялся: из штата Раджпутана) задумал забрать тебя в Индию со всеми потрохами. Когда впервые он переступил порог твоего парижского пристанища, на полу уже расположился цыганский хор. Ты сидел в углу, на ступеньках темной лестницы. Ты поднялся и сделал навстречу гостю, которого сопровождала свита, несколько шагов, поприветствовать. Поднял на него глаза, предложил стул, тот отказался. Так вы и продолжали стоять какое-то время друг против друга на стелившейся под ногами цветастой лужайке из шелка, пошедшей волнами под распускающееся: «Ой, чавалэ, ромалэ...» На исходе ночи ты сам исполнил под гитару несколько русских романсов.
Воображаю, что сталось с махараджей. Мне даже радостно представить, как тот остолбенел. (Не все же мне одной страдать!) А дома, разогнав слуг, повытряс из клеток мангустов, белок, попугаев, повыдергивал муаровые хвосты у страусов, не зная, что делать со своей страстью. Уже на следующий день он прислал тебе приглашение на ответный ужин и, одев в одежды белого шейха, с шелковым тюрбаном, обвив шею тройным рядом драгоценного жемчуга (его первый министр в продолжение всего ужина стоял за твоим стулом, не смея сесть в присутствии потомка из рода Мухаммеда), вывалил перед тобой гору драгоценностей, из которых ты сам, любивший камни и понимавший в них толк, выделил безупречные по чистоте и форме изумруды, размером с голубиное яйцо.
«Смести бы всю эту гору золота со стола в мешок да дать деру. Сколько можно было бы открыть богаделен для наших старичков» – примерно такая мысль просвистела ногайской каленой стрелой под белым тюрбаном, пока ты смотрелся на свое отражение в зеркале...
Затолкав заветную коробку с фотографиями поглубже под кровать, остаток памятного дня – осознания мною красоты более пронзительной, чем красота открытого Джоном Картером юного Тутанхамона, – я провела на кухне у моей заветной подруги. В доме у них всегда было даже лучше, чем у нас. В нашей квартире постоянно зачинались ссоры: мама ни в чем не хотела уступать отцу. У Алены дома царил «мир всем»: там тебя привечали полки с книгами, широкий просторный диван, пахло тестом с кухни. Мы сразу шли на кухню пить чай с плюшками; за нами, за плюшками, семенила их черная лохматая собака, тоже Плюшка. Потом перебирались на диван и часами говорили о прочитанном, о кино, спектаклях...
Ленина мама, Татьяна Сергеевна, работала в Институте русского языка на Волхонке. Исторически их семья была из верхнего города, на Сивцевом Вражке сохранился дореволюционный отеческий дом с колоннами. Они имели древние аристократические корни с примесью немецкой крови, военная элита. Дедушка Алены, адмирал, перешедший на сторону Советов, уцелевший, на пенсии, целыми сутками молчал. Зато его дочь к середине шестидесятых вовсю занималась правозащитной деятельностью, тесно сотрудничая с Андреем Сахаровым. Однажды ее сняли с поезда, на котором она спешила из Москвы в Питер на заседание суда, обвинявшего нигде не служившего поэта. Домой к Лениной маме уже приходили ходоки за правдой из самых дальних уголков России. Ходоков, отставив в угол их кривые посохи, вели на кухню поить чаем. Татьяну Сергеевну знали на Западе. Ее фамилию озвучивали на радио «Свобода». Ее уже не могли отправить товарняком в Западную Сибирь с четырьмя детьми. На Лубянке ей очень вежливо, но настойчиво предложили эмиграцию. Так они и отбыли семьей в середине семидесятых очередной эмиграционной волной во Францию.
В Париже – много наших. И Алена писала мне, что там они еще встречали первых русских эмигрантов – настоящих, с безупречной русской речью, воспитанием и любовью, лучащейся светом в их глазах.
«Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут, облепленные им, – красота и радость. Особенно была хороша одна – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?» (И. Бунин. «Окаянные дни»).
РЕМБРАНДТЫ
Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...
И. Бунин. «Окаянные дни»
Штампы русской эмиграции в Париже: «князья-таксисты», «графини-швеи». Во дворе православной церкви на rue Daru обычно висели объявления о найме на работу. Нельзя сказать, что Юсупов часто посещал храм, избегая любопытных взоров, перешептываний за спиной: «Тот самый, который Распутина...» В младенчестве, когда малютка Феликс, как и все, начал задавать вопросы – а он был охоч до них, – одним из его первых вопросов было: «Что такое Бог?» Ему объяснили, что это невидимая верховная власть на небе. С тех пор он часто смотрел в небо, пытаясь обнаружить там черты лица или изображение какого-то существа. Взрослым князь говорил: «Он сделает Сам, как захочет». Господь Бог в отношении Юсупова, да и в отношении всей России, захотел сделать многое. Первый удар – смерть любимого брата, отчаяние видеть свою мать безутешной. Только Юсуповы пришли в себя, на голову – новое великое низвержение: революция. Потеря состояния, положения, тотчас следом – изгнание, потеря Родины. Не только Юсуповы, многие оказались на положении бедного Иова.
«А беженцам вечно надо было есть, спать, одеваться. И они по-прежнему обращались к нам. В самом деле, никто не верил, что от колоссальных юсуповских богатств остались рожки да ножки. Считалось, что у нас счета в европейских банках. А считалось напрасно. От всего, что было, остался только дом на Женевском озере, да еще два Рембрандта, тайком укативших со мной из Петербурга, благо у большевиков прежде не дошли до них руки. А когда красные появились в Крыму, я завесил их в кореизской гостиной невинными цветочными натюрмортами своей двоюродной сестрицы» (Ф. Юсупов. Воспоминания).
Фамильные Рембрандты. О, за них стоило побороться в суде. «Портрет мужчины в высокой шляпе с перчатками» и «Портрет дамы со страусовым веером в руках». Абсолютные шедевры, сработанные зрелым мастером. 1588 – 1600 годы. Постоянное место пребывания – Вашингтонская национальная галерея.
Как же ты их вывозил из Петербурга в 1918 году? Глухой ночью, конечно, так как дворец на Мойке, ваш дом, уже состоял под охраной рабочих комитетов. Переодевшись в простую одежду, прижимаясь к холодным перилам мраморных лестниц, прокрался в залу, где на одной стене, отсвечивая драгоценной манжетой из голландских кружев навстречу фонарику, задумался в тени широкополой шляпы о своей судьбе молодой человек и, трепетно белея страусовым веером, покорная воле Всевышнего, тонко светилась дама напротив. Срезал холсты или осторожно вынул из барочной рамы, не без помощи верного слуги, замученного впоследствии братишками, но так и не выдавшего место хранения главного тайника с драгоценностями. По истечении некоторого времени разноцветные камешки охотно посыпались сами, почти как в знаменитых «Двенадцати стульях», при переустройстве чего-то, прямо в подол мачехи революции.
Революция. Скажи спасибо своему талисманному имени, счастливчик. Ты чудом ушел в Крым. Благополучно уехал поездом с Рембрандтами в мешке. Тебя миновала участь герцога Энгиенского, которого тепленьким вытащили из постели и поволокли на расстрел под скулеж комнатных собачек, того звали просто – Луи Антуан.
Аристократия – лучшие воины древности.
Драгоценностей не было, а весь зарубежный капитал родители-патриоты благоразумно перевели к началу Первой мировой войны в Россию. Ничего, оставалась еще Peregrina, уникальная жемчужина испанского короля Филиппа Красивого, по преданию – парная жемчужина Клеопатры, ценный черный жемчуг да пара серег Марии Антуанетты, которые никто не хотел покупать, так как обладательница их все-таки лишилась головы; тут стоит вздохнуть и добавить: в революцию.
Так почему же, черт возьми, ты проиграл тот процесс в Нью-Йорке? Ведь условия сделки были предельно просты. Ты имел приоритетное право выкупить работы в течение трех лет. Я думаю, что на решение судей – кроме того главного соображения, что кто же, если он в здравом уме, добровольно отдаст Рембрандта, раз он уже в руках, – повлиял отчасти мистическим образом и сам Рембрандт Ван Рейн, знавший наперед, что ты спустишь разом все деньги, чем, собственно, и сам грешил. И ты бы спустил, но, в отличие от него, не на прекрасные византийские перстни с каменьями, серебряные порфирные чаши, драгоценные диадемы и дамасские шелка, а на глупых, жалких, из самых низших каст, мечущихся в панике беженцев из дикой России, своих соотечественников.
Что не так? Сверкни теперь на меня своими фосфоресцирующими глазами снежного барса. «Говорят, у него глаза фосфоресцируют, как у хищного зверя». «И совсем он не так хорош, как о нем рассказывают». К слову, о Рембрандте. За границей судьба свела вашу дочь Ирину с одним из представителей клана Шереметевых, ставшим впоследствии ее мужем, Николаем. В России у Шереметевых также имелся свой Рембрандт. Но Василий Павлович Шереметев, прозванный князем Мышкиным за то, что первому встречному мог отдать все, что у него было, снес своего Рембрандта в музей. В ответ музей поощрил его путевкой в подмосковный дом творчества, аж на полгода. Другое дело, что Василию Павловичу оказался неприятен сосед по комнате (понятное дело, буржуйское воспитание), и граф на третий день ушел в Москву пешком, так как у него не было денег на транспорт: электричку, трамвай. А так у вас в семье теперь могло бы быть целых три Рембрандта... Ах, да о чем там говорить! Как завораживал Вертинский под рояль: «Принесла случайная молва милые, ненужные слова... Летний сад, Фонтанка и Нева. Вы, слова залетные, куда? Тут шумят чужие города... Надо жить, не надо вспоминать... Это было... Было и прошло. Все прошло и вьюгой замело. Оттого так пусто и светло».
Вертинский не остался в Париже. Он не захотел, чтобы его «доченьки» пошли в «дансинг-герлз» или на «язык». Его желанием стало вернуться в Союз. Берегитесь исполнения своих желаний. Исполненные, не всякому они по силам. Так они и колесили в пятидесятые годы по проселочным дорогам, будто сошедшие с голубых холстов Пикассо, – состарившийся белый клоун, в паре с другим бродячим арлекином, Мессингом. Парочка заслуженных юродивых из СССР. Выступления в неотапливаемых клубах, в Домах колхозника, удобства во дворе, без света и горячей воды.
«Тоже – город. Ехали целый день поездом – и приехали... ни воды в номере, ни сортира. Вода на первом этаже, а сортир... Надо ходить на двор – в сарай. Или на шоссе, если кто хочет простора!
И вот в таких условиях надо жить здесь и петь мои чудесные песни. Это называется „культурное обслуживание“... Злость берет. Ни умыться, ни отдохнуть. И на кой дьявол им посылают Вертинского? Вспомнилась строчка Есенина:
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Действительно... такая жизнь может только присниться». (А. Вертинский. Из письма к жене).
Так – дома. А как не дома? «Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело! Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска. Все – чужое. Души-то родной нет, а вежливости много...» (Из письма И. Шмелева А. Куприну).
Ни одно устройство благотворительных организаций в Париже не обходилось без прямого участия князя Юсупова. С рассвета он уже на ногах, бегает, уговаривает, ищет меценатов. В последний год князь встает в шесть часов утра, варит супчик в кастрюльке и несет на чердак, утешать отчаявшегося старичка эмигранта, подумывающего о том, как наложить на себя руки.
Однажды, и этот случай он вспоминает в своей книге «После изгнания», к ним в дом постучали. На пороге стоял русский с пистолетом в руке. Извинившись, он попросил вызвать к нему хозяина. Князю же заявил, что задумал уйти из жизни и хочет просто перед смертью на него взглянуть. Феликс не стал его отговаривать, а, мягко взяв под руку, провел в сад, где усадил рядом с собой на скамеечку. Внимательно выслушал незнакомца, а потом раскрыл пред ним обстоятельства его жизни с самой лучшей стороны. У него был дар видеть во всем хорошую сторону. Пистолет был отброшен в сторону. Прощаясь, гость крепко пожал руку Юсупову и вышел. Больше князь его никогда не видел.
Что бы ни происходило в его собственной жизни: банкротства, долги, проигранные суды, нищета, – отчаянию никогда не суждено было завладеть им совершенно. Казалось бы, все погибло, объято пламенем – вот, вспыхнул Феникс. Но всегда в наметенном холмике пепла, как вбитое в горстку муки яйцо, дрожало, переливаясь светом, не знающее тлена и смерти, любящее его сердце.
В Париже, в русском ковчеге, на десятки лет ты стал практически Ноем. Ты спасал всех подряд – дворян и слуг, собак и попугаев. У князя странное жилье – наполненное собаками, кошками, попугаями, челядью из странных людей. Но самым странным, разумеется, был ты – принимать давнего приятеля, португальского короля, у себя в гостях и сервировать для него ужин в ванной, за неимением другого места: все отдано под беженцев.
Даже твоя жена, привыкшая за долгие годы жизни с тобой ничему не удивляться, обхватила голову руками, когда уже после твоей смерти заглянула в записную книжку. Ей сразу стало понятно, отчего так быстро исчезали деньги: анонимные перечисления в сиротские приюты, ни просьбы без ответа. Даже при нужде большая часть денег уходила просящим.
...Так ты что, прошел сквозь игольное ушко, хитрец?
Ладно, оставляю тебя вместе с Шурой Вертинским за столиком в кабачке «Mezonet Russe»... Русский домик для друзей.
« – Я часто вижу во сне Россию... И знаете, милый, если бы можно было совсем тихо и незаметно, в простом крестьянском платье, пробраться туда и жить где-нибудь в деревне, никому не известным обыкновенным жителем, какое бы это было счастье! Какая радость!..» (А. Вертинский. «Дорогой длинною»).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.