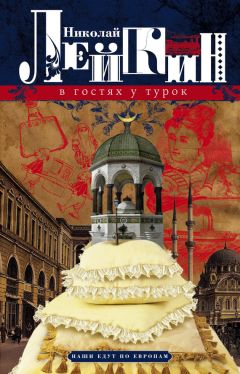
Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмористическая проза, Юмор
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Турецкие нравы и обычаи
– Фу, как накрашена! Даже сыплется с нее! – воскликнула Глафира Семеновна, посмотрев на турецкую даму.
– У турчанок, мадам, это в моде, – ответил проводник. – Самого молоденького хорошенького дама – и та красится. Хороша, а хочет быть еще лучше. На константинопольские дамы выходит столько краски, сколько не выйдет на весь Париж, Берлин, Лондон и Вена, если их вместе взять. Да, пожалуй, можно сюда и ваш Петербург приложить. Не смейтесь, мадам, это верно, – прибавил он, заметя улыбку Глафиры Семеновны. – Как встает поутру – сейчас краситься, и так целого дня. Им, мадам, больше делать нечего. Кофе, шербет, конфекты и малярное мастерство! Гулять дама от хорошего общества без евнуха не может.
– Отчего? – быстро спросила Глафира Семеновна.
– Этикет такой. Жена от наша или от турецкого шамбелен даже пешком по улицам ходить не должна, а если поедет на кладбище или в модного французского лавка в Пера – всегда с евнух…
– Как это, в самом деле, скучно. Какие ревнивцы турки. Ведь это они из ревности запрещают.
– Нет, не из ревность. Этикет. Как ваша петербургского большого дама без лакей никуда не поедет, так и здешняя большого дама без евнух не поедет.
– Могла бы с мужем.
– Пс… – произнес на козлах проводник и отрицательно потряс рукой. – Никакого турок, даже самый простой, никуда со своя жена не ходит и не ездит.
– Отчего же? Взял бы под руку, как у нас, и пошел.
– Какая ты, душечка, странная, – возразил супруге Николай Иванович. – Как турку взять жену под ручку и идти с ней гулять, если у него их пять-шесть штук. Ведь рук-то всего две. Возьмет с собой пару – сейчас остальные обидятся. Ревность… Да и две-то если взять с собой, одну под одну руку, другую под другую, то и тут по дороге может быть драка из ревности…
– Позвольте, позвольте, господин, – перебил Николая Ивановича проводник. – Прежде всего, теперь в Константинополе очень мало турок, у кого и две-то жены есть. Все больше по одной.
– Как? Отчего?
– Дорого содержать. Да и моды нет.
– А гаремы? Ведь у турок гаремы, и в них, говорят, по тридцати – сорока жен.
– На весь Константинополь теперь и десяти гаремов нет. То есть гаремы есть, потому турецкого дамы не должны в мужского комната жить, а живут в женского половина, что называется гарем, но в этого гарем у самого старого и богатого турка две-три жены и женская прислуга, а у молодой турок почти всегда одна жена.
– Это для меня новость, – проговорила Глафира Семеновна удивленно. – Но отчего же у старого больше, чем у молодого? Вот что странно.
– О, тут совсем другого разговор! Старые турки живут на старомодного фасон, а молодого турки по новой мода.
– Так, так… Это значит, одни по цивилизации, а другие без цивилизации, – сказал Николай Иванович.
– Вот-вот… Одни на европейский манер, а другие… Но все-таки, кто и на европейский манер, всегда есть шуры– муры с прислугой. Ведь всегда есть хорошенького молоденького прислуга, – пояснил проводник.
– Понимаю, понимаю, – проговорил Николай Иванович.
– Но отчего же молодые турки, у которых по одной жене, не могут гулять с ней по городу под руку? – допытывалась у проводника Глафира Семеновна.
– Закон не позволяет. Боятся своего турецкого попов.
– Да ведь сами же вы сейчас сказали, что они цивилизованные, так что им попы!
– О, может выйти большого неприятность!
– Бедные турецкие дамы. Ну, понятное дело, они от скуки и красятся, – произнесла Глафира Семеновна. – Да-да… Вот еще дама в карете проехала, и с нею девочка и мальчик в феске. Тоже страшно наштукатурена.
– Армянского дамы, греческого дамы, еврейского – те не красятся, у тех нет этого мода, – рассказывал проводник. – То есть так разного косметического товар они на себя кладут, но немножко – и без мода. Вот одного моего знакомого дама, мадам Лилиенберт идет, – указал он на черноокую молодую еврейку в шляпе с целой клумбой цветов. – Она без штукатурки. Муж ее банкир и продает старинного турецкие вещи.
В конце моста сделалось еще многолюднее. Было уж даже тесно. Экипаж ехал шагом. Кучер то и дело кричал и осаживал лошадей, чтобы не раздавить прохожих. Между прочими двигалась целая толпа халатников – человек пятьдесят, в белых чалмах с зеленой прослойкой и с четками в руках.
– Это все духовного попы и дьячки из провинции. Они идут с мечети Гамидие, чтобы видеть султана и занять лучшие места, – пояснил проводник. – Да и вся эта публика идет туда же, на Селамлик, смотреть на церемонию.
– Стало быть, толпа эта не обычная? – спросил Николай Иванович.
– На мостах всегда бывает очень тесно, но сегодня Селамлик, а потому еще теснее. Все спешат, чтобы прийти пораньше и занять хорошего места.
– Батюшки! Что это? Католические монахи… – указала Глафира Семеновна мужу на двух капуцинов в коричневых рясах и с непокрытыми головами. – Точь-точь как в Риме. Послушайте, разве здесь позволяется им ходить в своем наряде? – обратилась она к проводнику.
– В Константинополе, мадам, каждый человек, каждый поп может ходить в своего собственного одежде и ни один турок над ним не будет смеяться. Вот это самого лучшего обычай у турок. Ни в Париже, ни в Берлине, ни в Вене вы этого не увидите. Там сейчас мальчишки сзади побегут и начнут дергать за одежду, свистать, смееться, пальцами указывать, а здесь у турецкий народ этого нет. Вон, видите, армянского священник в своего колпак идет, и никто на него внимания не обращает.
– Верно, верно. Мы были в Париже и видели, – подхватил Николай Иванович. – Я приехал туда в феврале третьего года в барашковой скуфейке, и на мою шапку мальчишки на улице пальцем указывали и кричали: «Перс! Перс!» А здесь это удивительно.
– Да, нигде за границей духовенство в своем поповском платье не ходит, – прибавила Глафира Семеновна.
– А здесь, у турок, каждый чужой человек как хочешь молись, какую хочешь церковь или синагогу строй и никому дела нет, – продолжал рассказывать проводник. – Тут и греческого ортодокс церкви есть, есть и армянского церкви, есть католического, протестантского, еврейского синагоги, караимского синагоги, церкви от ваших раскольники, церкви английского веры. Какой хочешь церкви строй, какой хочешь поп приезжай, в своей одежде гуляй – и никому дела нет.
И точно, в конце моста показались католические монахини в своих белых головных уборах, с крестами на груди. Они вели девочек, одетых в коричневые платья, очевидно воспитанниц какого-нибудь католического приюта или училища. Увидали супруги и греческого монаха в черном клобуке и с наперсным крестом на шее. С ним шел служка в скуфье и подряснике. Еще подальше шел католический монах в черном и в длинной черной шляпе доской. Видели они монаха и в белом одеянии с четками на руке.
– Удивительно, здесь свобода духовенству! – воскликнула Глафира Семеновна.
Экипаж стал съезжать с моста. Его окружили три косматые цыганки в пестрых лохмотьях, с грудными ребятами, привязанными за спинами, протягивали руки и кричали:
– Бакшиш, эфенди, бакшиш!
Одна из цыганок вскочила даже на подножку коляски.
– Прочь! Прочь! – махнул ей рукой Николай Иванович.
Дабы отвязаться от них, проводник кинул им на доски моста медную монету. Цыганки бросились поднимать монету.
Экипаж въехал на берег Галаты.
Здесь все перемешалось
– Вот уж здесь европейская часть города начинается, – сказал проводник Нюренберг, когда экипаж свернул на набережную. – Галата и Пера – это маленького Париж с хорошего куском Вены. В гостиницу, в магазин, в контору или в ресторан и в кафе войдете – везде по– французски или по-немецки разговаривают. Но большего часть – по-французски. Тут есть даже извозчиков, которые по-французски понимают, лодочники и те будут понимать, если что-нибудь скажете по-французски. Совсем турецкого Париж.
– А по-русски понимают? – спросил Николай Иванович проводника.
– От лодочников есть такого люди, что и русского языка понимают. Галата и Пера – весь Европа. Тут на всякого язык разговаривают. Тут и англичанский народ, тут итальянского, тут и ишпанского, и датского, и голандского, и шведского, греческого, армянского, арабского. Всякого язык есть.
От самого моста шла конно-железная дорога с вагонами в один ярус, но в две лошади, так как путь ее лежал в гору. Вагоны были битком набиты, и разношерстная публика стояла не только на тормозах, но даже и на ступеньке, ведущей к тормозу, цепляясь за что попало. Кондуктор безостановочно трубил в медный рожок.
– Смотри, арап, – указала Глафира Семеновна мужу на негра в феске, выглядывающего с тормаза и скалившего белые, как слоновая кость, зубы.
– О, здесь много этого черного народ! – откликнулся проводник. – У нашего падишах есть даже целого батальон черного солдатов. Черного горничные и кухарки… и няньки также много. Самого лучшего нянька считается черная. Да вон две идут, – указал он.
И точно, по тротуару, с корзинками, набитыми провизией, шли две негритянки, одетые в розовые, из мебельного ситца, платья с кофточками и в пестрых ситцевых платках на головах, по костюму очень смахивающие на наших петербургских баб-капорок с огородов.
К довершению пестроты, по тротуару шел, важно выступая, босой араб, весь закутанный в белую материю, с белым тюрбаном на голове и в медных больших серьгах.
Дома на набережной Галаты были грязные, с облупившейся штукатуркой и сплошь завешенные вывесками разных контор и агентств, испещренными турецкими и латинскими надписями. Кое-где попадались и греческие надписи. Глафира Семеновна начала читать фамилии владельцев контор, и через вывеску начали попадаться Розенберги, Лилиентали, Блуменфельды и иные «берги», «тали» и «фельды».
– Должно быть, все жиды, – сказал Николай Иванович и крикнул проводнику: – А евреев здесь много?
– О, больше, чем в российского городе Бердичев! – отвечал тот со смехом.
– А вы сами еврей?
– Я? – замялся Нюренберг. – Я американского подданный. Мой папенька был еврей, моя маменька была еврейка, а я свободного гражданин Северо-Американского Штаты.
– А я думал – русский еврей. Но отчего же вы говорите по-русски?
– Я родился в России, в Польше, жил со своего папенька в Копенгаген, поехал с датского посольства в Петербург, потом перешел в шведского консульство в Америку. Попал из Америки в Одессу, и вот теперь в Константинополе. Я и в Каир из Египта был.
– А веры-то вы какой? Мусульманской?
– Нет. Что вера! В Америке не надо никакой вера!
– А зачем же вы турецкую феску носите, если вы не магометанин?
– Тут в Константинополе, эфенди, кто в феске, тому почета больше, а я на турецкого языке говорю хорошо.
Экипаж поднимался в гору. Толпа значительно поредела. Чаще начали попадаться шляпы котелком, цилиндры, барашковые шапки славян, женщины с открытыми лицами. На улице виднелись уж вывески магазинов, гласящие только на французском языке: «Modes et robes, nouveautés» и т. п. Появились магазины с зеркальными стеклами в окнах. Начались большие каменные многоэтажные дома.
– Гранд Рю де Пера, – сказал с козел проводник. – Самого главного улица Пера в европейского часть города.
– Как? Главная улица – и такая узенькая! – воскликнула Глафира Семеновна.
– Турки, мадам, не любят широкого улицы. У них мечети широкие, а улицы совсем узенькие. Да летом, когда бывают жары, узенького улицы и лучше, они спасают от жаркого солнца.
– Но ведь сами же вы говорите, что это европейская часть города, стало быть, улица сделана европейцами.
– А европейского люди здесь все-таки в гостях у турок, они продают туркам модного товары и хотят сделать туркам приятного. Да для модный товар и лучше узенькая улица – на улице цвет товара не линяет. Опять же, мадам, когда в магазине потемнее, и залежалого материю продать легче.
– А здесь разве надувают в магазинах? Тут ведь все европейцы.
Проводник пожал на козлах плечами и произнес:
– Купцы – люди торговые. Что вы хотите, мадам! Везде одного и то же.
– А турки как? Тоже надувают?
– Турки самого честного купцы. Они не умеют надувать.
– То есть как это не умеют? – спросил Николай Иванович.
– Уверяю вас, ваше благородие, не умеют. Турок запрашивать цену любят, за все он спрашивает вдвое, и с ним всегда нужно торговаться и давать только третьего часть, а потом прибавлять понемножку, но плохого товар вместо хорошего он и в самого темного лавка не подсунет. Турок самого честного купец! Это вся европейского здешнего колония знает. Вот армянин, грек – ну, тут уж какого хочешь будь покупатель с вострыми глазами – наверное надует. Товаром надует, сдачей надует.
– А мясники тут турки или европейцы? – спросила Глафира Семеновна, увидав рядом с модным магазином с выставленными на окнах за зеркальными стеклами женскими шляпками мясную лавку с вывешенной на дверях великолепной белой тушей баранины.
– Мясники, хлебники, рыбаки – везде больше турки, – отвечал проводник. – Турки… А для еврейского народа – евреи.
– Но как здесь странно… – продолжала Глафира Семеновна, смотря по сторонам на магазины и лавки. – Магазин с дамскими нарядами за зеркальными стеклами, шелк, дорогие материи – и сейчас же бок о бок мясная лавка.
– Дальше по улице, так еще больше все перемешается, мадам. Такого у турок обычай. А вот потом на базаре в Стамбуле и не то еще увидите! Там и головы бреют, и шашлык жарят, и шелковые ленты и фаты продают – все вместе.
– Да и здесь уж все перемешалось, – сказала Глафира Семеновна.
И точно, роскошный французский магазин чередовался с убогой меняльной лавчонкой, по другую сторону магазина была мясная лавка, далее шло помещение шикарного кафе – и сейчас же рядом с кафе турецкая хлебопекарня, продающая также и вареную фасоль с кукурузой, а там опять модистка с выставленными на окнах шляпками и накидками.
Экипаж остановился около подъезда мрачного многоэтажного дома. На зеркальных стеклах входных дверей была надпись: Hôtel Perà Palace.
– Приехали в гостиницу? – спросил Николай Иванович.
– Приехали, эфенди, – отвечал проводник, соскакивая с козел.
Опять нет самовара
Из подъезда выскочил рослый детина, одетый в черногорский костюм, и стал помогать выходить из коляски приезжим, бормоча что-то по-турецки Адольфу Нюренбергу. Тот тоже вытаскивал из экипажа подушки, саквояжи, корзиночки. Супруги вступили в подъезд.
– Бакшиш, эфенди! – крикнул им вслед с козел кучер.
Проводник махнул ему рукой и сказал Николаю Ивановичу:
– Ничего не давайте, я дам сколько нужно, и потом вы получите самого настоящего счет.
В роскошных сенях гостиницы, с колоннами и мозаичным полом, подскочили к супругам два безукоризненно одетых фрачника, в воротничках, упирающихся в подбородок, и причесанные а-ля капуль, – один с бородкой Генриха IV, другой в бакенбардах в виде рыбьих плавательных перьев – и спросили: один по-французски, другой по-немецки, в каком этаже супруги желают иметь комнату.
– Пожалуйста, только невысоко, – отвечала Глафира Семеновна.
– У нас, мадам, великолепный асансер… – пояснил по-французски бакенбардист и пригласил супругов к подъемной машине, у которой уже мальчик в турецкой куртке и феске распахнул двери.
Прежде чем войти в комнату подъемной машины, супруги осмотрелись по сторонам. В сенях было несколько лепных дверей с позолотой, и на матовых стеклах их значились надписи, гласящие по-французски: «столовая», «кафе», «кабинет для чтения», «куафер», «бюро».
– Сдерут в такой гостинице. Ох как сдерут! Чувствую, что обдерут как липку, – проговорил Николай Иванович, влезая в подъемную машину.
– Ну что ж… Зато уж хорошо будет и лошадиным бифштексом не накормят, – отвечала Глафира Семеновна, усаживаясь на скамейку.
Торжественно встал перед ними в машине бакенбардист, достал для чего-то из кармана аспидные таблетки, раскрыл их и вынул из-за уха карандаш. Турчонок в феске запер дверь, нажал кнопку, раздался легкий свисток, и машина начала подниматься.
Во втором этаже машина остановилась. Опять свисток. Бакенбардист выскочил на площадку коридора и пригласил выйти супругов. Навстречу им вышел еще фрачник, уже гладко выбритый, еще более чопорный и уж с такими высокими воротничками, упирающимися в подбородок, что голова его окончательно не вертелась. За ним виднелась горничная в белом чепце пирамидой, черном платье на подъеме и переднике с кармашками, унизанном прошивками и кружевцами. Горничная совсем напоминала опереточную прислугу, какая обыкновенно бывает на сцене около декорации, изображающей таверну, подает жестяные кружки горланящему мужскому хору и наливает в них из бутафорских деревянных бутылок вино. Для довершения сходства у нее были даже подведены глаза.
– Сдерут. Семь шкур сдерут. Чувствую, – опять проговорил жене Николай Иванович, выходя из подъемной машины. – По лицу вижу, что вот эта глазастая привыкла к большим чаевым.
– Ну что тут… – отвечала жена. – Зато чисто, опрятно. А то уж я очень боялась, что мы попадем в Константинополе в какое-нибудь турецкое гнездо, где и к кофею-то подадут кобылье молоко.
– Вот комната о двух кроватях, – произнес по-французски, распахнув двери номера, первый фрачник. – Вчера из нее выехал русский шамбелен, – прибавил он. – Oh, une grande personne!
Комната была большая, в три окна, прекрасно меблированная.
– А комбьян? – спросил о цене Николай Иванович.
Фрачник в бакенбардах посчитал что-то карандашом на таблетках и отвечал:
– При двух кроватях эта комната будет вам стоить шестьдесят два пиастра в день.
Николай Иванович взглянул вопросительно на жену и сказал по-русски:
– Шестьдесят два пиастра… Разбери, сколько это на наши деньги! Вишь, какой туман подпускает. Надо, впрочем, поторговаться. Наш еврейчик давеча говорил, что здесь в Константинополе надо за все давать только половину. Ce шер, мосье… Прене половину. Ли муатье… – обратился он к фрачнику.
– Коман ли муатье? – удивился тот. – О, мосье, ну закон прификс.
– Ну, карант: франк.
– Вы меня удивляете, монсье… – продолжал фрачник по-французски и пожал плечами. – Разве наш торговый дом (notre maison) позволит себе просить больше, чем назначено администрацией гостиницы!
– Надо дать, что спрашивает. Он говорит, что у них без торга, – сказала Глафира Семеновна.
– Без торга! А еврейчик-то наш давеча что говорил? Дам ему пятьдесят. Ну, сянкант, мусью.
Фрачник с бакенбардами в виде плавательных перьев сделал строгое лицо, отрицательно потряс головой, сложил таблетки и убрал их в карман, а карандаш спрятал за ухо, как бы показывая, что окончательно прекращает разговоры. Гладко бритый фрачник улыбался и перешептывался с опереточной горничной.
– Ни копейки не хочет уступить, а еврейчик говорил, что в Константинополе надо торговаться, – повторил Николай Иванович жене.
– Да ведь наш еврейчик говорил про турок, – отвечала Глафира Семеновна, – а тут французы. Бон… Ну рестон зиси…[56]56
Мы остаемся (фр.).
[Закрыть] – обратилась она к фрачнику с бакенбардами и стала снимать с себя верхнее платье.
Фрачник в бакенбардах поклонился и вышел из комнаты. Опереточная горничная бросилась к Глафире Семеновне помогать ей снимать пальто. Гладко бритый фрачник принял от Николая Ивановича пальто и остановился у дверей в ожидании приказаний.
– Вообрази, от нее пахнет духами, как из парфюмерной лавки, – сказала мужу Глафира Семеновна про горничную, которая помогала ей снять калоши.
– Слышу, слышу, – отвечал тот, – и чувствую, что за все это сдерут. И за духи сдерут, и за трехэтажный чепчик сдерут, и за передник. Что ж, надо чаю напиться и закусить что-нибудь.
– Да-да… И надо велеть принести бутербродов, – проговорила Глафира Семеновна. – Апорте ну дю те… – обратилась она к слуге, ожидавшему приказаний.
– Bien, madame… Désirez vous du the complet?
– Вуй, вуй… Компле… Е авек бутерброд… Впрочем, что я! Де тартин…
– Sandwitch? – переспросил слуга.
– И сэндвич принесите.
– Постой… Надо спросить, нет ли у них русского самовара, так пусть подаст, – перебил жену Николай Иванович. – Экуте… Ву заве самовар рюс?
Слуга удивленно смотрел и не понимал.
– Самовар рюс… Te машине… Бульивар рюс… – пояснила Глафира Семеновна.
– Nous avons caviar russe, мадам, – произнес слуга.
– Ах, шут гороховый! – воскликнул Николай Иванович. – Мы ему про русский самовар, а он нам про русскую икру. И здесь, в Турции, полированные французы не знают, что такое русский самовар. Грабить русских умеют, а про самовар не имеют понятия. Апорте те компле, пян блян, бутерброд. Алле! – махнул он рукой слуге.
Слуга сделал поклон и удалился.
Чаепитие по-английски не состоялось
В комнату начали вносить багаж. Багаж вносили турки в фесках. Костюмы их были смесь европейского с турецким. Двое были в турецких куртках, один в короткой парусинной рубахе, перетянутой ремнем, один в жилете с нашитой на спине кожей и все в европейских панталонах. Входя в комнату, они приветствовали супругов Ивановых по-турецки, произнося «селям алейкюм», размещали принесенные вещи и кланялись, прикладывая ладонь руки ко лбу, около фески.
Николай Иванович, знавший из книжки «Переводчик с русского языка на турецкий» несколько турецких слов, отвечал на их поклоны словом «шюкюр», то есть «спасибо».
– Странное дело, – сказал он жене. – У меня в книжке есть даже фраза турецкая – «поставь самовар», а в гостинице не имеют никакого понятия о самоваре.
– Да ведь это европейская гостиница, – отвечала Глафира Семеновна.
– Только вот ты всего боишься, а напрасно мы не остановились в какой-нибудь турецкой гостинице. Ведь уж всякие-то европейские-то гостиницы мы видели и перевидели.
– Ну вот… Выдумывай еще что-нибудь! Тогда бы я ничего не пила и не ела.
– Баранину, пилав всегда можно есть.
– Как же! А что они в пилав-то мешают?
Николаю Ивановичу пришло в голову попрактиковаться в турецком языке, проверить, будут ли понимать его турецкие фразы из книжки, и он остановил одного турка, принесшего сундук, седого старика на жиденьких ногах и с необычайно большим носом. Затем открыл книгу и спросил:
– Мюслюман мы сын, я хрыстман?
– Мюслюман, эфендим, – отвечал турок, оживляясь, и улыбнулся.
– Понял, – радостно обратился Николай Иванович. – Я спросил его – мусульманин он или христианин, и он ответил, что мусульманин. Попробую спросить насчет самовара. Самовар – кайнат. Кайнат есть у вас? Кайнат рус? – спросил он опять турка.
– А! Кайнат! Нок[57]57
Нет (тур.).
[Закрыть], – покачал тот отрицательно головой.
– И насчет самовара понял. Спрошу его – говорит ли он по-немецки… У меня в книжке есть эта фраза… Нэмча лякырды эдермасиниз?
– Нок, эфенди.
– И это понял! Глафира Семеновна! А ведь дело-то идет на лад. Кажется, я и без проводника буду в состоянии объясняться по-турецки.
– Да брось, пожалуйста… Ну что ты как маленький… Отпусти его… Мне надо переодеваться, – раздраженно проговорила Глафира Семеновна.
– А вот попрошу у него спичек. Поймет, тогда и конец. Кибрит? Есть кибрит? – задал турку еще вопрос Николай Иванович и достал папироску.
Турок подбежал к столу, на котором стояли спички, чиркнул одну из них о спичечницу и поднес ему огня.
– Шюкюр, – поблагодарил его Николай Иванович, закурив папироску, сунул ему в руку монету в два пиастра и махнул рукой, чтобы он уходил, Получив неожиданный бакшиш, турок просиял, забормотал что-то по-турецки, стал прикладывать ладони к сердцу и задом вышел из комнаты.
– Какой забавный старик! – сказал ему вслед Николай Иванович и прибавил: – Ну, теперь я вижу, что с этой книжкой турки будут меня понимать.
Супруги стали изучать комнату. Две кровати были на венский манер, железные, с простеганным пуховиком-одеялом, и все это, вместе с подушками, было прикрыто простым турецким ковром. Мебель была также венская, гнутого дерева, но с мягкими сиденьями. Комната была с балконом. Супруги вышли на балкон. Балкон выходил в какой-то запущенный сад, обнесенный решеткой, за которой шла улица, и по ней тащился вагон конно-железной дороги. Влево виднелась голубая полоска воды Золотого Рога. В саду бродили и лежали сотни собак, приютившись под кипарисовыми деревьями. Тут были и старые ободранные псы, угрюмо смотрящие на веселых подростков– щенков, затеявших веселую игру друг с другом, были и матери с маленькими щенками, лежащие в выкопанных ямах. Все собаки были одной породы, несколько смахивающей на наших северных лаек, но менее их пушистые и с менее стоячими ушами и все одной масти – желтобурые.
– Несчастные… – проговорила Глафира Семеновна мужу. – Ведь, поди, голодные… И смотри, сколько из них хромает! А вон и совсем собака без ноги. Только на трех ногах… В особенности вот тех, которые со щенками, жалко. Надо будет их покормить. У меня осталось немного хлеба и колбасы… Есть сыр засохший.
Она сходила в комнату, вынесла оттуда дорожную корзинку и начала из нее выкидывать в сад все съестное.
Собаки всполошились и бросились хватать брошенные куски. Хватали и тащили прочь. Но вот на один кусок бросилось несколько собак, и началась свалка. Писк, визг, грызня… Сильные одолели слабых, завладели кусками, а слабые, хромая от только что нанесенных повреждений в драке, стали отходить от них.
В дверь стучали. Глафира Семеновна услыхала стук с балкона, вошла в комнату и крикнула: «Антрэ!»
Вошли два лакея-фрачника с мельхиоровыми подносами, торжественно державшие их на плече, и опустили на стол. На одном подносе стояли миниатюрные две чашечки из тонкого фарфора, два миниатюрных мельхиоровых чайника, два таких же блюдечка с вареньем, два с медом, блюдце, переполненное сахаром, масло и булки. На другом лежали на двух блюдечках английские сэндвичи и буше с мясом и сыром и помещались флакон с коньяком, две маленькие рюмки и разрезанный пополам лимон. Увидав все это, Глафира Семеновна поморщилась, пожала плечами и крикнула мужу на балкон:
– Николай! Иди пить английскую ваксу чайными ложечками. Чай подали по-английски!
– Да что ты! – вбежал в комнату Николай Иванович, увидал поданное, всплеснул руками и воскликнул: – Ах, Европа, Европа! Не понимает она русского чаепития! Кипятку, мерзавцы, подали словно украли! Тут ведь и на один стакан не хватит. Вытаскивай скорей из корзинки наш металлический чайник и дай им, чтобы нам в нем принесли кипятку.
– Да ты посмотри, чашки-то какие принесли! Ведь это для кукол и для канареек. Из такой чашки только канарейке напиться. Как ты будешь пить?
– Требуй большие стаканы! Гляс, гляс… Гран гляс… – кричал Николай Иванович лакеям. – Te а ля рюс, а не те англе.
Глафира Семеновна достала свой дорожный чайник и стала объяснять прислуге по-французски, что ей и ее мужу нужно для чаепития.









































