Текст книги "Тёмный путь"
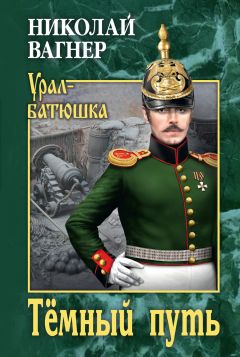
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 48 страниц)
CV
Помню, я встал при этом новом грубо-резком пассаже Серьчукова, взял папаху и хотел уйти. Но он неожиданно выдернул папаху из подмышки и еще неожиданнее усадил меня на диван, проговорив шепотом:
– Куда! И тебя оболью!.. Сиди!
При этом новом насилии моя натура опять заволновалась, и я снова вскочил с твердым намерением уйти, но сама Серафима, вся мокрая, со слезами на глазах, вдруг поднялась с дивана и подошла ко мне.
– Куда вы? – удивилась она. – Посидите хоть немного! Скука, духота… Я сейчас, сию минуту переоденусь. Это все нервы. – И она мило улыбнулась сквозь слезы и почти бегом, вприпрыжку, исчезла за дверью, которая была завешена также ковром в виде портьеры.
– С ними, брат, нельзя иначе, – оправдывался Серьчуков. – Ты не соболезнуй и не волнуйся! Если бы я ее не окатил, то она ревела бы вплоть до самого вечера. А вот окатишь стаканом или кувшином воды, да прикрикнешь свирепо, субъект… того… и замолчит.
Помню, я тогда немало дивился этому объяснению и считал Серьчукова удивительно простым и грубым, хотя он тут же начал весьма докторально доказывать, почему с нервными, истерическими субъектами нельзя обходиться иначе. Помню, он толковал мне это, пересыпая речь разными медицинскими терминами. Я слушал и ничего не понимал.
Портьера поднялась, и Серафима снова явилась, явилась свежая, розовая, опять вся в белом кружевном. Я подумал тогда, что она даже немножко подкрасилась; но она была удивительно симпатична и «апетитна», по выражению Серьчукова.
– Вот и я, – проговорила она. – Простите меня за то, что я сыграла непрошенно-негаданно маленькую фугу на моих нервах. А все этот несносный Petrus Серьчуков. У, противный! Я только удивляюсь моему терпению, которое может переносить такого человека.
– Это вы можете дивиться сколько угодно, только слушайтесь.
– Не хочу я вас слушаться и не буду.
– Ну ладно! А теперь будемте в карты играть.
– Как в карты! В этакий жар…
– В жар-то и следует играть в прохладной комнате, с бутылкой холодненького под рукой.
И он с наслажденьем прищелкнул языком и облизнулся.
– Хотите?.. – обратилась ко мне Серафима. – Как вас зовут?
– Владимир Павлович.
– Хотите, Владимир Павлович, в ералаш или в преферансик?
– Я ни в какую игру не играю.
– И прекрасно делаете. Это только Петрус Серьчуков любит карты и бутылки. Фи!
СVI
Она немного помолчала, помахала большим перламутровым веером и, пристально посмотрев на Петруся Серьчукова, проговорила с ударением, сентенциозно.
– Россию губят два врага: карты и водка. От нечего делать – ха! ха! ха! – от нечего делать у нас в России везде и всюду играют в карты. В картах наука, искусство, общественные вопросы, все… а надоело играть в карты, то пьют водку или вино. Холодненькое! Господи! И так всю жизнь! – Она пожала плечами и вся нервно вздрогнула.
– Серафима Львовна, – заговорил Серьчуков, выбросив за окно окурок сигары. – Ведь в картах отвлеченье, а в водке забвенье. Чего ж вы еще хотите?
– Отвлечение! От чего? – И глаза ее расширились и заблестели. – От полезных трудов? Забвение! Чего? Обязанностей и прав гражданина!
Серьчуков махнул безнадежно рукой.
– И вот этакие отвлечения и забвения и довели нас до темной бездны, в которую мы несемся теперь. Они довели нас до тьмы, в которой мы бродим.
– Да в какой мы тьме бродим? Разъясните, пожалуйста. Ведь все это чистейшие фантазии, ей-богу! Ну, вот тут теперь свежий человек (и он указал на меня). Объясните, ради бога, в какой это такой мы тьме бродим.
– Да, да и да! Мы только играем в карты, пьянствуем и ничего не знаем, что вокруг делается и куда мы идем. Les interets du peuple doivent être les interêts de toute la nation[22]22
Облик народа должен быть неотъемлемой частью всей нации.
[Закрыть].
– Это вы у меня украли.
– Но разве мы знаем интересы, разве мы знаем нужды этого бедного труженика, этого страдающего народа?
– Браво! Браво! За это я вам все прощаю… все! – И он встал и залпом выпил стакан лимонаду, который внесла в это время Тэнни.
– Мы не знаем даже, сколько у нас в России этого темного народа, – прошептала она и всплеснула руками. – Мы не знаем, чем, как он живет; мы не знаем, что делает и что он может сделать. Мы ничего не знаем, и мы живем. Nous vivons comme des brutes[23]23
Мы живем как хулиганы.
[Закрыть], картами и вином, живем dans les tenebres de I’ingnorance[24]24
Во тьме беззакония.
[Закрыть], а помимо нас, пьяных или грязных и ни о чем не думающих, творится тихо, неслышно cette affaire obscure, это темное дело, que nous appelons L'histoire d'un royaume[25]25
Это темное дело, которое мы называем Историей королевства.
[Закрыть] – «История Государства Российского».
И она нервно захохотала.
СVII
Серьчуков вскочил и схватил стакан воды.
– Не надо! Не надо! – закричала Серафима и отчаянно замахала руками. – Я так!
– От счастья?
– От счастья и покоя.
Я встал и взялся за папаху.
– Мне кажется, вам действительно необходимо успокоиться, и я, как новый человек, только вызываю вас на разговоры о предметах, которые вас волнуют.
– Нет! Нет! – вскричал Серьчуков, вырывая опять у меня папаху. – Сиди! Сиди! И ни с места. Знаете ли, Серафима Львовна, за чем я его застал?
– За чем?
– Хочешь, скажу!
– Ну, говори!
– За пистолетом. То be or nоt to be[26]26
Быть или не быть?
[Закрыть]? И дуло в грудь.
– Эту глупость можно сделать после всего, – сказала Серафима и откинула голову на бархатную подушку дивана.
– Ну вот! И я то же ему говорю.
– Знаете ли, Владимир Петрович. – И она быстро подняла голову.
– Павлыч, – поправил я.
– Владимир Павлыч, если бы я была мужчина, я погибла бы не от своей руки, а от чужой. Je me serais perdu pour une idee et nоn pour une passion, qui m’est propre[27]27
Я бы погибла за идею, а не из-за страсти.
[Закрыть].
– Да разве это делается нарочно? Ведь убьешь себя невольно, потому что тяжело, невозможно жить.
– Какой вздор! Что может быть тяжелее, невозможнее жизни, вина и карт, d’une vie faite de jouissances animales[28]28
Жизни, сотканной из животных наслаждений.
[Закрыть]. И между тем мы живем, живем все…
– И если среди этой жизни, – сказал я с горечью, – у вас погаснет единственный просвет, единственный луч, звездочка… – Голос мой вдруг задрожал и оборвался.
Она быстро соскочила с дивана, на котором сидела, и села подле меня, на другой диван.
– Послушайте, добрый, хороший мой. О! Pardonnez mon intervention insolente. Allons! Raisonons un peu[29]29
Простите мое вмешательство. Давайте порассуждаем.
[Закрыть]. Ваша невеста зачем рассталась с вами? Она бросила вас? Нет! Она покинула вас, потому что теперь каждой русской стыдно думать de ses passions personnelles[30]30
Личных страстей.
[Закрыть]. ll у a d’autres affaires, il у a des devoirs[31]31
У нее есть другое дело, иное призвание.
[Закрыть]. Знаете ли? – И она схватила мою руку. – Si je pouvais, je me prosternerai devant votre liancee. Je l’adorerai. C’est une nature sublime, un caractere divin. C’est une veritable patriote, une russe[32]32
Если бы я могла, я бы поклонилась вашей невесте. Я восхищаюсь ею. Это возвышенный характер. Она настоящий русский патриот.
[Закрыть]!..
Все это я очень хорошо сознавал и без нее, но ее слова вдруг затронули во мне какую-то тщеславную струнку и унесли боль и горечь разлуки. Я стал гордиться моей невестой. Я почувствовал всю неловкость своего горя и всю ничтожность его перед великим горем родной страны.
Я схватил худенькую, костлявую ручку Серафимы, крепко пожал эту ручку и поцеловал.
– Merci, mille lois merci[33]33
Спасибо, тысячу раз спасибо!
[Закрыть]! – сказал я с чувством. – Je sens à present que je suis un russe[34]34
Я чувствую, что я русский.
[Закрыть].
CVIII
В это время перед домом на улице раздалась весьма резкая и нескладная музыка.
Это было какое-то бряцанье струн, визг скрипки, писк дудок, одним словом, невозможное шаривари.
– Что это? Местная музыка? – вскричал Серьчуков и выскочил вон.
И вслед за тем уже раздался на улице шум, спор и грозный, повелительный голос Серьчукова:
– Пошли вон, говорят вам! – кричал он. – Эй! Степан! Гони их, чертей, в три шеи!
– Qu’est-ce qu’il fait? Je suis très curieuse de voir cette musique locale[35]35
Что он делает? Любопытно взглянуть, что это за местная музыка!
[Закрыть]! – сказала Серафима и быстро вышла, а вслед за нею и я вышел на улицу.
Перед крыльцом стоял армянин и трое жидов. Это были странствующие музыканты.
– Ай вей! Зацем же ви нас гоните! Барыня хоцет слусать наш музик. Зацем?..
И они, не выпуская инструментов, отбежали шага на три и снова начали свое шаривари.
– De grace, – заговорила вдруг Серафима жалобным голосом. – Chassez les[36]36
Прогоните их.
[Закрыть]!
– Пошли! Пошли! – накинулись лакей и повар, который выскочил в своем поварском костюме. Кругом стояла толпа и глазела на эту сцену. На крыльцо выскочили камеристки.
Повар, высокий плотный мужчина, очень ловко перевернул одного жида с длинной бородой и дал ему здорового подзатыльника.
– Вей! – закричал жид: – Х-ра-у-уль!
В это время подле меня раздался слабый крик, и я оглянулся. Серьчуков уводил или, правильнее, уносил Серафиму в комнаты.
Он довел ее до дивана, бледную, дрожащую, усадил и несколько раз спрыснул из брызгалки какой-то остропахучей жидкостью.
– Черт принес этих дьяволов, – ворчал он вполголоса, – нигде от них нет покоя. Пожалуй, еще припадок будет.
Серафима вся дрожала, тяжело дыша. Лицо ее было сине-бледное.
Вдруг глаза ее остолбенели, как у мертвой; рот раскрылся. Серьчуков, который не отходил от нее, отчаянно махнул рукой. Он оттолкнул ногой столик перед диваном, причем этот столик, наверно, полетел бы на пол со всеми склянками, которые были на нем, если бы я не поддержал его.
Затем он схватил Серафиму, снял с дивана и бережно опустил на ковер на полу.
Голова ее откинулась назад. Из горла вылетали какие-то глухие стоны и хрипение. На губах появилась пена, и все тело начало судорожно дергаться.
Она походила на умирающую в тяжелой агонии.
СIХ
– Что с ней? – спросил я шепотом с ужасом и недоумением Серьчукова, который отошел на середину комнаты и был очевидно взволнован.
– Видишь что! – И он указал на нее. – Epilepsis, – прошептал он многозначительно. – Теперь уже более полугода не было припадков, и вот опять. Я вчера предчувствовал, и сегодня утром она была нехороша. А тут подвернулись эти черти проклятые, жиды и музыка, и готово!
– Неужели ничем нельзя помочь, прекратить этот припадок, – спросил я с ужасом, смотря, как несчастная билась и хрипела на ковре.
– Ничем! Ничего не поделаешь!
Мне стало ужасно жаль ее, до слез. Впрочем, эти слезы, может быть, были продолжением нервного расстройства, не улегшегося с утра, после того удара, который так грубо хватил меня прямо по сердцу.
– Выйди, пожалуйста, туда и никого не пускай, – сказал он, торопливо указывая на входную дверь.
Я приподнял тяжелые портьеры-ковры и вышел. На улице никого не было. Все разошлись. Лежали только две-три собаки и спали крепким сном. Солнце жгло немилосердно, и все маленькие сакли фурштадта белели во мгле и пыли так мертвенно и неприютно.
На крыльцо вошел человек Серьчукова, и я сказал ему, чтобы он караулил вход, а сам снова вошел в комнату.
Когда я входил, припадок кончался. Глаза Серафимы получили осмысленное выражение. Она перестала хрипеть, села на ковер, затем приподнялась и опустилась на диван, причем ей помог Серьчуков.
Она словно стыдилась своего припадка и избегала моих взглядов.
Серьчуков тихонько лил ей на голову воду с одеколоном.
– Меrci! Будет… не надо! – говорила она слабым голосом. – Это все жиды наделали, – сказала она, обращаясь ко мне, и как-то кисло улыбнулась. – Жиды – это Coup de grâce[37]37
Последний удар.
[Закрыть] России. Это альфа и омега всего света.
– Да вы погодите теперь толковать о жидах. Смотрите, у вас ноги и руки все ходуном ходять. – перервал ее Серьчуков.
– Нет, я только чуточку, Петр Сергеич. Я чуточку. Не мешайте, добрый человек! Только душу отведу! Дайте мне что-нибудь теплое, закутаться. Мне холодно.
Он махнул рукой и, выйдя в другую комнату, распорядился, чтобы ей принесли шаль или плед.
СХ
– Я давно это твержу, – продолжала она, обратясь ко мне и кутаясь с свою кружевную накидку. – Но этого никто не хочет понять и никто не верит, что жидовская нация – это единственная нация, которой принадлежит будущность. Она не бродит впотьмах… Oh! nоn mille fois nоn[38]38
О нет! Тысячу раз нет!
[Закрыть]! Они знают, куда идут и зачем идут.
При этих словах ей принесли шаль, в которую она закуталась, а мне живо представилось жидовское собрание в П. и то, что я услыхал на этом собрании. В особенности припомнился мне «именитый вождь востока», его лысина, его курчавые растрепанные волосы и то угловатое движение, с которым он вытащил толстую тетрадь, исписанную цифрами и заключавшую сведения обо всем торговом обороте восточного края.
– Они все знают, – продолжала Серафима, – все пронюхают. У них везде агенты. Они невидимо держат в руках судьбы всего мира.
– Ну! Это опять преувеличенье! – сказал тихо Серьчуков. Но Серафима не слушала его.
– Как вы думаете: кто держит политический баланс? Кто устраивает европейские войны? Они, им выгодно, ужасно выгодно. Каждая война приносит им прямой барыш, проценты, потому что они дают на нее деньги. А потом сколько они возьмут с комиссариатских операций! Вы, может быть, не знаете, что во время войны все кормление армии ведется жидами?
– Да вы откуда это знаете? – удивился Серьчуков. Но она опять не обратила на него внимания.
– Не пройдет и полвека, как все коммерческие операции перейдут к ним. В их руках будут литература, наука, искусство.
– Фантазируйте, фантазируйте больше! – опять перебил Серьчуков, свертывая крученую папироску.
– Я фантазирую?! – вдруг накинулась на него Серафима, и краска разлилась у ней по лицу. – Я фантазирую? Я говорю только правду, горькую истину! – И она хлопнула рукой по подушке дивана. – Смотрите, читайте, наблюдайте, вдумывайтесь, и вы сами увидите. Все говорят: «Это угнетенный народ!» Вздор! Иллюзия! Не они у нас, а мы у них в руках, и будем окончательно в руках, когда они размножатся.
Она помолчала и вдруг резко побледнела и обратилась к Серьчукову:
– Дайте мне воды! Мне ужасно пить хочется!
И он налил и подал ей стакан воды, проговорив:
– Прохладитесь-ка! Это лучше будет!
CXI
Несколько времени она сидела молча, прислонясь головой к подушке. Я, не помню, что-то спросил, но Серьчуков шикнул на меня и отчаянно замахал руками.
– Она уснет теперь, – шепнул он, наклонясь ко мне. – Уйдем тихонько.
Я взял папаху и мы вышли.
Помню, я водил его по крепости и кругом нее, показывал ему все наши достопримечательности, рассказывал о нашей жизни, об обычаях горцев, и таким образом мы с ним по жаре, по солнцу прошлялись часа два-три. Он только пыхтел, отдувался и обтирал пот платком.
– Вот если бы теперь выкупаться, самое настоящее дело! – предложил он.
Но выкупаться решительно было негде.
Затем он потащил к себе и оставил обедать. Он жил в одном доме с Серафимой и зашел ненадолго на ту половину, где жила Серафима.
– Обедать она не будет, – сказал он, – но спит здорово и проспит до вечера или до поздней ночи. Это хорошо!
И он сбросил сюртук, жилет, галстук и умылся с наслаждением.
После роскошного дорожного обеда, который состоял из французских консервов и горского барашка, выпив бутылку шамбертеню и распив со мною бутылку холодненького, он положительно осовел, дремал и, наконец, прилег на диван и захрапел.
Я вышел и отправился бродить.
Помню, что все необыкновенные случаи этого дня как-то особенно подняли весь строй моих нервов. Помню, что в сердце моем было горе. Оно чувствовалось даже сквозь легкое опьянение от двух стаканов шампанского. Но в то же время я гордился моим горем. Это было не горе моей разлуки с Леной. О нет! Это было горе каждого русского, и я с гордостью сознавал, что принадлежал к этой великой семье из 60 миллионов.
Я пробродил до позднего вечера. Мне не хотелось идти ни к одному из моих товарищей. Да и к кому бы я пошел?
После жаркого дня наступил душный вечер. На востоке все небо покрылось тучами, которые медленно надвигались тяжелыми клубами черно-сизого дыма. Их мало-помалу осветило зарево красного, огненного заката.
Оно разгоралось сильнее и сильнее, это страшное, зловещее зарево. Все небо пылало огнем, вся природа притихла, словно испуганная чем-то грядущим, грозным, кровавым. И там, казалось мне, в глубине моего сердца что-то творилось невыносимо тяжелое. Какой-то леденящий ужас, предчувствие чего-то неизбежного, как смерть, охватывало это сердце.
Казалось, сама земля трепетала и качалась под моими ногами.
СХII
Помню, в эту ночь приснился мне страшный, дикий сон, который начался, как обыкновенно начинаются сны, спутанными представлениями и образами из прожитого дня.
Я видел большой пир, где было много моих знакомых, были мои товарищи, офицеры, был отец, были Лена и Надежда Степановна, было много из петербургских известных лиц и был сам Государь.
Лена была в дорожном платье. Грустная, она постоянно ходила со мной под руку.
Пир этот был у кого-то из моих знакомых, но у кого – не помню. Порой он сокращался до узеньких размеров маленькой вечеринки и затем снова раздвигался и принимал громадные размеры. Зала делалась бесконечной, и ее углы уходили в ночь, под открытое небо.
Но освещение этой залы было тусклое, траурное.
Все ходили молча, испуганные; все говорили шепотом. Какой-то нестерпимый ужас царил в этом громадном, многолюдном и торжественно-печальном собрании.
По всему этому собранию ходил Бенкендорф, и лицо у него, стеклянное, синее, было также испуганно. Всем кружкам он повторял одно и то же:
– Такова воля Государя! Так угодно Государю Императору! – И все молча склоняли головы перед этой волей.
И все дело, казалось мне, шло только о том, чтобы распутать, разорвать какие-то темные нити, которые всех связывали.
– Темный путь! Темный путь! – твердила Серафима, которая лежала тут же на полу. Она билась и хрипела, и все обходили ее с ужасом и состраданием.
– Господа! – раздается чей-то громкий голос. Я оглядываюсь – это «именитый вождь востока». Он стоит посередине залы на высоком пьедестале. – Господа! – говорит он громко, и все обращаются к нему. – Для нас, – говорит он, – нет темного пути, для нас все ясно! Мы все знаем, все считаем и все рассчитываем.
Помню, он говорил много, долго, но что такое – нельзя было разобрать. Помню, мне ужасно хотелось понять, уловить смысл его слов. Я приподнимался на цыпочки, я проталкивался сквозь толпу; но передо мной постоянно вставала массивная фигура Петра Серьчукова, который шикал, отчаянно махал руками и не давал ни видеть, ни слышать слова «именитого вождя востока».
А между тем под говор этих слов что-то творилось во всей этой громадной толпе, что-то ужасное, отчего сжималось сердце и смертельный ужас пронизывал душу.
– Это нити! Это нити! – говорили с ужасом все. И я, кажется, видел эти ужасные нити, которыми все держалось, от которых все зависело и которыми все было связано.
Они тянулись, черные, грязные, они краснели, они превращались в кровавые нити. И я смутно догадывался, что они тянутся снизу, из земли, откуда-то из-под наших ног. Я усиленно смотрел вниз, в темную, глубокую бездну, где тихо копошились какие-то безобразные гномы.
Но эти гномы были титаны. Они рыли землю, как кроты; они ворочали скалами, отрывали от них громадные камни и таинственно, молча строили из них громадный склеп.
– Смотрите туда! Смотрите! – кричали все. И все толпились, заглядывали в этот таинственный склеп. Все влекли меня к какой-то загородке, кое-как выстроенной из досок над этим ужасным склепом.
И я заглянул в него.
СХIII
Там копошились те же гномы, но они были в цепях, и эти цепи глухо звенели.
Вдруг, неизвестно как, подле меня очутилась Серафима. Она нервно, истерически хохотала и повторяла одно и то же.
– Nous sommes tous des esclaves! Nous sommes tons des esclaves de nos passions et de notreignorance[39]39
Мы все рабы! Рабы наших страстей и невежества!
[Закрыть]!
И вдруг точно электрический удар пробежал по всему собранию. Цепи порвались! Всё гномы крестились, плакали.
Но со всех сторон, точно огромные, толстые, черные змеи, ползли другие цепи. Они были в земле, заплесневелые, с них бежала мутная вода.
– Это старые цепи, прочные, отличные цепи, – твердил комиссар Струпиков, и весело потирал руки и лукаво подмигивал всем.
И они опутали всех.
Они тянулись наверх, куда-то в вышину и там блестели золотом.
Я поднял голову кверху. Там, высоко, над всеми нами, стоял «именитый вождь востока», стояли отец Сары, Кельхблюм и весь жидовский кагал.
С ужасом я оглянулся вниз.
Там была однообразная, дикая пустыня, поля, сожженные солнцем, порубленные леса, голые степи. И по этой пустыне бродили, точно тени, все те же гномы, бледные, тощие… Они падали от истощения и умирали.
А там, наверху, сильнее и ярче блестело и звенело золото жидовского кагала.
И вдруг внизу все поля и степи начали меркнуть, покрываться, точно дымкой, черным туманом. Наступал вечер, ночь. И солнце, точно красный шар, медленно опускалось к земле.
Этот шар рос больше и больше. Он видимо приближался. Он разгорался, блестел красным, кровавым огнем и тусклым, зловещим светом освещал тьму ночи.
Кто-то робко проговорил:
– Это комета!
И сердце во мне точно застыло от ужаса.
Глухие волны какого-то говора тихо гудели в толпе, в воздухе, и все с ужасом повторяло одно и то же:
– Темный путь кончен. Темный путь кончен!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































