Текст книги "Тёмный путь"
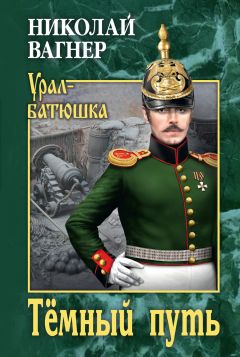
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 48 страниц)
СI
– Лена, – прошептал я, – Лена! Если бы все так думали… то кто же стал бы устраивать жизнь!..
И я вспомнил, как говорил Марье Александровна: «Тогда все пошли бы в монастыри».
– Кто?! – вскричала она. – Избранные, крепкие духом, но не мы с тобой… а нам остается только молиться, чтобы воля Господа скорее исполнилась… чтобы он избавил мир от зла… – И она прочувствованно перекрестилась.
– Лена!.. Но кто же тебе сказал, что ты не избранная… Положим, я слабый человек… Но ты, ты крепкая духом… Не грех ли будет тебе, если из двух дел ты изберешь то, которое больше по душе, и бросишь важнейшее, святое дело?..
Она на мгновение задумалась.
– Лена! – продолжал я. – Ты знаешь Светкова. – Это честнейший, твердой души человек. Знаешь Самбунова – это тоже крепкий человек… А Лабунов – чистая душа, образованнейший, гуманный господин… Вот уже есть трое, есть закваска… И ты поддержишь нас, ты твоим непоколебимым духом…
Она быстро схватила меня за руку и заговорила дрожащим голосом:
– Володя!.. Оставь меня!.. Зачем ты зовешь меня?.. Я была тверда… О! Не смущай меня, не соблазняй!.. Мне было так хорошо…
Голос ее вдруг ослабел:
– Володя!.. Я прошу тебя!.. Уйди!.. Дай мне время… Я должна молиться… Я ни на что не решусь без молитвы… Приди завтра… завтра в десять часов… А теперь уйди, уйди, ради Бога!.. Завтра мы поговорим с тобой об этом…
Она вся дрожала. Я протянул ей руку. Она нехотя подала свою, холодную, дрожащую. Я хотел поцеловать ее, но она поспешно выдернула ее и замахала на меня…
– Прощай!.. – сказал я. – До свиданья… И да внушит тебе твой Бог человечные мысли. – Я вышел.
При сходе с лестницы я встретил Мавру Семеновну. Она тяжело поднималась, с маленьким кулечком под мышкой; увидала меня, обрадовалась. Мы расцеловались, поговорили, и я побежал к себе, на «фатеру», к коровьему купцу.
СII
Весь день, до поздней ночи, я был в тревожно-радостном настроении. Я очевидно поколебал ее, забросил великий вопрос в самое сердце. «Не может быть, – думал я, – чтобы она – рассудительная, самоотверженная, ищущая добра – решилась не последовать за мной!..»
И сердце мое усиленно билось от этой радостной, дружественной жизни вдвоем. Я был весь отдан моей мечте, слезы умиления выступали не раз на мои глаза… И мне хотелось молиться, благодарить за спасение ее…
В первый раз после тяжелого пути и бессонных ночей я нашел минуту успокоения, отдохнул душой и сердцем.
Мои хозяева оказались приветливыми и простодушными. Они накормили меня ухой из двинской стерляди и каким-то пирогом, в котором был запечен целый лещ, au naturel. Потом попотчевали наливкой из мамуры[66]66
Княженика, ягода.
[Закрыть] и такими жирными сливками, каких я не едал во всю мою жизнь.
Они рассказали мне, что монастырь, в котором теперь жила Лена, называется Успенским девичьим монастырем, что это был прежде архиерейский дом, в котором содержалась царственная узница, бывшая правительница России Анна Леопольдовна.
– А чего у вас есть осмотреть? – допрашивал я… – Какие достопримечательности?
– Чего осмотреть… Нечего! Так разве погуляйте над Двиной… а не то в бору…
И я послушался и пошел гулять над Двиной…
С высокого берега расстилалась болотистая равнина, поросшая сосновым и березовым лесом, который весь уже пожелтел. Кругом городка были тоже низменности, болота и тот же однообразный скучный лес.
Я прошел весь городок вдоль и поперек. Везде пусто, точно вымерло. На всем лежит какая-то тоска, безмолвие. Длинные пруды или озерки полны свинцовой, мрачной водой. С неба сеется мелкий дождик, моросит, и низкие тяжелые облака бегут по окрестностям, то закрывая их, то снова открывая какие-то кусочки скучных, жалких лесов.
«Точно могила, покрытая серым изорванным саваном!» – подумал я невольно.
Нет! Не в этой могиле заживо гнить чудной, крепкой девушке, полной энергии, полной чистых, живучих сил. О! Лена! Дорогая Лена, ты будешь работать, будешь принадлежать всецело борьбе с «темным делом» и… будешь моей!
В последнем я робко признался даже самому себе…
Я вернулся к шести часам. Было уже темно. В воздухе сильно похолодело и прояснело.
Хозяева рассказывали мне о монастырских порядках. Я узнал многое, мелочное, скаредное… И ужас напал на меня при одной мысли, что среди этой мелкой, заскорузлой жизни погребет себя моя дорогая девушка!
СIII
Когда я на другой день вошел на монастырский двор, то меня поразили необыкновенное движение в нем и какая-то торжественность.
В самых воротах были мужички и бабы, которые стояли или сидели группами.
По двору проходила та монахиня, которая вчера провожала меня к Лене. Мне сказали хозяева, что ее звали «мать Агапия», что она всегда встречает и провожает приходящих. Я подошел к ней, спросил, что у них за торжество и могу ли я видеть Лену.
– А приехал архимандрит из Архангельска, отец Савватий… Ну! Обедню служит… а сестрица ваша теперь у обедни будут. – Она еще хотела что-то прибавить, но вдруг замолчала и резко спросила: – Разве к обедне не пойдете?
– Пойду! – сказал я и отправился к обедне.
Маленькая старинная церковь была почти полна народом. Я пробрался поближе к клиросу и встал около толстой колонны, на которой лежал свод.
Облака удушливого ладанного дыма носились по церкви. Пасмурный день тускло светил сквозь крохотные слюдяные оконца. Монахини пели заунывными тихими голосами, чередуясь с хором певчих.
Мне казалось, что кого-то отпевают, что там, в середине церкви, непременно стоит гроб. Я старался разглядеть его, поднимался на цыпочки и не мог.
Мимо меня прошла тихой поступью, точно проплыла, мать Агапия. Я остановил ее.
– Не могу ли я увидать… сестру? Мне надо сказать ей два слова.
– После обедни… Ужо!.. А теперь нельзя… – И она прошла мимо, к алтарю, неся в руке целый пучок тоненьких свечей желтого воску.
Я стал ждать терпеливо… Но какая-то тоска постоянно сдавливала сердце…
Вышел архимандрит, сверкая драгоценными камнями, которыми убрана была его митра.
Это был седой старичок, с добродушным лицом и румяными щеками.
Он тихо, торжественно произносил благословения и крестил народ длинными свечами в серебряных подсвечниках.
СIV
Обедня кончилась. Монахини плавно вышли и установились перед Царскими дверями. Они пропели довольно стройно какой-то канон Богородице и затем так же плавно отправились опять на клирос.
Я старался заглянуть за перегородку, отделявшую меня от высокого клироса, в надежде увидеть Лену, но ничего не мог видеть.
Народ начал расходиться. Почувствовалась та свобода, которая всегда наступает с окончанием службы. Вдруг около Царских дверей началось какое-то движение. Несколько монахинь перешептывались с дьяконом. Наконец Царские двери снова отворились и вышел опять архимандрит, а с того клироса, около которого я стоял, две монахини вывели какую-то женщину под черным покрывалом.
Они тихо подошли к архимандриту.
– Почто еси, сестра, притекаеши сюда? – тихо и вразумительно спросил архимандрит.
– Хочу Богу единому служити… – заговорил негромкий, но твердый, знакомый голос из-под черного покрывала, и сердце во мне замерло.
– Лена! – хотел закричать я, но голос оборвался, голова закружилась, и я почувствовал, что теряю сознание.
В полузабытьи, не помня себя, я опустился на колени и прислонился головой к толстой колонне.
Все во мне как-то сжалось… погрузилось в потемки. Какой-то бред, сон охватил мою голову.
Мне казалось, что няня Лены, Мавра Семеновна, покрытая черным покрывалом, стоит надо мной и тихо качает меня на волнах синего ладанного дыма…
Я очнулся от внезапного резкого стука. Я пришел в себя и увидал, что Лена стоит на коленях перед архимандритом и подает ему ножницы.
Черный покров был снят с нее, волосы распущены…
Я помню ее бледное исхудалое лицо, ее восторженно приподнятые кверху глаза, ее полураскрытые губы…
Архимандрит взял ножницы из рук ее и бросил на пол. Раздался опять тот же резкий, металлический звук, который вывел меня из забытья.
– Возьми ножницы и подаждь ми я! – проговорил сурово архимандрит.
Она нагнулась, подняла и протянула ему ножницы. Он снова бросил их на каменный пол и повторил свое приказание.
Когда она снова подняла, подала их и смиренно нагнула голову, архимандрит подошел к ней, нагнулся и начал крестообразно выстригать ей верхушку головы, приговаривая при этом торжественно:
– Сестра наша Елена постригает власы главы своя во имя Отца, Сына и Святого Духа, рцем о ней: Господи, помилуй!
Звучными заунывными голосами монахини запели:
– Господи, помилуй!
CV
У меня снова сжалось сердце, и сознание отлетало.
Я чувствовал, как туман закрывал мою голову, именно в то время, когда сухой скрип ножниц и легкий треск волос раздался среди мертвой тишины. Я пробовал бороться с этим чувством, я старался насильно улыбнуться, я не хотел поддаться этой тьме, которая повелительно накрывала мое сознание; я ясно слышал слова архимандрита, но затем пение монахинь нанесло последний удар…
Мне показалось, что хоронят мою милую, дорогую девушку…
И действительно! Разве не схоронили ее? И разве мне оставалось что-нибудь в жизни?!
Когда я очнулся, на крыльце монастырского двора, среди толпы баб, мужичков и всяких богомолок, когда я пришел в себя, то первое, что бросилось мне в глаза, была Мавра Семеновна, и первый голос, который я услышал, был ее голос.
– Очнулся! Слава Тебе, Господи! – проговорила она и перекрестилась. На глазах ее были слезы.
Вслед за ней многие тоже перекрестились.
– Владимир Павлыч, – заговорила няня. – Батюшка! Что это с вами… Болезный!..
– Знаш, сестра его была… Вот ён и убиватся, – сказал громко какой-то голос в толпе.
– Вот, батюшка, возьмите письмецо к вам от Елены Александровны, – сказала няня, подавая мне сложенный вчетверо листок почтовой бумаги.
Я схватил письмо, быстро приподнялся, встал и, шатаясь, пошел. Толпа расступилась передо мной. Какой-то убогий инвалид подал мне шинель.
Я вышел за монастырские ворота, оглянулся. Сердце мучительно сжалось…
Куда я шел? Зачем?.. В глухую пустыню… на «темный путь», на борьбу с «темным делом».
Никогда, кажется, во всю свою жизнь судьба не разражалась надо мной такими жестокими ударами, каким она угостила меня теперь, в эти тяжелые дни моей молодости.
С трудом я добрался до дома. Несколько раз я должен был останавливаться, осматриваться, вдумываться: зачем я иду?.. Несколько раз я проходил мимо той улицы или, правильнее, переулка, где была моя «фатера» и, кажется, даже мимо моей «фатеры».
Мне хотелось не думать ни о чем, не вспоминать ничего, но какой-то невольный внутренний голос вдруг так внятно, грустно повторял в моем сердце:
«Схоронили мою милую, дорогую девушку!»
И кровь бросалась в голову. Я шел быстро, машинально, бессознательно и… одумывался на краю пруда или на берегу Двины…
Начало уже смеркаться, когда я добрался наконец до дома.
Хозяева встретили меня встревоженные. Они уже знали все. В маленьком городишке нет тайн и секретов.
Они приставали ко мне с разными кушаньями, но я заперся в моей маленькой комнатке… и тут только, вынимая бумажник, вспомнил о письме Лены, которое бросилось мне в глаза.
CVI
Оно было недлинно. Очевидно, она торопилась, набрасывая его.
«Родной, дорогой мой брат (писала она). Сам Господь решил за меня мою судьбу. Завтра я буду посвящена Ему, Ему, моему Желанному, Любимому, Благому, Доброму, Великому…
Приехал архимандрит Савватий. Игуменья позвала меня и предложила мне постричься. Я сказала, что я не кончила мое послушание. Остается еще целый год. Но она ответила, что мою севастопольскую жизнь мне можно и даже должно зачесть в послушание. Я согласилась.
Я долго думала над твоим предложением, и мне страшно подумать и еще страшнее высказать тебе мой тяжелый, безутешный взгляд.
Мир должен погибнуть, ибо весь мир лежит во зле, как говорит св. Апостол. Благословенны борющиеся с этим злом и отнимающее от него достояние Господне.
Я благословляю тебя, брат мой, из моей уединенной кельи на эту борьбу. Я буду молиться, постоянно молиться о помощи тебе. Не падай перед неудачами. Они должны быть. Они неизбежны, потому что это лежит в природе вещей.
Мы – русские – скоро увлекаемся. В минуты увлечений мы творим великие подвиги. Но там, где нужно самый подвиг борьбы сделать постоянным, обыденным спутником жизни, там мы или падаем, или живем бессознательной привычкой.
Дай Бог, чтоб мои предсказания не сбылись. Но мне кажется, что чем долее мы будем жить, тем более апатия, безучастие и разлагающая косность будут развиваться в русском обществе.
Нас победит зло. Нас победит мертвенная, богоненавистная неподвижность и эгоизм… Еще раз повторяю: дай Бог, чтобы мое пророчество не оправдалось.
Будь деятелен, борись, дорогой мой! Бог Милосердный пошлет тебе спутницу, друга, который поддержит тебя.
Прости, еще раз благословляю тебя.
Твоя Е.»
Я несколько раз перечел это письмо. Слезы душили меня. Мне она представилась жертвой ее одностороннего, безрассудного взгляда. Мне было глубоко жаль этой крепкой натуры. Мне было жаль моей «милой, дорогой девушки»… И вместе с тем чувство досады, тяжелого, гнетущего раздражения, которое сродни злобе и ненависти, разжигало мое сердце.
И под давлением этого чувства я дал себе слово бороться из всех сил и победить – назло всем ее увлечениям и предсказаниям.
Часть четвертая
I
С тех пор прошло более тридцати лет, и я сдержал данное себе слово: я боролся.
Проверяя теперь все итоги и результаты этой борьбы, я не могу найти ничего или почти ничего утешительного. Становится жутко, становится страшно холодно на сердце, и я невольно спрашиваю себя: неужели она была права, моя дорогая, милая Лена? Неужели наша косность, наше квиетическое[67]67
Безучастное.
[Закрыть], то есть пассивное, малодушие победит все и все затопит, как мутная стоячая вода затопляет медленно разлагающийся труп?!
Но лучше я расскажу нисколько выдающихся и характерных моментов из моей последующей жизни.
Я был в Петербурге в то самое февральское утро, когда совершенно неожиданно для всех разнеслась тяжелая весть о смерти покойного государя Николая Павловича. Никто не думал, чтобы припадок гриппа мог унести в могилу эту крепкую, здоровую натуру. Для городского общества, да и для всей России эта весть была громовым ударом.
Мы так долго привыкали жить на помочах, под строгой ферулой и чужой заботой, что смена прежней системы казалась нам чем-то ужасным, потрясающим своею неожиданностью и неподготовленностью. Что будет с Россией?! Вот тяжелый вопрос, который носился тогда в обществе!
Людей, европейски образованных и развитых было тогда весьма немного… Но и эти немногие с недоумением и страхом смотрели в грядущее…
В это время в Петербург привлекло меня желание привести скорее к осуществлению мысль Миллинова. В К. я уже подобрал несколько лиц и составил довольно большой и тесный кружок. Один из влиятельных членов этого кружка, Павел Михайлович Самбунов, убедил меня ехать в Питер.
– Там, голубчик, – сказал он, – вы между образованною молодежью скорее найдете то, что нам нужно – людей гуманных и добросердечных – да кроме того, познакомитесь и с людьми влиятельными, которые нам крайне необходимы.
По приезде в Петербург я навестил некоторых старинных знакомых моей семьи и заехал к отцу, которого не видал с тех самых пор, как был сослан на Кавказ.
Я нашел его весьма постаревшим, и он первый сообщил мне о внезапной болезни Государя. Прощаясь со мной, он сказал:
– Не хочешь ли отобедать вместе с нами? У нас назначен 17 февраля обед в дворянском собрании. Это очередной обед нашего дворянства.
– Как же я буду участвовать в нем, – удивился я, – когда я не принадлежу к дворянам С. – Петербургской губернии – и не живу здесь?!
– Это ничего!.. Ты будешь участвовать как сын и наследник дворянина С. – Петербургской губернии.
– А в котором часу будет обед?
– Ровно в шесть.
– Хорошо! Если будет время, то приеду.
И я подумал, что этот обед – прекрасный случай для моего дела. Я здесь сразу увижу всю noblesses[68]68
Элита, дворянство.
[Закрыть] столицы и в интимных послеобеденных разговорах, может быть, многое узнаю и воспользуюсь.
Без четверти шесть я отправился в дворянское собрание. Мой отец был уже там. Он был сумрачен, озабочен – и прямо пошел ко мне навстречу.
– Ты слышал?!
– Что такое?
– Государь скончался!.. Может быть, обеда не будет. Какой сильный удар России!..
Признаюсь, эта весть меня жестоко поразила.
Отец, не выпуская моей руки, отвел меня в амбразуру окна и сказал шепотом:
– Он умер, как подобает умереть Царю России. En vrais gentilhome[69]69
В родовом гнезде.
[Закрыть] и православным христианином… Рыцарем жил и рыцарем умер!..
И он совершенно неожиданно всхлипнул и, порывисто выдернув платок, закрыл глаза.
Я в первый раз в жизни увидал его плачущим. Но он почти тотчас же оправился и чуть слышным шепотом проговорил мне:
– Говорят, что Мандль, который его пользовал, не смел ослушаться его приказания…
И он сообщил мне тот странный и невероятный слух, который тогда носился в городе…
– Его сломила последняя война. Эту крепкую рыцарскую душу! Он не мог перенести унижения России. Тяжелый долголетний обман наконец открылся. Везде открылись страшные промахи и прорехи. Все направление было ошибочно… Слишком тридцать лет славного, могущественного царствования – и вдруг… такой удар!.. Такой погром!.. Это ужасно!! Ужасно!! Говорят, он позвал наследника. «Будь здесь! – приказал. – И учись, как должен умирать Русский Царь!!»
И он снова закрылся платком и заплакал.
II
Между тем большая зала наполнилась созванными на обед. Везде образовались кружки, группы, и все говорили шепотом. У всех на лицах был испуг и недоумение. Многие плакали, и я не видал ни одного радостного, торжествующего лица.
Большая часть приезжих проходила на хоры, так как там были накрыты обеденные столы.
Прошло около получаса. Все печально бродили вокруг столов. Углы скатертей были подняты и накинуты на приборы, в знак траурного события.
Князь В., толстый и веселый гастроном, ходил прихрамывая, опираясь на палку и ворчал вслух:
– Что же это за порядок?! Собрали всех и надули!.. Чего же мы ждем?! Или садись, или расходись… Ведь этак весь обед испортишь. Я просто голоден как собака.
И он подхватил какого-то седого старичка в дворянском мундире, со звездой.
– Петр Петрович! Давай сядем!.. Чего ждать?
Но Петр Петрович уклонился, отговорился и улизнул.
Граф напал на другого.
– Семен Никитич! Сядем!..
– Неловко!.. – проговорил Семен Никитич. – Ну а вдруг заедет Александр Христофорович?.. А мы здесь того… пиршествуем… при таковых обстоятельствах… Нехорошо!..
И князь В. проходил дальше и подхватывал третьего и четвертого и все вербовал в охотники начинать. И только что я успел сказать два-три слова с одним моим знакомым, как смотрю – князь уж заседает за угловым столом и подле него сидят трое или четверо.
И не прошло и трех минут, как к ним быстро начали приставать другие. Сделалось общее движение, и все, точно мухи, посыпались к столам и начали садиться как попало – тихо и уныло, молча или разговаривая вполголоса. Все, очевидно, проголодались.
«Вот! – подумал я. – Чем и как надо убеждать нашу публику. Голод не тетка, и никакой Александр Христофорович ему не страшен».
Я тоже сел подле одного моего знакомого.
Когда была съедена уха из стерлядей с расстегаями – многие начали оглядываться, но никто не решался спросить или налить вина. Между тем на столе стоял строй бутылок.
Наконец один толстый господин, с красным носом, в потертом дворянском мундирчике, протянул руку, взял бутылку красного вина и, встав на стул, поднял бутылку высоко над головой и пригласил плаксивым, прерывающимся от слез голосом:
– Господа дворяне!.. Незабвенного Царя! Незабвенного – помянемте Сорокацерковным-то… Сорокацерковным-то!
– Нашелся! Каналья! – проворчал кто-то из сидящих.
– Батюшка! – вскочил князь В. – Да кто же после рыбы-то пьет красное?! Разбой!.. Отрава!..
Но публика разрешила и начала наливать в рюмки уже не красное, а крепкие вина. Разговор оживился, со всех концов загудели голоса – точно рой шмелей.
В середине обеда вошел довольно полный господин в черном фраке с тремя звездами.
– А! дипломат!.. К нам!..
– К нам милости просим! К нам!
И со всех концов посыпались приглашения.
Дипломат подошел к пустому стулу подле меня и закричал:
– Не беспокойтесь, господа! Здесь есть место. – Он поздоровался с моим и с своим соседом, и мой сосед представил ему меня.
– Вот! – сказал он. – Недавно вернувшийся защитник Севастополя.
– Очень рад, – сказал дипломат, пожимая мою руку. – Кто это такой? – спросил я шепотом моего соседа, когда дипломат обернулся к соседу налево.
– Это граф Д. – И он назвал очень известную в дипломатическом мире фамилию.
Сосед и почти все присутствующие интересовались теми слухами, которые ходили относительно покойного Государя.
– Это положительно неправда, – сказал дипломат. – Этого не было и не могло быть. – И он начал доказывать, почему не могло быть.
– А правда ли? – спросил его какой-то худенький невзрачный господин, сидевший vis-a-vis нас. – Правда ли, что Государь нарочно был в Лондоне перед началом войны, чтобы разъяснить там всю нашу политику?
– Помилуйте – да кто же этого не знает? Ведь это было уже шесть лет тому назад.
– А перед началом войны, – продолжал тот же господин, – он лично уговаривал Короля Пруссии вступить в союз с нами?
– Ну да! Ну да! Это действительно было. Он тогда энергично хлопотал об этом деле, «двигал небо и землю», как тогда говорили, целых два часа он толковал Мантейфелю и доказывал ему выгоду союза…
– Что же Мантейфель?
Дипломат пожал плечами.
– Не убедишь! – Voila la dureté des allemands[70]70
В этом твердость немцев.
[Закрыть]!
– Да! Для нас был очень важен союз Пруссии и Австрии, – пояснил какой-то седой господин с бриллиантовым орденом льва и солнца на шее и большими усами. – Но Австрия виляла хвостом и ссылалась на Пруссию, – а Пруссия не убеждалась…
– Прибавьте ко всему этому, что обе продавали нас, – прибавил почти шепотом дипломат.
– Неужели?! – удивились все.
– Пруссия заискивала у Англии – ей нужно было знать, что Англия сделает. Король постоянно писал к Альберту…
– Да у Англии не было никаких поводов воевать с нами, это все «племянничек» смастерил… да вот эти господа! – вдруг басом вмешался какой-то черный господин с военными усами и баками. И он при этом кивнул на дипломата…
– Как так!.. В чем вы нас обвиняете?! – обиделся дипломат.
– Да в том, что вы всегда и везде ближайшая и конечная причина войны… Разве мы не знаем, как распоряжался ваш брат дипломат барон Брунов в Лондоне. – Союз уже давно заключен, а он в полной надежде сидит и твердо уверен, что никакой войны не будет. – И когда ему уже вручили приказ британскому адмиралу войти в Черное море – только тогда он всполохнулся и затребовал объяснения. И тут же его надули как дурака… Он получил объяснение, когда флот уже был в Черном море. Этакого болвана поискать днем с огнем. – Брадобрей! Ему только цирульником быть.
– Почему же? – спросил сосед его.
– Помилуйте! Ведь он нашему протоиерею в Лондоне велел обрить бороду. «Как же, – говорит, – здесь неприлично с бородой ходить!»
– Ха! ха! ха! – захохотали соседи, но тотчас же кто-то громко зашикал, и все замолкли.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































