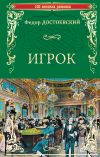Текст книги "Тёмный путь"
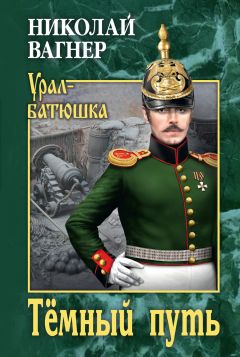
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 48 страниц)
LXVI
На другой день я велел разбудить себя в семь часов, встал и отправился.
Утро было серое. Какой-то сухой туман или дым стлался по долинам. Перестрелка шла лениво. Все смотрело как-то необычайно пошло и угрюмо. Во всем была какая-то сосредоточенная и подневольная напряженность. Все точно творили какое-то «темное дело», не зная, зачем и для чего. Вон с Редановского редута поднялось разом пять дымков, и пять бомб полетело на линию неприятеля. Вот оттуда со страшным гулом полетели ответные гостинцы.
Сколько смертей, сколько жертв падет от этой адской игры!
Я незаметно дошел до назначенного места. Туторин стоял уже там, за углом бастиона. Мимо этого угла постоянно свистели пули и пролетали ядра. Я пристально посмотрел на него, снял фуражку и поклонился… Он приложил руку к козырьку и вынул часы.
– Теперь, – сказал он, – восемь часов, без двух минут. Через две минуты мы двинемся мерным шагом. Мы кинем жребий, кому идти впереди.
И он как-то торопливо достал портмоне и вынул из него двугривенный. Потом загнул об руки за спину и почти тотчас же вытянул их вперед.
– Отгадайте, в которой руке, – сказал он. – Если отгадаете, то я пойду с краю впереди вас, если же нет, то… я пойду под вашим прикрытием.
Я пожал слегка плечами и сказал:
– В правой.
Он разжал об руки. Двугривенный лежал в правой.
Я быстро двинулся вперед.
– Постойте! – закричал он. – Еще осталась минута. – Но я махнул рукой, проговорив не оборачиваясь:
– Разве не все равно: минутой раньше, минутой позже; скорее к делу!
– Считайте же! Считайте! – кричал он сердито и начал отсчитывать: раз, два, раз, два. И я машинально также начал считать при этом мерные шаги.
Как только мы выдвинулись из-за угла бастиона, пули начали жужжать мимо ушей. Я весь погрузился в счет шагов, стараясь идти как можно ровнее, и странно, этот счет как будто совпадал с полетом пуль. «Раз!» – и пуля прожужжит справа, «два!» – и пуля провизжала мимо левого уха. Когда я смотрел на неприятельские траншеи, то мне казалось, что пули летали чаще и неправильнее. По временам ядра с тяжелым, резким шелестом пролетали вслед их.
Мне казалось, я прошел пятнадцать, двадцать шагов и остановился. Мой противник замолк. Я оглянулся. Он лежал шагах в пяти от меня, за небольшими пригорочком.
Я быстро повернул и пошел к нему.
Лицо его было бледно. Прекрасные голубые глаза остолбенели. Он махал руками и силился что-то сказать, но вместо слов выходил резкий хрип, со свистом, а кровавая пена пачкала губы. Из-под воротника мундира текла широкая струя крови.
Я нагнулся и дрожащими руками расстегнул его мундир.
Он несколько раз поступал по правой стороне груди и едва слышно с хрипом и свистом выговорил:
– Тут!.. Там…
LXVII
Я думал, что он указывает, куда его ранили, но он указывал на письмо, которое лежало в правом кармане мундира. Письмо было к его матери.
Тогда я догадался, чего он хочет, и вынул письмо. Он кивнул головой… и махнул рукой вперед. Я понял, что он просит отослать его.
На одно мгновение слезы сжали мне горло. Мне хотелось поцеловать его и сказать: прости, брат мой товарищ, мое безумие!
Но это было одно мгновение. Тотчас же в моем воображении встал образ этой чарующей девушки, и я почти с презрением взглянул на него, ее оскорбителя, как на сраженного врага.
Его мутные глаза, без всякого выражения, прямо, неподвижно смотрели на меня; дыханье становилось реже, тяжелее – хрип слабее. Наконец глубокий вздох с каким-то грустным стоном вылетел из груди, и он замолк. Глаза задернулись туманом, потускли.
Я простоял еще с полминуты, наклонясь над ним, и потом пошел тихо в Севастополь.
На сердце было тяжело. Точно кошмар давил его.
Мне было жаль его, жаль этого двадцатилетнего юнца, единственного сына у матери. Я невольно вспоминал, как он добросердечно ухаживал за мной, когда я поступил на бастион, как с детской откровенностью описывал свою охоту в Тверской губернии.
Несколько раз слезы навертывались у меня на глазах. Что то мягкое, примиряющее проходило по сердцу. Но тотчас же вместе с тем поднимался из глубины этого сердца обвиняющий голос, а в воображении вставала она – несчастная девушка с большими черными глазами, и любовь и злоба уносили примирение.
В Севастополе на Николаевской площади мне встретился один знакомый офицер – Лопаткин.
– Что это ты? Ранен?! – вскричал он.
– А что?
– Да у тебя вся шея и спина в крови.
И тут только я почувствовал резкую боль в шее. До тех пор мне казалось, что это давит воротник мундира. Вероятно, шальная пуля как-нибудь скользнула по шее.
Я зашел к одному знакомому, перевязал рану и переоделся. Затем пошел на почту и отправил письмо Туторина.
На другой день я узнал, что его подняли уже окоченелого, на том месте, где я его оставил. Убившая его пуля разорвала у него сонную артерию и засела в шейном позвонке. На бастионе он сказал, что пойдет в Севастополь и отнесет письмо.
– Сам захотел отнести, – рассказывал Сафонский. – Мы уговаривали его не ходить. На это есть рассыльный. Нет, пошел, кратчайшим путем, по мертвому месту!.. Судьба!.. Вы завтра будете на похоронах? Вы, знаете, надо товарища проводить… Вы же были виноваты перед ним. Оскорбили его?..
И он пристально и серьезно посмотрел на меня.
Я сказал, что приду. И действительно, на другой день был в Севастополе на его похоронах и вынес всю эту церемонию, даже нес гроб до могилы. И не знаю, может быть, игра воображения, но мне он казался ужасно тяжелым и холодным, как лед, впрочем, может быть, это было следствие полученной раны, от которой шея сильно распухла.
LXVIII
После похорон мы все пошли к нашему старому бастионному командиру, который позвал нас на пирог – помянуть покойного.
Полковник жил уже не в прежнем маленьком домике, в котором я представлялся ему. Этот домик уже не существовал. На месте его лежала груда камней, которые постоянно разбивали неприятельские бомбы.
Пирог был невеселый. Разговоры не клеились. Мне казалось, что все смотрят на меня подозрительно и недружелюбно. Даже мои новые товарищи, двое офицеров с Малахова кургана, которые тоже были приглашены на поминки, и те, казалось, как-то косились на меня и были со мной холодно вежливы. Впрочем, все это, может быть, мне только казалось.
После обеда компания принялась за карты, а я незаметно вышел и отправился прямо в лазарет.
Мне хотелось куда-нибудь уйти от себя самого, и мне казалось, что в лазарете я могу это сделать. Дежурный доктор осмотрел меня.
– Рана пустая, – сказал он. – Но есть маленькая контузия и при всяком осложнении может, пожалуй, перейти в менингит.
И действительно, вследствие ли простуды, нервного волнения или неизвестно отчего, но на другой день у меня явились лихорадка и легкий бред. Целую ночь мне казалось, что меня всего цедят постоянно сквозь какой-то черный флер, весь запачканный в крови.
Утром мне стало лучше, может быть благодаря мушке, налепленной на спину. Я проспал почти целый день и проснулся вечером, на закате солнца.
Подле меня лежал офицер без руки, уже не молодой, с удивительно симпатичным, умным лицом. Это был артиллерист – Петр Степанович Миллинов.
Когда я проснулся, он долго, пристально смотрел на меня, свесив ноги с койки. Мне казалось, что он прислушивается, и я тоже стал слушать этот безостановочный гул выстрелов, который через правильные промежутки времени то ослабевал, то поднимался с новой силой. Точно постоянный прибой волн какого-то океана.
– Музыка, – сказал тихо Миллинов и подмигнул добродушно.
– Адская музыка, – решил я.
– Нет! Зачем же адская-с? Ее устроили не черти, а люди-с, вероятно, от полноты братских чувств… Вот!.. У меня руку отняли. – И он помахал остатком руки. – Вас тоже благословили. – И он добродушно засмеялся; засмеялся больше глазами, блестящими, серыми – тогда как тонкие губы с длинными усами едва заметно улыбнулись и при этом резкие складки выступили по углам рта.
LXIX
– Я думаю, – сказал я, – что без этой музыки ни один народ, ни одно государство не простоят. Такова уж натура человеческая. Как ни хорошо жить в миру, а подраться еще лучше… (И я невольно вспомнил свою ссору с несчастным Туториным.)
Миллинов пристально посмотрел на меня и резко заметил:
– Нет, вы ошибаетесь. В натуре человека гораздо больше стремления к покойной, халатной жизни, чем к воинственной. Но только дело в том, что воинственный-то народ – самый беспокойный народ. Он, видите ли, всегда наверху и впереди. – И он приподнял руку и потом быстро двинул ее вперед. – Он всеми командует, распоряжается и увлекает…
– Да как же, позвольте вас спросить, – вскричал я, – теперь, например, по поводу настоящей войны, как же нужно было распорядиться – и при чем тут воинственный народ?!
Он ответил не вдруг, слегка прищурился и улыбнулся.
– А вот причем-с, – сказал он. – Вам, вероятно, известно, что Коран заимствован из Евангелия и если вы когда-нибудь читали его, то верно заметили, что тот дух братской любви, справедливости, человечности проникает Коран и Евангелие. Кто же внес, позвольте вас спросить, меч раздора между мусульманами и христианами, кто изобрел «гяура»? – Он несколько помолчал, глядя на меня вопросительно. – Это вот он-с!.. Воинственный народ, которому прежде всего необходимо драться. Без этого он жить не может… Да вы сами же признали, что такова натура человеческая. Теперь позвольте вас спросить, если бы при вас кто-нибудь… даже из близких вам людей, из товарищей… начал поносить или говорить обидно о любимом вами человеке-с, о любимой вами женщине?.. Вы отнеслись бы хладнокровно к аттестации и не вошли бы в воинственный азарт? У вас руки не зачесались бы от избытка оскорбленного чувства?..
– Да это вы что же? – вскричал я. – Вы говорите обо мне?! – И я почувствовал довольно резкую боль в моей ране.
Миллинов посмотрел на меня с недоумением.
– Я говорю о всяком человеке-с, не о вас одних. Я говорю, что мало ли есть каких поводов к тому, чтобы проснулся и заговорил в нас воинственный человек. Любовь, ревность, зависть, излишнее самолюбие… В особенности последнее. Это самое задирательное и действительное…
– Так вы думаете, что причиной фанатической нетерпимости были люди?..
– Никто, окроме (он говорил окроме, с ударением на о) натуры человеческой. В Коране дух мира, братства, а тем паче в Евангелии. А теперь в настоящем случае этим фанатизмом пользуются наши воинственные недруги. Втроем собрались: французы, англичане, итальянцы… Если б могли, то они и немца бы увлекли… До того им кажется солон и тошен русский царь и русский великий народ… У французов так это реванш за дядиньку, а у англичан виды на Турцию. Ну а итальянец… этот уже пошел бескорыстно, платонически. Вот и воюют-с! Делают кровопускание человечеству. У меня вот руку отняли. – И он помахал своей культяпкой. – Вас тоже куда-то подстрелили.
– Так вы думаете, что причину нынешней войны надо искать в фанатизме мусульман по отношению к христианам…
Он посмотрел на меня.
– Нет-с… Глубже. Ее надо искать в воинственном духе человека.
Он помолчал. На высоком лбу его появились морщины. И потом тихо начал, как бы высказывая самому себе. И то, что он высказал, остается и до сих пор так же ясно в моей памяти, как будто я сейчас все это слышу и вижу его самого перед собою.
LXX
– Вы как бы думали? – начал он. – Отчего этот воинственный дух существует в человеке?.. Оттого-с, что каждый человек старается как можно шире размахнуться, а так как кругом его стоят другие, так он непременно кого-нибудь да ушибет; оттого-с, что каждый человек думает, что для него только одного-с созданы небеса и земли, и воздух, и воды и что один он стоит в центре пира…
– Вы ошибаетесь, – возразил я, – есть много людей не эгоистов, которые забывают о себе и думают только о других.
– Позвольте-с, позвольте-с, – прервал он меня нетерпеливо и слегка заволновался. – Это совершенно верно-с. Только всякий не эгоист и думает, и чувствует именно так-с, как я говорю; ибо таков уж закон природы… И вот этот-то закон должно победить в себе.
– Как так?! – удивился я… – Победить закон природы!
– Да-с! И не забывать, что первый и злейший враг наш есть она, именно эта-с природа – злая наша мачеха, которая, тем не менее, нас и греет, и питает.
Я невольно улыбнулся.
– Что же это вы защищаете или проповедуете аскетизм?!
Он махнул рукой.
– Нет-с! До аскетизма тут далеко. Это простой-с прием, который можно выразить так: не думай и не заботься о себе больше, чем ты заботишься о других…
– «И люби ближнего своего, как сам себя», – добавил я полунасмешливо. – Это давно известно.
– Да-с, давно известно, очень давно-с, тысячу восемьсот пятьдесят шесть лет, да только до сих пор мы этого не поняли… И вот почему я и говорю: прежде всего надо победить в себе природу, чтобы не размахиваться широко.
– Но согласитесь, что нельзя себя заставить насильно любить кого-нибудь. Тут дело симпатий и антипатий. Дело невольное…
– Совсем нет-с! Совсем нет-с! – заговорил он и опять заволновался. – Надо постоянно помнить, что каждый человек – прежде всего – есть человек. В каждом человеке есть что-нибудь доброе, человечное, и вот это-то человечное и есть самое дорогое-с. Его надо беречь и сохранять, и воспитывать… как дорогое растение. Вы чувствуете влечение, заметьте, человечное влечете, к преступнику, которого казнят, вам жаль его… Или к врагу, когда этот враг лежит, умирающий, у ваших ног. И как бы ни был вам антипатичен этот враг, вы уж непременно-с его пожалеете. Это верно-с!.. Даже если бы он лишил вас самого дорогого или просто оскорбил это дорогое для вас…
И мне живо представился умирающий Туторин… «Но зачем же, – подумал я, – он как бы нарочно намекает на одно и то же?»
– А что такое это дорогое для вас? – позвольте вас спросить-с. – И он быстро привстал с постели и взял меня за рукав рубашки. – Это-с, что я люблю, – ответил он внушительным шепотом. – Это мое-с! Моя симпатия, то, что мне принадлежит. И этого ты трогать не смей! Не смей! Не смей!..
И он слегка засмеялся добродушным смехом и опять сел на свою постель.
LXXI
Он глубоко вздохнул, помолчал и тихо развел руками.
– Как ни думай, ни рассуждай, – начал он, – а вся загвоздка-с в этом я. Плохо, коли узды на него нет. Оно все бы, кажись, захватило, и сказало бы: это мое! Лапу к нему не протягивай!..
– Это вы что же? – спросил я. – Против собственности?
– Н… нет. Зачем же-с? Я только думаю: если у меня, например, это одеяло, а вам укрыться нечем от холода, так ведь, кажется, по справедливости, следует этим одеялом поделиться с вами… Так ведь нет, говорят, выйдет глупо!.. Коли ты разрежешь одеяло, то и сам не согреешься, и твоему соседу не поможешь. А коли укроешься вместе с ним одним одеялом, то… Что же за удовольствие?! (Заметьте это, пожалуйста: что за удовольствие!) От него, от соседа, может быть, воняет. Он храпит, ворочается… А что сказал Христос? А?! Последнюю рубашку сними и отдай неимущему. Вот это любовь-с! Это человечность-с!
И он опять вскочил с постели и заволновался.
– И вот-с вы посмотрите кругом, да подумайте, что всякий думает о себе больше, чем о другом. И ведь это все-с, все…
– Ну, вы опять увлекаетесь, – поправил я его, – где же все?!
– Все-с! И народ, и народы, и государства. Каждый о себе и как можно больше о себе. Мне сила и богатство, и слава, а соседу кукиш с маслом… И вот отсюда, отсюда все зло и мерзости…
– Хорошо! Допустим это, – сказал я, – но если все так думают и делают, то как же вы переделаете весь свет?!
Он не сразу ответил.
– Исподволь, понемножку-с… можно. Ведь медведя учат плясать-с… Я вот расскажу. У нас в Туле я устроил маленькое общество (Я ведь туляк.) На этих человечных началах, понимаете?.. Ну, сперва было хорошо пошло. Собралось нас человек десятка два и дали все клятвенное обещание: жить для самих себя по-братски и другим помогать. И если кто будет нападать или обижаться на кого-нибудь из наших, то защищаться всем гуртом… не жалея живота…
– Это вы, значит, устроили ассоциации.
– И… нет. Так, знаете ли, маленькое общество.
– Ну и что же?
– Запретили-с. И даже предводителю была большая неприятность; в Петербург вызывали для объяснения. А губернатору строжайший выговор…
– Ну, вот видите ли. И тут препятствие…
– Это что-о-с? – И он махнул рукой. – Внутренние препятствия страшны! Вот что-с. Коли я что хочу, то сделаю. А вот коли так себе-с, и хочу, и не хочу, то всякое внешнее препятствие и кажется неодолимым… Вот что-с!.. Да, это еще придет, – начал он вдруг с одушевлением. – Поверьте, придет. Иного пути ведь нет. Не удалось мне, удастся другому, не в Туле, так в Москве… А так существовать нельзя-с. Этак мы все, рабы Божьи, в чертову яму упадем. Всенепременно-с! Все друг другу горло перегрызем… Это верно-с…
И не успел он договорить, как в соседней зале раздался страшный удар и гром, стоны, крики. Мы с ужасом вскочили и бросились к дверям этой залы.
LXXII
Нам представилась новая картина разрушения.
Какая-то шальная бомба залетела сюда, пробила крышу и разорвалась во время падения. В потолке зияла огромная пробоина. Осколки бомбы валялись везде на полу, засели в стенах. Вся зала была наполнена удушливым, вонючим дымом, и среди этого дыма стонали и корчились несчастные раненые.
Но около них уже хлопотала прислуга. Явились носилки. Раненых уводили, уносили и через несколько минут остались в палате только мы, любопытные зрители, прибежавшие на место катастрофы.
Мы с Миллиновым посмотрели друг на друга.
– Вот, – сказал он. – Еще кунштюк человеческой музыки! Теперь и здесь в Николаевском госпитале нет убежища для несчастных… Придется, пожалуй, строить бараки на южной… – И он медленно повернулся и пошел к своей койке. Я пошел за ним.
На меня тяжело подействовало его замечание, что теперь и здесь нет «убежища». Спрятаться негде и некуда тем, которые уже пострадали. И это мне представлялось тогда, да и теперь представляется, верхом бесчеловечия.
Через пробоину теперь резче раздавался гром выстрелов. Они гудели в больших, высоких палатах госпиталя, то усиливаясь, то снова ослабевая.
Я помню, подумал тогда: отчего же им еще более не усилиться? Отчего не подняться, наконец, этой волне во весь рост и не залить всего «темного пути», и мне снова вспомнились ее слова: «О если бы было в моих силах подложить искру в этот черный грязный шар, который люди зовут землею. Если б от этой искры он вспыхнул, как порох, и разлетелся бы вдребезги! О! Какое бы это было наслаждение!» И я вспомнил ее дикий, истерический хохот.
Я взглянул на Миллинова.
Он сидел задумавшись, и на его лице было столько кроткого, ясного покоя, что я невольно подумал: «Вот душа, в которую не доходят и не могут зaплeснуть ее волны „темного дела“»!
Почти всю эту ночь мне не спалось. То, что мне высказал Миллинов, утянуло меня мало-помалу. И чем более я вдумывался в это громадное значение эгоизма, тем более он мне представлялся всем корнем зла, которое порождает «темное дело».
«Если бы, – думал я, – все больше заботились о других, чем о самих себе, то все приняло бы другой вид и другое направление. Исчезли бы бедность и тщеславие, братоубийство и буржуазия… Да разве это возможно!»
Помню, пред рассветом мне привиделся сон, который сильно взволновал меня. Я видел Лену, светлую, блестящую, сперва в каком-то далеком тумане. Но потом я вижу, что я лежу больной, раненый, а она наклонилась надо мной и плачет. Я хочу сказать ей: «Лена! Дорогая, милая, мы опять вместе!» Хочу обнять ее и не могу. И руки, и ноги мои окутаны черным флером. Я плачу, рвусь к ней и не могу пошевелиться.
От сна разбудил меня Миллинов.
– Вы стонете и плачете-с, – сказал он. – Должно быть, видите тяжелый сон, а проснуться не можете, это иногда бывает-с, если на спине лежа спишь.
LXXIII
Сон этот имел странное влияние на мои чувства. Они точно раздвоились. С одной стороны, мне представлялось что-то тихое, покойное, светлое, и все это олицетворялось в моем представлении в виде Лены и Миллинова. С другой – «темное дело», «темный путь» и она, с ее мучительными, жгучими черными глазами и вся закутанная непроницаемым черным флером.
Я очень хорошо понимаю, что то и другое представление были болезненны. Это было следствие, может быть, моей раны или возбужденного состояния. Странно то, что вместе с этим чувством ко мне вернулось и то первое впечатление тяжелого кошмара, которое прежде производили во мне ее глаза. Но всего страннее, что тот престиж, тот ореол страдания, которым была окружена она в моем представлении, исчез. Воспоминания и мысль о ней сделались теперь чем-то неприязненно тяжелым, мучительным, и это мучительное прямо из моего сердца смотрело на меня неподвижными голубыми глазами умирающего Туторина.
«Зачем я убил его?!»
«Да разве я убил его?!»
Через два дня Миллинов выписался из госпиталя.
На соседнюю койку положили какого-то офицерика, пустого и глупого, который до тошноты надоедал мне своей болтовней. Он хвастался своими любовными подвигами и победами, которые он будто бы совершал в Курске, хвастался своими поместьями, рысаками, гончими, оранжереями, лесами, лугами, наконец начал рассказывать о своей лошади Джальме, которая может живых раков есть.
– Так, знаете ли, ей дадут, она за хвост возьмет, и гам!.. Проглотит совсем живого.
Я на другой же день сбежал от этого надоедника, выписался из госпиталя и отправился к себе, на Малахов.
Это было рано утром, и только что я вошел на наш бастион, как оглушительный выстрел встретил меня и густое облако дыма покрыло всю мою батарею.
– Вот тебе! Получи и распишись! – кричал четвертый батарейный Иван Кисов – солдатик-юморист. – И у нас есть маркела!.. Сама прет!
– Что это такое? – спросил я, подходя к батарее.
– На попа, Ваше-бродие.
– Что такое на попа?
Я обратился к комендору.
Но прежде необходимо объяснить, что численное превосходство в орудиях, и в особенности в мортирах, у неприятеля было громадное. И вот против этой-то беды ухитрился придумать средство наш русский солдатик.
Я подошел к площадке батареи. В ней была вырыта довольно большая яма и на дне ее плотно вбита в землю казенная часть от неприятельского орудия. Вот этот простой снаряд и служил импровизированной мортирой. Из нее стреляли брандекугелями «на попа». Но что означало это «на попа» – я не мог добиться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.