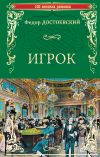Текст книги "Тёмный путь"
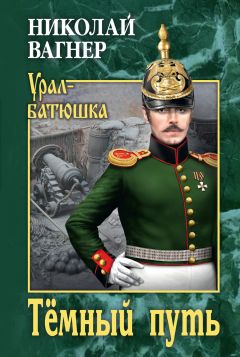
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц)
LIV
Глушков бойко шагал вслед за своей артиллерией.
– Теперь, если они засели… – соображал он, подойдя к Вишнякову, – то непременно надо артиллерией.
– Ну что-ж! Чем-нибудь, да только бы донять. – Шагов на сотню от церкви мы остановились.
Глушков со своей артиллерией выдвинулся вперед, встал на позиции и скомандовал заряжать.
Зарядили картечью. Выпалили из одной пушки, выпалили из другой, и вслед за тем раздалось несколько выстрелов из окон церкви, которые были довольно высоко от земли. Но пули прожужжали мимо и никого не ранили точно так же, как наша картечь попортила только церковные стены.
– Господа! – вскричал Квашников. – Приступим вплотную и разобьем двери.
– Какой разобьем, – сказал один из мирных, которые следовали за нами. – Куда разобьешь! Он камня таскал… еще вечер… третий день таскал… Камень не разобьешь.
Но мы все-таки не поверили, подошли к тяжелым массивным дверям и пробовали разбить их прикладами. Но приклады глухо звенели. За дверьми, очевидно, не было пустоты. Да и разбить массивные двери была не легкая работа.
– Знаете ли, – посоветовал Глушков, – запалить бы. Во время военных действий это дозволяется…
Квашников замахал руками.
– Куда вы! Что мы за варвары… будем жечь живых людей. Вот что! Эй! Кудимыч!
К нему подбежал грудастый вахтер.
– Давай гранаток!
– Слушаю, ваше…бродие.
Квашников взял гранатку, зажег фитиль, раздул и, подкравшись под стеной к окошку, с размаху швырнул ее в оконницу.
Сперва зазвенели стекла, затем грянул выстрел, и вслед за ним поднялась возня, визг, стоны, крики…
– Ага! Тараканы!.. Не любишь! Давай еще!
И он запалил другую гранатку.
– Надо с другой теперь стороны.
Он побежал на другую сторону церкви и бросил другую гранатку. И опять, вслед за выстрелом, зазвенели отчаянные стоны и проклятия.
– Ну-ка! Теперь Господи благослови в алтарь треснуть. Они теперь, чай, все, собаки, в алтарь попрятались!
И с новой гранатой он подкрался к среднему окну алтаря и запустил ее в окно. Раздались опять крики, но уже слабее.
А Квашников раздувал фитиль четвертой гранаты и, раздув, отправил ее вслед за последней. Выстрел грянул, но за ним уже не раздалось ни криков, ни стонов. Наступило мертвое молчание.
– Теперь, чай, надо выломать двери? – сказал Квашников и посмотрел на нас вопросительно.
LV
Солдаты добыли бревно. Со всеми стараниями принялись они его раскачивать и с размаху колотить им в двери.
Через полчаса они были разбиты. Одна половина совсем рухнула на лежащие сзади камни. В другой была широкая пробоина.
Когда солдаты очистили вход и разобрали камни, мы вошли и в изумлении остановились на пороге. Страшная картина представилась нам.
Сквозь волны неулегшегося порохового дыма то там, то здесь виднелось более двухсот человек раненых или убитых, наваленных друг на друга. Везде на полу стояли лужи крови. Весь иконостас был разбит и забрызган кровью. Один осколок гранаты разбил паникадило; другой ударил прямо в лик Спасителя, и на месте лика образовалось темное безобразное пятно.
«Баталык»! – подумал я. И стало мне обидно больно и за себя, и за человека.
Квашников первый отошел от порога и подвинулся к средней группе, которая была навалена у левой стены церкви.
Вдруг из этой группы раздался выстрел, и пуля оборвала его эполет. В то же мгновение несколько солдат бросилось с ружьями наперевес, отыскали виновника выстрела и закололи его.
Это был юноша лет семнадцати. Я невольно остановился и заглянул ему в лицо, удивительно красивое, правильное, с прелестно выгнутыми черными бровями.
Обеими руками он схватился за грудь, на которой зияли четыре страшные штыковые раны, и руки окостенели в этом положении. На полу валялся длинный пистолет в серебряной оправе, из которого он выстрелил.
В алтаре были тоже навалены груды тел. Стены его пестрели пробоинами. Вершинка запрестольного креста была отбита. Пахло порохом и кровью.
Вдруг покров престола приподнялся, и из-под него начал вылезать седой дряхлый старик. Солдаты было кинулись к нему со штыками, но Красковский остановил их.
Старик прямо пошел на нас, размахивая руками и бормоча какую-то бессмыслицу, в которой постоянно слышалось: Алла! алла! алла!
– Это сумасшедший! – кто-то тихо сказал позади меня. Я обернулся.
– Да! Попадешь в этакую кашу, так невольно сойдешь с ума, – сказал со злостью Боровиков.
– «Баталык!» – сказал я невольно с нервной усмешкой и вдруг почувствовал, как пол начал качаться у меня под ногами, и сильная дрожь охватила меня всего с головы до ног.
LVI
Как мы возвратились в крепость, или, правильнее говоря, как меня довели или донесли до крепостного лазарета – не помню.
Вероятно, от бессонной ночи под открытым небом, от волнений и, наконец, от потери крови со мной сделалась жестокая кавказская лихорадка.
Помню, в бреду, мне представлялись чаще всего груды окровавленных наваленных тел, ручьи крови и все это сквозь синий пороховой дым.
От острого, кислого запаха этого дыма я не мог избавиться. Он мне чудился везде, точно воздух, осевший, чистый воздух, был пропитан насквозь этим противным запахом пороха и крови.
По ночам мне грезился седой сумасшедший старик, с прыгающими глазами. Он будил меня, прерывал мой сон страшным словом: «Баталык!», которое раздавалось где-то там, в глубине моего больного сердца.
Раз мне представилась Лена. Она сидела со мной, исхудалая, но довольная и смеющаяся. Я со слезами целовал ее руки, и эти слезы бежали из моих глаз даже тогда, когда я проснулся.
Был уже светлый, ясный день. Было поздно. Вошел Семен Иванович и подал мне письмо от Лены.
– Вот вам, может быть, лекарство! – И он отправился с письмами дальше.
Я схватил письмо дрожащими руками, распечатал его и начал читать с жадностью.
Вот что, между прочим, писала мне моя дорогая:
«…Таким образом, следствие кончилось. Бархаевы удовлетворены, и на твоей совести оставлен ложный донос. Я удивляюсь одному, той смелости, ловкости, с которой Бархаевы умели вывернуться из обвиняющих их улик и схоронить все концы в воду. Правда, говорят, что это им порядочно стоило, но ведь их это не разорит. Сколько у Калима Бархаева денег – никто не считал, но говорят, что всю торговлю с Востоком он мог бы вести один на свои миллионы…»
LVII
В письме Лена описывала мне тот загородный дом на даче Бархаевых, где, по всей вероятности, была убита моя бедная мама. Она вместе с Надеждой Степановной пробралась в этот дом благодаря подкупу и стараниям одного чиновника из следственной комиссии.
«Представь себе, – описывала Лена, – низенький дом, обнесенный толстым частоколом, точно острог. Он двухэтажный, но нижний каменный этаж с толстыми стенами и сводами до половины врыт в землю. Весь дом стоит в лесу, и к нему ведет только узенькая малопроезжая дорожка. В верхнем и нижнем этажах – большие залы, точно для каких-то вечеров. В особенности меня поразила одна зала в нижнем этаже. Потолок у нее также сводом, но не знаю почему, наклонен в одну сторону.
Все стены выкрашены зеленой масляной краской. В одной стене небольшая ниша, и в ней как бы маленький жертвенник, покрытый зеленым шелковым чехлом…»
При этом описании у меня закружилась голова. Это была именно та зала, которую я видел во сне.
«Все наши старания, – писала Лена, – узнать, для чего служила эта зала, кончились ничем. Татарину-дворнику мы дали десять рублей; он взял, поблагодарил, но на все наши вопросы, отвечал: бельмем!»
«Господи! – подумал я. – Если бы я был там, я ухватился бы за этот жертвенник, за этого проклятого бельмема, я все бы разузнал, разведал!..»
Но, очевидно, это было только волнение юной крови больного человека. Впоследствии из рассказов Лены я убедился, что она с матерью сделали все, что было в их средствах, и все оказалось безуспешным.
«Нет худа без добра, мой дорогой, – заканчивала Лена. – Я утешаюсь тем, что теперь нам руки развязаны. Мы наконец свободны и на будущей неделе полетим к тебе. Нас пугают осенними дорогами, распутицей, но что же значат дороги, когда хочется ехать? Притом дорога к милому всегда, во всякое время, во всех странах света будет хороша!»
LVIII
Я много думал над этим письмом.
Взятка, следовательно, сделала свое дело. И мы, мы, «великие россияне», как говорил Квашников, пойдем прививать это владычество взятки на вершины Кавказа. Мы развратим нашим хапаньем этих мирных, горных детей, которые живут теперь так патриархально и не знают, что значить подкуп.
И мне опять представился «баталык». Груды тел в мирной Божьей церкви! Кровь! Разбитый иконостас… И обезображенное лицо Того, Кто выгнал из храма продажных торговцев, осквернивших Его своей торговлей!
Какой страшной, дорогой ценой покупается это отвратительное право хищенья, разврата, грабежа!
И мне в первый раз стали тяжелы моя служба и мои товарищи.
А тут кругом шел постоянный пир. Все офицеры после отражения нападения 5 и 6 октября пировали во всю ивановскую. Цимлянское лилось рекой. К нам наехало много офицеров из соседних лагерей и крепостей.
Все толковали о наградах, которые получат защитники крепости.
– А вы, бескорыстный? – острил, обращаясь ко мне, Боровиков, когда я выписался из лазарета. – Как бы ни отличились, все равно… Без выслуги!
Через месяц получились награды. Всем были даны кресты, чины; даже Глушков повесил Анну на шею, а Квашникову дали Георгия в петлицу, что произвело общий ропот.
– Помилуйте, – говорили наши полководцы. – Мальчишка! Явился случайно из соседней крепости… и вдруг! Георгия 4-й степени! Странно!
– Ничего нет странного, господа! – возразил Боровиков. – Я прямо скажу: если бы Квашников не отвоевал вам крепостные пушки и гранаты, то, может быть, теперь мы все были бы изрублены.
– Это верно! – подтвердить Винкель.
И все на этом успокоились.
LIX
Наконец праздники кончились. Наступило затишье, все разъехались, и пошла обычная жизнь – до невозможности скучная.
После всех сильных ощущений нервы сразу опустились. Потянулись обыденные томительнийшие вечера: карты и кахетинское, кахетинское и карты.
Для развлечения усмиряли мирных, которые примкнули к немирным, разоряли целые аулы или, правильнее говоря, разгоняли и мирных, и немирных в леса, захватывали у них скот и даже джигитовали не хуже настоящих джигитов. И все-таки было невыносимо скучно, по крайней мере мне.
Каждый день по нескольку раз я выходил на крепостную стену, туда, где открывалась даль и убегала дорожка в ущелье.
Вот-вот, казалось мне, пыль поднимается по этой дорожке, а за ней покажется и дормез, а в нем мое счастье, в нем моя жизнь.
Но пыль, поднятая ветром, улегалась. Начинал кропить частый осенний дождь. Ветер и холод все больше и больше крепчали.
В одно утро все вершины покрылись снегом, который пролежал на горах до полудня. В воздухе пусто, холодно, тяжело, а на сердце… на сердце налег какой-то непроглядный туман.
Ожидание и тоска наконец измучили, истомили всю душу. Порой, когда я сидел, закутавшись в бурку, на крепостной стене, мне казалось, что все кругом, вся жизнь – какой-то смутный, глупый сон… «Пустая и глупая шутка!»
Ну что же! Приедет она, промелькнут восторги, уляжется любовь, и останется одна тоска. Нервы опять опустятся. И вся жизнь, вся сложена из этих постоянных волн: то трепет страсти, то скука и тоска будничной халатной жизни.
Впрочем, вспоминать теперь об этой далекой поре, а тем больше придавать какое-то значение этим воспоминаниям, право, неумно и невесело, а главное – никому не «занятно»!
LX
Перехожу к делу, или, правильнее говоря, к действительному, реальному горю.
Всю мою тоску я приносил к моему верному милому другу, к сердечной и любящей Марье Александровне.
Она говорила мне о суетности земной жизни, о непрочности земных привязанностей и всегда убеждала меня, что центр всего там, в той высшей жизни.
– Если бы люди узнали это, то поверьте, что совсем бы изменили свою жизнь… Со всеми все было бы иное.
– Но, добрая моя Марья Александровна, люди и теперь знают это, но очень немногие, которые составляют исключение. Следовательно, вы хотите, чтобы исключение сделалось общим правилом. Но согласитесь, что если бы такой взгляд сделался общим, нормальным, тогда все бы отреклись от земного и пошли бы в монастыри.
– Ах нет! Зачем же в монастыри?!
И мы спорили с ней тихо, кротко целые вечера, и я всегда уходил от нее успокоенный и освеженный. Она учила меня терпению и самообладанию. Самая личность ее, ее кроткий, любящий взгляд, ее тихая улыбка и простые, сердечные речи дышали необыкновенною ясностью и невольно навевали покой на сердце.
В исходе ноября, когда тоска сделалась невыносимой, когда более месяца я не получал от Лены ни одной строчки и считал ее уже погибшею (по крайней мере для себя), одним словом, когда участие такого друга, каким для меня была Марья Александровна, мне было совсем необходимо, – вдруг легкая простуда укладывает ее в постель.
Мы не обратили сначала на болезнь должного внимания. Василий Иванович уверял, что опасного нет ничего, что это даже не кавказская лихорадка. К сожалению, тогда еще не существовало определения болезни термометром.
– Мы вам пропишем хининки да малинки, укройтесь хорошенько, напарьтесь вплотную, и всю простуду как рукой снимет.
Но хининка и малинка оказались недействительными. На третий день явился сильнейший жар с бредом, и сам Василий Иванович задумался.
– Откуда бы? С чего бы? – удивлялся он. – Вдруг нервная горячка! Просто ума не приложу! – И он пожимал плечами.
В те времена тиф еще называли нервной горячкой.
LXI
Павел Николаевич Лазуткин, муж Марьи Александровны, был штабс-капитан, угрюмый, молчаливый, серьезный, и эта серьезность невольно передавалась и жене его.
Он сделал консультации, выписав доктора из Тифлиса. Но что же мог сделать самый лучший доктор в той болезни, от которой в то время еще не умели лечить?
Мы все, крепостные жители, попеременно дежурили в доме больной или около дома. Даже карточные вечера прекратились, и у всех был один и тот же вопрос и в уме, и в глазах. О нем толковали мы в каждом доме. И каких только средств и предположений не было предложено и высказало!
– Она, господа, простудилась, непременно простудилась… Помните, в тот вечер… по легкому морозцу в легких башмачках. Фьють!
– Помилуйте, какое же простудилась! Тут чисто нервное расстройство… напряжение было дьявольское… Ведь вы вспомните только, что она всю ночь не смыкая глаз продежурила в лазарете. Все операции были сделаны в ее присутствии. Тут, я вам скажу, и с здоровыми нервами не выдержишь…
– Ну где же?.. Полноте! Нет!
И такие пререкания шли без конца, а болезнь между тем не дремала и делала свое дело.
Наступил кризис, и в это время я вполне убедился, что мы все, все офицерство (и я в том числе, хотя и не принадлежащий к нему) искренно и горячо любили Марью Александровну.
Мы все собрались в квартире Лазуткиных, все, даже наш мастодонт Бирюков, и все с трепетом ожидали решения участи «нашей» больной. Да! Для всех для нас она была близкая, родная…
Откуда берется у нас, у русских (или, по крайней мере, в то время бралась), эта любовь ко всему доброму и ясному?
Кризис совершился, и болезнь победила.
Грустные, с тяжелым чувством мы разошлись один за другим. Надежда умерла!
LXII
Перед самой кончиной, может быть за полчаса, она пришла в себя. Она узнала меня, мужа, Винкеля, Красковского.
Я никогда не забуду выражения ее лица, до того оно было торжественно, сияющее, точно какая-то радость, кроткая, восторженная, лежала на нем. И все оно было точно светлое блестящее облачко на ясном закате летнего вечера.
Это выражение сохранилось на ее лице и после смерти.
Она умерла тихо, покойно, точно уснула.
Павел Николаевич и я не отходили от нее. Я помню, как он нагнулся к ней после того, как она застонала, и вдруг приподнялся, выпрямился, обернулся ко мне и провел рукой по лицу.
– Кончено! – сказал он. – Отправилась!
И он перекрестился большим крестом и тотчас же вышел из комнаты.
Я также машинально перекрестился и подошел к покойнице.
Я очень хорошо помню, да, кажется, никогда и не забуду того странного чувства, которое, словно тяжелое, темное облако, надавило, облегло меня со всех сторон, когда я взглянул на ее лицо.
Это не была жалость. Это было чувство какой-то неизобразимой пустоты, одиночества. Мне было все равно: будет ли жить мир, люди или сейчас все погибнут и все разрушится, исчезнет как тяжелый и глупый сон.
Одно помню в особенности ясно. Когда я смотрел на торжественно-радостное, кроткое, милое лицо покойницы, мне чудилось в этом лице что-то совсем иное, отличное от всего, что меня окружало. Оно было из какого-то другого, желанного мира, но этот мир и был мне тогда недоступен.
Резкий, глухой голос Лазуткина послышался в зале. Он чем-то распоряжался, что-то приказывал. Для меня было все равно – и стоит ли хлопотать о чем бы то ни было?
Помню, вбежали женщины, раздался женский плач, визг и вой. Вошел Винкель и тоже заплакал. За ним следом вошли Красковский, Семенов, Вырлин, Туманский, вошли с печальными, угрюмыми лицами, и некоторые также тихо заплакали. Помню, как молодой юнкер Бисюткин вбежал, взглянул на покойницу и вдруг обернулся ко мне, посмотрел на меня как-то изумленно и, обняв меня, зарыдал как ребенок.
Я тихо освободился из его объятий, повернулся и вышел вон.
Мне было все равно. Пусть плачут, страдают, мучатся в этой глупой жизни, в этом нелепом мире!
Я вышел из дому.
LXIII
Унылый ветер дул с гор. Сырой, холодный, густой туман, или, лучше сказать, облака неслись по земле, закрывали даль, снова расходились.
И там внутри, по сердцу, проходили тоже какие-то холодные, тусклые облака.
Не помню, как я очутился на крепостной стене и как долго я пробыл на ней. Только я очнулся, когда уже начало смеркаться.
Сам ли я надел на себя бурку или кто-нибудь догадался на меня надеть, не знаю.
Я очнулся от глубокого забытья, и помню, испугался этого забытья. Несколько часов бесследно исчезли из моей памяти. Я как будто проснулся от тяжелого сна к тяжелой действительности и пошел опять к Лазуткиным.
Покойница лежала на столе в белом кисейном платье. Несколько офицеров хлопотали около ее гроба.
Они тихо возились, говорили шепотом, чуть слышно стучали, точно боялись разбудить навек уснувшую.
Достали откуда-то розовой шелковой материи, достали узенький черкесский серебряный галун и тихо обивали небольшой гробик.
Посреди залы, боком к покойнице, сидел Лазуткин, опустив бессильно руки и молча повесив голову, смотрел на их работу.
Я помню, как меня поразило выражение его угрюмого лица, с густыми, но коротко обстриженными усами, в которых уже пробивалась сильная седина. Мне показалось это старческое лицо каким-то детски-кротким и беспомощным. И я, помню, еще подумал тогда:
«Она научила его терпеть и страдать…»
Двери тихо отворились, и вошел Гигин, муж бедной «хохотушки». (Он не более как с час тому назад вернулся из Бурной.)
Молча подошел он к Лазуткину. Молча приподнялся Лазуткин. Они подали друг другу руки, молча посмотрели друг другу в глаза, и добряк Гигин припал к плечу старого боевого товарища и заплакал как-то сдержанно, неслышно. Только маленькая, толстенькая фигурка его вся вздрагивала, и вздергивались судорожно плечи.
Лазуткин обнял его и увел в другую комнату.
«Оба осиротели!» – подумал я, смотря им вслед. И не жалость, а какое-то нехорошее, злорадное чувство промелькнуло в моем потемневшем сердце – чувство довольства, что я не одинок в моем страдании… А какое же это было – мое страдание?!
LXIV
Я поместился в темном углу залы и оттуда смотрел на то, что делалось кругом. Но я в то же время чувствовал, что это созерцание было совершенно пассивно и что мне нужно много усилий, чтобы понять то немногое простое, но весьма печальное, что творилось кругом меня.
Вскоре и то немногое, что я понимал, стало для меня неясным. Я потерял временно сознание и погрузился в какой-то туман, из которого затем ничего не мог припомнить.
В первом часу ночи Винкель подошел ко мне и толкнул меня, спросив тихо:
– Ты спишь?
Но я не понял его. Я даже не узнал его.
Затем помню, как двое каких-то офицеров взяли меня под руки и отвели меня в мою квартиру. Помню, что во мне не было ни воли, ни желания сопротивляться им. Я сделался полным автоматом.
На другой день я точно так же автоматически, бессознательно снова отправился к Лазуткиным и просидел там в углу на стуле до поздней ночи. Впрочем, об этом мне рассказывали уже потом, а сам я постоянно был в бессознательном состоянии.
Как сквозь сон я помню похороны, помню ту минуту, когда все засуетились, стали опускать гроб в могилу.
Но все это только проблески сознания, самые мгновенные, после которых я снова погружался в мою апатию.
Наконец и эти проблески исчезли. Наступила темная ночь, и над моим состоянием немало тогда поломал голову наш простой и добрый Василий Иванович. Этот странный психиатрический процесс тянулся уже пятые сутки. Все средства тогдашней медицины были истощены.
Меня кормили насильно, вливая мне бараний бульон в рот сквозь стиснутые зубы. Грудь и спина были растравлены мушками. Макушка головы была выбрита, и на нее капали холодную воду. Но все было напрасно.
Мое сознание, мое психическое лицо не возвращались. У меня осталось и до сих пор воспоминание о моих жестоких физических страданиях, но что и как совершалось со мной тогда, я положительно не сознавал и не могу припомнить.
Только долго спустя один доктор-москвич, психиатр, поклонник Кленке, объяснил мне все развитие моей болезни и указал, как медленно, тяжелыми психическими толчками, она развивалась.
Наконец недели через две, когда меня собрались уже везти в Тифлис как безнадежно больного, вдруг приспело мое неожиданное спасенье.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.